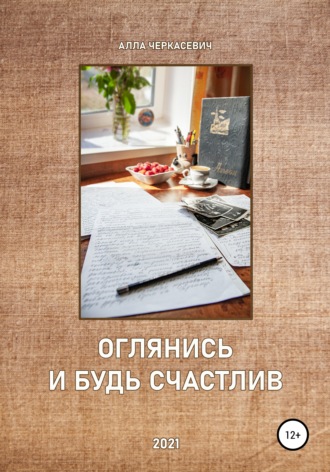
Алла Черкасевич
Оглянись и будь счастлив
В июле 1940 года появилась на свет Она – дочь Ольга Петровна! Это был не ребёнок, а кукла; очень похожа на Петра: круглолицая, с мягкими тёмно-каштановыми волнистыми волосами, раскосые глаза – вишенки над высокими скулами; как вскинет вверх полукруг длинных чёрных ресниц, да улыбнётся – сплошное очарование!
В этом же 1940 году был призван в Красную Армию Клевцов Фёдор Карнеевич с присвоением воинского звания «младший сержант» и специальностью «наводчик».
Война
Погода в июле, как обычно, стояла прекрасная: ласковое солнце чередовалось с мягкими дождями. Взошла, но ещё не цвела картошка, разными оттенками зелёного радовало взгляд поле: и рожь, и лён…
В один из погожих дней лица взрослых стали встревоженными. Пришла весть: «Немец напал на Советский Союз». «Опять немец», – думал Никита, в глубине души надеялся, что тот самый немец как пришёл, так и уйдёт.
Председатель колхоза передавал директивы правительства об эвакуации. Для начала решили перегонять на восток скот.
Колхозных коров и коров с крестьянских подворий согнали в стадо. От Косище гнать коров назначили Броню. Совсем девчонка… Никита не пустил дочь. Сам погнал стадо за Куритичи. Вскоре стадо стало объединённым. От Куритичей пастухом был зять Пётр. Доходили слухи, что советские войска отступают. Тревожно и шумно было в округе. Пастухи ждали дальнейших указаний. На несколько дней всё замерло. Никакой суеты: тёплые дни, звёздные ночи, постоянно жующие коровы.
Однажды днём тишину векового леса и маленькой деревеньки разорвал металлический треск. Дети бросились в рассыпную, и все жители затаились. По песчаной улице быстро передвигались какие-то механизмы, а на них сверху сидели и не падали?!, люди в невиданной одежде и круглых железных шапках (касках). Местные говаривали, что немцы в Бабуничах «были на третий день». Немцы сразу обнаружили большое стадо коров. «Не хорошо получилось», – осознавали двойственность ситуации пастухи, как будто для немцев коров пригнали. Немцы обрадовались хорошему молочно-мясному стаду, отблагодарили пастухов. Дали каждому по корове. Никита привёл в своё селище очень хорошую белую корову. Больше всех корове радовалась мать Ганна и Олька.
Немцы ушли дальше на восток. Крестьяне жили в полном неведении. Страх Петра перед наказанием советской властью за то, что отдал (сдал) врагу колхозных коров, понимая, что этот поступок будет расцениваться как предательство, родил в его голове неверный план. Решил Пётр и друг-сельчанин, что пощады от советской власти им не будет, поэтому надо идти, догонять немцев. Поздним вечером Пётр поднял на руки Оленьку, а для Устиньи произнёс: «Ничего не жалей, береги только её – доченьку, только её…». Под покровом ночи, в тайне от сельчан, двое мужчин покинули Куритичи. Через двое суток их остановил немецкий патруль, никто не стал выслушивать их невнятные объяснения, отправили в тюрьму в Бобруйск. Слухи не заставили себя долго ждать. Спустя пару месяцев соседки насоветовали Устинье сходить в Бобруйск и вызволить (или выкупить) Петра.

В один из осенних дней Устинья и жена друга Петра пришли в Бобруйск, нашли не тюрьму, а лагерь пленных. Намцы не желали слушать местных крестьянок. Женщины вернулись в Куритичи не солоно хлебавши. Что случилось с Петром и другими пленными остаётся только догадываться. Их или расстреляли, или заморили голодом и нечеловеческими условиями. Пётр погиб. Устинья осталась одна без мужчины-работника, без мужа – опоры, без хозяина. Первые два года войны немцы сильно не свирепствовали. У них были другие цели: Москва, юг России. Но власть на оккупированной территории укрепляли, для порядка, вербовали в полицаи. Несколько односельчан Никиты с готовностью переоделись в полицаев. И Никите предлагали пойти на службу к немцам по причине ненависти к большевистской власти, колхозам и откровенным грабежам; радовались: мол, наступило наше время. Никита ответил одному из них по имени Михаил: «Ходил ты в лаптях, в лаптях и останешься». Никита не понаслышке знал немецкий характер, их «щедрость» и жестокость. Но мальчишкам было не усидеть в хате. Бегали везде, где хотели. Зимой, в начале 1942 года, понесло ватагу мальчишек к хоздвору немцев, к отхожей или отбросовой яме, к которую немцы сливали отходы от кухни, бойни коров, свиней. Голодные наивные «хлопчики» думали разжиться свиной ногой. Но немецкие овчарки не потерпели конкурентов, бросились на мальчишек. Миша, как и все побежал, но упал. Собаки, науськиваемые немцами, рвали одежонку хлопчика, пытались прокусить старый кожушок.

Натешившись, фашисты отозвали собак. Ободранный и покусанный Миша пришёл в хату. Никто особого внимания на него не обратил, никто с ним не заговорил. А меж тем, ужас пережитого нападения надломил психику мальчишки, он даже стал заикаться, поэтому больше молчал. Ох, неспокойно было в деревне и на душе у Никиты.
А ещё, некстати, подросла красавица Бронислава. Как назло, влюбился в неё полицай Игорь: злой и наглый; заявил, что придёт и силой заберёт её. Никита, недолго думая, ночью собрал всё добро и с семьёй тайком ушёл в лес. Первым из Косище ушёл в лес. Никита построил землянку (курень) и там прожил с семьёй почти год. За это время два двоюродных брата Никиты вступили в полицию, и Никите предлагали вступить в их ряды. Немцы выдали сапоги, чем братья очень гордились. Но Никита наотрез отказался и выгнал их прочь. В лес стали переселяться многие семьи. Организовывались партизанские отряды.
В 1942 году семья уже жила в лесу. Из леса приходили в Косище, вернее Ольгу посылали партизаны. Пропускного режима ещё не было, немцы не отслеживали перемещение местных крестьян. Кого смогли поймать в Косище, тех сгоняли на работу в Оголицкую Рудню. Восстанавливали насыпь, шпалы, случалось, ночевали в казармах. Просьба партизан заключалась в подсчёте железнодорожных составов, проходящих через станцию. Оля про себя хмыкнула: «Подумаешь, задание». Сосчитала: «Восемь». Сведения в отряд передавал Никита, или Дед, как называли его партизаны.
Шёл 1943 год. Немецкая армия потерпела поражение под Москвой и Сталинградом. В тыл к немцам стали забрасывать коммунистов для организации партизанской борьбы. 26 мая 1943 года каратели напали на деревню Бабуничи, где размещалась партизанская застава 125-ой Копаткевичской бригады. Партизаны приняли бой, но вынуждены были отступить. Гитлеровцы полностью сожгли деревню. Погибла в этом пламени мать Никиты – Прасковья.
27 июля 1943 года отряды Болотникова (И.Н.Глушко) и М.Ф.Бобкова передислоцировались в Петриковский район для организации 130-й Петриковской бригады. (О боевых подвигах белорусских партизан написаны книги). А в военные годы уроженец деревни Бабуничи Иосиф Никифорович Глушко, партийный и хозяйственный руководитель Могилёва, выполнявший поручения Минского обкома партии об организации партизанских отрядов, назвался Болотниковым, чтобы никто не догадался о настоящем имени командира отряда, и не уничтожили родных.
Никите Иосиф приходился двоюродным братом, был сыном Никифора, родного брата Василия. У Никифора, по обыкновению того времени, было тоже много детей: старший Ефим – лётчик, Евпатий – учитель (погиб в Отечественную войну), Иосиф Болотников – командир 130-й Петриковской партизанской бригады, и дочери: Степа, Ольга, Ирина, Ганна, Гаша (долгие годы учительствовала в Бабуничах).
Никита ничего не знал о Болотникове. Взаимодействовал с партизанскими отрядами М. Ф. Бобкова и 133-м отрядом Артюха П. И. Наиболее часто взаимодействие сводилось к поставке провианта для партизан. Никита отдавал, что мог: картошку, хлеб, который пекла Анна. Отрывали от себя, дети постоянно хотели есть.
Однажды, по приезду на своей телеге с гнедой лошадью к партизанам, Никита, как и прежде привёз хлеб, картошку. К нему подошёл командир с мужчиной, одетым в военную форму. Никита смекнул, что это советский командир, высокого звания, и говорил он грамотно на русском языке. Заброшенный в партизанский тыл, командир Красной Армии, благодарил Никиту и дал бумагу с печатью, сопроводив её словами: «Дед, после войны тебе по этой бумаге будет награда»…
В один из дней Никита взял с собой Олю, запряг лошадь, и поехали они в Куритичи поменять сено на какую-нибудь еду. Немцы встретили их в лесу и учинили допрос: «Кто такие, куда держите путь?» Никита с лёгкостью вспомнил немецкий язык, объяснил офицеру, что едут из Рудки (Оголицкой Рудни). Немец достал карту и уточнил маршрут: «Не лгут ли?» Рудка – Яблоня – Каминец, и так до Куритичей. Убедившись в правдивости слов Никиты, офицер выписал им пропуск, солдаты проверили штыками всё сено в телеге; отпустили. Никита с дочерью не выдали свою Яблоню. Но, когда пришли назад в лес, то землянки уже сгорели. Каратели сожгли всё дотла. После того, как Никита с Ольгой уехали в Куритичи, Ганна взялась печь хлеб. Вскоре началась облава. Мать сунула Мише документы и велела бежать. Миша с Иваном бросились на утёк. Жалко Ганне было бросать свежий хлеб, пока она его достала, ребят и след простыл. Люди разбегались в разные стороны, свистели пули, горел лес, землянки. Случилось так, что мать и Броня побежали в противоположную сторону от Миши и Ивана. Мальчишки бежали по лесу изо всех сил. Слышался лай овчарок. Страх гнал ребят, лай всё ближе. Братья чувствовали, что выдохлись. Миша сунул льняной мешочек с документами под пень, чтобы немцы не схватили их с уликами. Братья пробежали ещё немного, попали в какое-то болотце с раскидистыми соснами и елями, залезли на деревья и замерли. Собаки лаяли неистово. Каратели шли цепью. Буквально в нескольких метрах прошли от мальчишек. Долго братья сидели на деревьях. Уже стих лай собак. Стемнело. Мальчишки слезли с деревьев, и не понимали, где они находятся, куда идти. Сели на корточки, прижались друг к другу и тряслись от страха и от холода. Вода в болотных «копытцах» покрылась тонким льдом. (Ноябрь 1943 года). После облавы люди стали возвращаться к своим пепелищам. Крадучись подошли Анна и Броня. Никита стал осматривать землянку: «Где-то надо переночевать». Землянка не обвалилась, все туда забились. Но нарастала тревога: «Где же сыновья?». Никита не выдержал, пошёл искать. Много часов Никита бродил по тёмному ноябрьскому лесу: «Неужели сынков разорвали собаки, или их забрали каратели?» Никита кричал, звал Мишу и Ваню. В какой-то момент в ледяном лесу по-звериному чуткий слух Никиты услышал слабый стон. По звенящей ледяной земле Никита быстро дошёл до места звука. Мальчишки не шелохнулись. Никита стал причитать, схватил их на руки и, не помня себя, пошёл к Яблоне. Их встретила полу обезумевшая от страха и тревоги мать Ганна. Мальчишек отогрели, но взгляд Миши оставался по-прежнему неподвижным, ужас пронзил всё его тело. Спустя время у Миши спросили: «Где документы?» Неуверенно, заикаясь, Миша рассказал, что сунул мешочек с документами по пень. Когда расцвело, Никита с Мишей пошли по пути бегства искать документы. Ничего не нашли… пропали метрики детей, благодарственное письмо от советского командира. Решили, что овчарки выкопали мешочек, а немцы забрали документы.
Оккупанты отчаянно искали партизан, считали партизанами всё местное население, жгли деревни. В мае 1943 года немцы сожгли Куритичи. По деревне быстро разнеслась весть об облаве. Устына схватила дочь Вольжечку на руки и через люк спустилась в подпол. Мастеровой покойный Пётр ещё, когда строил дом, прокопал подземный ход из подпола за хлев, в огород. Там, в яме, и сидела Устинья с Оленькой. Слышали, как пришли немцы, как искали людей, как выгоняли корову, как трещит горящее дерево, чувствовали, как пахнет гарью. Шум и пожар продолжался несколько часов. К счастью, без малого трёхлетняя Оленька всё время молчала. Потом наступила звенящая тишина. Устинье в страхе безмолвие казалось бесконечным. Она прислушалась: «Кажется кто-то ходит рядом с их подвалом, наступил на крышку, заросшую травой». «Только бы не нашли немцы», – Устинья знала, что в марте в соседнем Людвинове в колхозном хлеве заживо сожгли 125 жителей. Послышались голоса, разговор двух людей. Устинья прислушалась: «Наши, местные говорят». Односельчане осмотрели пепелище и искали Устинью с дочерью. Устына на свой страх и риск толкнула вверх заросшую травой крышку: «Я тут». После того, как закончилось пожарище (оккупанты сожгли 385 дворов, убили 73 жителя) и ушли фашисты, сельчане, кто остался в живых, стали обходить пепелища и, в первую очередь, искали живых. (Многие в начале облавы смогли убежать в лес). Какова же была радость крестьян увидеть живых и невредимых Устинью и Олю.

Пепелище, некогда красивый дом Петра, ещё дымилось, в центре стояла чёрная труба. Горе перемешивалось с радостью; за спиной послышалось мычание. Это родная коровка сбежала из стада, «из фашистского плена», и пришла домой. Вскоре о сожжённых Куритичах узнала вся округа. Ганна отправила Никиту в Куритичи, откуда Никита привёз дочь и внучку Ганны, и привёл хитрую коровку. Устинья и Оленька вернулись в свою большую семью.
В землянке жили почти год. Но заболели тифом мать и Броня. Знакомые полицаи приказали отцу вести детей (и всю семью) в Косище. Немцы отправили больных мать и Броню в больницу в деревню Новосёлки. Недалеко от Новосёлок – Ванюжичи, где жил двоюродный брат Ганны. Он тайком навещал их в больнице, приносил кое-какую еду, и потом на какое-то время забрал их к себе.
Тем временем старосте Косище немцы приказали отправить детей, в том числе и собственных, на принудительные работы. Староста своих детей спрятал, а схватили Олю, подругу Полю, сестёр Веру и Антолю, и других подростков. Отправили под Куритичи на строительство дороги. Вера и Антоля сбежали раньше, незаметно для остальных. Сильной охраны на строительстве не было, Оля и Поля тоже сбежали в лес, наткнулись на землянку, где с семьёй жил Михаль. Рядом сбежавшие подростки соорудили себе подобие шалаша. В низине из поваленных брёвен сделали пол-настил, сверху на раскидистые большие ветки набросали мохнатых сосновых веточек, сена. Там встретили 1 Мая 1944 года. Ознаменовали эту дату дракой между мальчишками (они выкручивали друг другу пальцы). Немцы накрыли эту компанию на рассвете. Все ещё спали, а «дежурная» Поля, что-то варила в кипящем котле на костре. Не то с перепуга, не то от отчаянья Поля перевернула котёл с кипятком на себя. Немцы схватили четырёх девчонок, шесть парней. Из них две дочери и два сына Мехалёвых. Поле сделали перевязку. И погнали.

Гнали через село, мимо хат, в стены которых буквально вросли родители подростков. Но никто из детей не повернул головы, не выдал своих… Загнали подростков в Людвинов. Были допросы, требовали сказать, где партизаны. Но дети ничего не знали. Двое суток они пробыли в Людвинове. Ночью погрузили в машины и повезли в Новосёлки. Через Новосёлки проходила железная дорога. Пункт прибытия – Бобруйск. Довезли до Старушек, а дальше дорога была заминирована. Вагоны с пленными отогнали в Новосёлки в распоряжение карательного отряда.
Тринадцатилетнюю Ольгу вместе со всеми бросили в подвал. Вши бегали по её тельцу на перегонки, не было от них спасения. Допросы проводились два раза в сутки, пытали сведения о партизанах, сильно били. Ничего девчонки не знали о партизанах. Своя боль отходила на второй план, когда детские глаза видели, как бросали в подвал после допросов подпольщиков. Ольге запомнилась девушка, которую привезли из Могилёвской области. Пытали её страшно. Молодая подпольщица повесилась на собственном лифчике. Пленных опять погрузили в вагоны, отправили в Бобруйск. Кормили один раз в сутки: конский суп и сто граммов хлеба. В лагере для пленных в районе Бобруйска Ольге исполнилось 14 лет, но она и не думала об этой дате. Подругу Полю расстреляли в Бобруйске…
Приблизительно 21 июня 1944 года пленных погнали в направлении Минска. Начались бомбёжки, наступали Советские войска. Пленных гнали колонной, по 5 человек в шеренге. Знакомые девчонки (Ольга, Лида и ещё одна Ольга) держались вместе; смекнули, куда исчезают люди из последней шеренги. Их, как немощных расстреливали у обочины. Во время стоянок (примерно 30 минут) девчонки не отдыхали, а шли вдоль колонны, чтобы не быть последними. К некоторым пленным, среди них были и мужчины, и женщины подходили фашисты, тыкали дулом автомата под рёбра – это был знак на выход из колонны. Куда исчезали эти люди никто не знал. (Или их заставляли толкать немецкие обозы, или отводили за пригорок и расстреливали). Советские лётчики бомбили «аккуратно»: немецкую пехоту, немецкие обозы, немецкие машины. Во время налётов пленные пытались сбежать. При переходе через реку по мосту Ольга видела, как мужчины прыгали в воду. Может кто-то спасся, а кого-то настигла пулемётная очередь.
Через несколько суток колонна пленных и отступающих фашистов вошла в Марьину Горку. Пленным раздали лопаты и приказали копать ямы-окопы на десять человек. Ночью во время бомбёжки пленные по десять человек стояли в ямах. Земля тряслась, шевелилась. Кто выжил, а кто погиб. Танки, артиллерия, пехота – всё прошло через них. В ночь на 3 июля Красная Армия освободила Марьину Горку и всех пленных. После жуткой бомбёжки ночью, ужаса, пережитого в яме, девчонки огляделись, увидели необыкновенной красоты дом с колоннами, аллеи. Решили, что это старый панский дом. Русские солдаты обнимались с ними, в накидках, чёрные от грязи и копоти, одни только белые зубы виднелись. Своих убитых солдат русские тут же собирали и хоронили; собирали немецкие трофеи: оружие, сапоги с немцев.
Русские военные приказали накормить пленных. Ольга отметила, что дома, где их кормили были целыми и еда была у людей. Изголодавшихся пленных накормили. Что тут началось! Кто ж знал, что после длительного голода надо начинать есть понемногу. У большинства пленных случился «заворот желудка»: боли, рвота. Отмучались. 3 дня были в Марьиной Горке. Фронт покатился дальше. Освобождённых пленных на машинах советские солдаты отправили в Бобруйск. Там, в особом отделе, им выдали документы, свидетельствующие о том, что они были в плену, и наказали беречь эту бумагу. Военные сказали, что дальше добираться пешком и идти только по железной дороге, так как обочины заминированы.
Идти было тяжело, практически невозможно. Жара. Все дороги, казалось, завалены трупами немецкими. Смрад стоял невозможный, девочки платками пытались закрыть лица. Через несколько суток пути воздух стал чище (осталась позади операция «Багратион»).
Шли по шпалам. Хотели есть. Как назло, справа и слева такие большие ягоды черники, земляники висели на кустиках. Одна из подружек зацепила растяжку, крикнула, все успели упасть на землю. Осколки никого не задели. Страх охватил детей, больше по сторонам не смотрели. Пару раз слышали в звенящем летнем зное далёкие взрывы. Леденели детские души: «Неужели кто-то подорвался на мине?» Истерзанные, голодные они вернулись… 12 июля 1944 года Ольга вернулась в Косище.
Первые послевоенные.
Когда измождённая Ольга после немецкого плена вернулась домой, особой радости никто не испытал, потому что другая беда пришла в дом. Мать Анна слегла от непонятных болей в животе. Мишка считал, что мать ранили немцы. Ольга жалела мать, хваталась за любую работу. Никите было страшно остаться без хозяйки. Прослышал, что в Петрикове есть врач. Ранним летним утром 1944 года запряг лошадку, в телегу перенёс свою Ганну, и пошли тихим шагом в Петриков. Врач осмотрел Анну и развёл руками: «Нужна операция, но никакого инструмента нет». Никита привёз Анну домой умирать. Устинья, проходя мимо «ложка», на котором лежала Ганна, кривилась и с досадой вскрикивала: «Что вы жмётесь к ней. Она скоро умрёт». Мать руками прижимала к себе головы Ольги и Брони: «Как же вы будите жить без меня, доченьки?» Ольга плакала, уткнувшись в плечо матери.
Воскресенье, 12 ноября, потемнело уже днём. Односельчане ходили в гости, согревались «чем Бог послал», из некоторых хат слышалось пение… Отмечали, вспоминали Параскеву-Пятницу, бабью заступницу.
Никита нанялся сторожить колхозную ферму. Ольга со двора забежала взглянуть на мать, и поняла…, всё внутри оборвалось. Мама не дышала. Ноги заплетались, но Ольга бежала по деревне к отцу, обидно и горько было слышать весёлые голоса из хат. Анну Фёдоровну похоронили 13 ноября 1944 года на кладбище близ деревни Сотничи. (При Косище погоста не было)…
Никита, недолго думая, позвал себе хозяйкой одинокую женщину. Детям она не понравилась. Ольга считала, что чужая баба готовит невкусно, Мишу возмущало не только присутствие посторонней тётки, но и подчинение её указаниям: «Ещё чего… Не буду её слушаться», – злился Мишка. Отец пытался вразумить сыновей: «Она и приготовит, и постирает». «Больно надо. Мне и Ольга постирает», – категорически отвечал, сжав зубы, Миша. Ивану было всё равно: дурачился, бегал, некого не слушал.

Мальчишек определили в школу. В Косище в начальную школу приходила учительница из Бабуничей. Миша был переростком, учёба ему давалась с большим трудом. На «девок» взвалили домашнее хозяйство. Ольге было стыдно ходить во второй класс, четырнадцать – пятнадцать лет – иди работать. Никите было уже много лет, в Советскую Армию его не призвали, за помощь партизанам ничего не дали. Дети были при нём.
По Косищам и окрестным деревням бродили полные сироты. Одним из таких был Володя. Мать его убили в начале войны. Зашёл как-то в хату, а у Ольги в печи целый чугун картошки вариться. Бедный ребёнок попросил картошечку. Мишка вспылил: «Чего ты здесь ходишь? Картошку я и сам съем!» Ольга выхватила из чугуна картошку и вынесла Володе; жалко ей было мальчонку. Потом Володю через сельсовет отправили в детский дом. Он приезжал на каникулах в Косище. Был одет в брюки, рубашку и ботинки… У Миши от зависти перехватывало дыхание: «Мне бы ботинки. Видать в детском доме не так и плохо. А я в лаптях в школу хожу и овец пасу». (Сирота Володя прожил долгую жизнь в деревне Бабуничи. Создал хорошую семью. Добросовестно работал в колхозе, слыл человеком спокойным, серьёзным, добрым. Умер в двухтысячные годы.)
Никита только и думал: «Как жить? На что растить детей?»
Возвращались угнанные в немецкий плен односельчане. Кто-то из них работал в сёлах, кто-то на заводах, кто-то изголодавшийся пришёл к родному порогу, а кто-то привёз с собой шубы. Рассказывали, что в Западной Белоруссии деревни не жгли, людей не уничтожали. Крестьяне и горожане живут сытно, есть коровы; многие строятся… Никита вместе с кумом взяли сохранившуюся пилу и для начала отправились на заработки в Давид-Городок. Работы было много, ходили и по окрестным деревням. Из первой поездки Никита привёз мешки зерна и муки. Тяжело было с детьми управляться, а ещё Устинья не хотела работать на большую семью, постоянно ругалась с Никитой. В результате этой «войны», Никита построил в конце улицы маленькую хатку, где Устинья поселилась с дочерью Оленькой. Но дорогу к отчиму она не забыла. Забежала как-то в сени, а там почти полный мешок муки стоит, схватила Устинья его и «попёрла». Дорогу преградил Никита, грубо потребовал поставить мешок на место. Устына кричала и оскорбляла Никиту, но главный аргумент заключался в том, что ей нечем кормить ребёнка. Никита выгнал воровку, думающую только о себе… Закон дикой природы: укради, но не голодай. Никита сам чужого не брал, и детей воспитывал в труде и ответственности: «терпение и труд – всё перетрут». Дочь Ольга была особенно трудолюбивой и доброй, могла дать кусок хлеба нуждающемуся. Из очередной поездки «в заработки в Западную» Никита привёл в дом корову! Вот когда дети стали есть, но сытыми никогда не были. Мише не хватало внимания, он ревновал всех взрослых и старших к Ивану, видел, что его жалеют как самого младшего, а Мишкой понукали, то одно иди делать, то другое, то корову паси… Работа всегда находилась.
Ольга неоднократно ездила на заработки в Кобрин, вместе с подругой. Девушки долго не могли найти работу, а голод не тётка… Днём увидели, как в одном из дворов хозяйка повесила головку сыра стекать и сушиться. Ольга терпела голод, а подружка срезала головку. Ели вместе… «Господи прости». Работу Ольга нашла. Была ловкая, умелая, быстрая, всю работу по хозяйству знала и умела делать лучше некоторых хозяек. Заприметил её соседский парень. Подходил к Ольге, пытался заговорить, расположить к себе. Но молоденькая девушка не общалась с чужаками, не общалась с парнями на чужбине, да и не влюблялась. Как-то поздним вечером к Ольге подошла встревоженная хозяйка: «Собирайся, девка, и езжай домой». Дальше поведала подслушанный разговор соседей. Те соседи были пришлыми на заработки или бежавшими от войны людьми. Утром следующего дня они собирались переезжать не то в Польшу, не то на границу с Польшей, не то на Украину. А Ольгу хотели украсть и увезти с собой. Ольга сбежала… (А может зря? Дома тоже был тяжёлый рабский труд). В следующую поездку Ольга нашла семью, которая её приютила. Сложно назвать трёх малолетних детей семьёй. Родители их умерли, а дом и хозяйство были хорошими. Днём Ольга ходила подрабатывать к другим хозяевам, а уж утром и вечером хлопотала по хозяйству для детей: и за коровой ухаживала, и доила, и еду вкусную готовила; полюбила их как родных. Оля вечерами вязала красивые кружевные скатерти. Отбоя от заказов не было, и платили местные хозяйки хорошо. Целую зиму Оля прожила вместе с детьми. Её нашла сестра Броня: «Чего ты здесь сидишь?! Дома – дети (братья), батька. Работы невпроворот».
Ещё осенью Броня рассуждала о замужестве: «Матери у нас нет. Кто возьмёт нас замуж?» Пыталась найти поддержку и отклик в душе у молоденькой Ольги. А сама Броня рассуждала о своей жизни про себя, не посвящая в подробности других. С Пашкой у Брони была взаимная симпатия. Но Павла как призвали в Красную Армию в 1944 году, так уже прошло почти два года: и война закончилась, и Победа пришла, а о нём ни слуха, ни духа: «Наверное, погиб».
Зато с войны вернулся сосед Григорий; взрослый мужчина, с 1914 года рождения; высокий стройный, каштановые волосы зачёсывал назад, подчёркивая симметричные залысины на высоком лбу; взгляд блестящих карих, почти чёрных глаз пронимал девчонок до самого сердца. А придёт на деревенские танцы в гимнастёрке с медалями, в блестящих сапогах, да как выйдет танцевать полечку, так от этой красоты спасения никому не было.
***
Григория Ефимовича Полторана призвали в Красную Армию ещё до начала Отечественной войны. Успел принять участие в зимней финской войне. Служил срочную службу связистом, протягивал телефонный кабель, бегая с катушкой. Зима, болотистая земля промёрзла и звенела под ногами как камень. В тот морозный день тянул кабель по полю и на его пути возник большой сарай. Обойти сарай связисту было сложно, могло не хватить кабеля. Григорий открыл ворота и от увиденного потерял сознание. Сарай доверху был набит голыми телами мужчин, русскими (советскими) солдатами. Они погибли или были расстреляны финнами, но в мёрзлой земле их никто не хоронил. Великую отечественную войну Григорий окончил в Австрии. Когда советские войска заняли маленький австрийский городок, вино текло рекой по улицам из разбитых бочек. К целым бочкам бежали солдаты с котелками, флягами. Григорий тоже устремился к одной из бочек, но его окликнули и приказали явиться к командиру. Григорий так и не попробовал вино. Очень многие солдаты, которые пробовали вино, умерли. Вино было отравлено. Воротясь домой, Григорий не раз говорил, что он «родился в рубашке», считал себя везунчиком.
***
Глянулась Григорию соседка Броня, миниатюрная, молоденькая, шустрая и дерзкая. Проходу он ей не давал. Не любил Никита Певней, как называли по-деревенски семью Григория. (Наверное, называли Петухами за субтильность, высокий рост, длинные шеи, цепкие взгляды и бойкие характеры). Броня или влюбилась в Григория, или замуж хотела выйти, или не могла отвергнуть повышенное внимание, или боялась остаться в девках, но для себя решила, если зовёт Григорий замуж, надо идти. Никому ничего не говорила, но Ольгу с Западной Белоруссии пригнала домой. В свои планы даже намёком не посвятила отца Никиту.

10 февраля 1946 года – первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР, «Всенародный праздник!» Своим правом голосовать воспользовалась и Броня. Поехала вместе с молодёжью Косищ в Бабуничский сельский Совет голосовать. Проголосовала… Заодно празднично расписались Григорий и Бронислава. По возвращению домой Броня объявила отцу, что вышла замуж за Григория. Отец кричал, возмущался, а после ухода Брони долго плакал, очень сильно не хотел, чтобы его дочь ушла жить, породнилась с родом Певней.
Не вернулся с войны Фёдор. Ничего о нём неизвестно. Никита писал лично в Управление по учёту потерь. А в ответ – тишина.
Все заботы, вся домашняя работа легла на плечи Ольги: и корова, и свиньи, и куры, огород, хата. Она была настолько умелой и работящей, что успевала и в колхозе поработать за трудодни, за «палочки» в ведомости бригадира, и приготовить еду, и постирать. Пока братья учили уроки, Ольга готовила ужин и быстрее Миши запоминала стихи. Мише учёба не давалась, а Иван учился легко. Никита тоже много работал: заготавливал сено, пахал, сеял, занимался бортничеством. Сам делал колоды и подвешивал их в лесу, собирал мёд. С ведром мёда Ольгу и Мишу отправлял в Петриков на рынок. Дети выходили затемно, шли пешком, надрываясь несли ведро мёда. На рынке продавали стакан мёда за пять копеек. И за такую цену редко кто покупал мёд. Несли ведро с мёдом назад.
Ушлые люди посоветовали Никите обратиться в сельсовет за помощью, дескать твой сын Фёдор погиб, семье полагается помощь. Было Постановление Совета Народных Комиссаров СССР №2436 от 21 сентября 1945 года «О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и семьям военнослужащих». Никита был отчимом, но вырастил и воспитал Фёдора. Помощь распределялась на детей. Все детские метрики были потеряны. Чтобы дольше получать помощь, Никита при получении новых документов на детей убавил им годы. Мише дату рождения записали 1 октября 1935 года, Ольге 1 января 1929 года. Никиту освободили от налогов и давали крупу, даже одежду и ботинки Ивану и Мише. В средние классы Миша и Иван ходили в школу в Бабуничи. Уже стала школьницей Оленька, дочь Устиньи. Зачастую Миша носил на спине племянницу в школу. Устинья сошлась с Иосифом. Иосиф был партизаном, левая рука прострелена в локте, носил протез. С первой женой разошёлся, оставил сына и полдома жене. Был бригадиром в колхозе.


