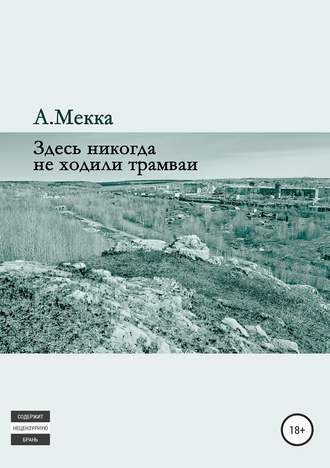
Алексей Витальевич Мекка
Здесь никогда не ходили трамваи
3
Под ногами грязь. Расквашенная и вязкая. Ноги тонут в ней и чавкают при каждом шаге. Я чувствую, как она засасывает меня, утягивает подобно этому городу, который не хочет отпускать любимого сына.
Мысли об отъезде стали посещать меня еще в детстве, когда я разбегался и прыгал через лужи после дождя. Чем лужа длиннее, тем интереснее. Больше риска, больше соблазна, больше драйва. В детстве всего было больше. Больше времени, больше денег и больше свободы. Пусть, в кармане всего десятка – это уже целое состояние, которым можно распорядиться, как тебе вздумается. Мне нравилось покупать шипучку за семь пятьдесят и наслаждаться ею в одиночку. В этом было что-то магическое. Своеобразное умиротворение, которое можно разделить лишь с самим собой и больше ни с кем.
Я помню громкие крики стариков, требующих слезть с дерева, стоящего во дворе дома, ведь я – маленький поганец – лишь все порчу и ломаю. Помню, как Мама выходила из дома и разыскивала меня в соседних дворах, а после утаскивала за ухо домой, требуя и приговаривая, чтобы я больше не уходил так далеко.
А я ушел.
Забрел так далеко, что и сам не пойму, где оказался и как мне отсюда выбраться.
Нужно ли выбираться?
Быть может, это именно Мое место. Обитель, к которой стремятся все одинокие и уставшие. Заблудшие. Это похоже на комнату, из которой нет выхода. Это – свобода, обернувшаяся заточением. Это – истинное понимание счастья.
На разбитом тротуаре меня поджидает открытый колодец. Остатки нерастаявшего снега прикрыли черную дыру в земле, и она готова на все. Конечно, если ты достаточно беззаботен, чтобы не смотреть под ноги. Я растерял это беззаботство, когда оступился в первый раз.
Зимой.
Упал, и лучший друг меня не слышал. Я помню, как просидел в колодце несколько часов, прежде чем меня нашли и вытащили. Нога была сломана, а от матери я получил серьезный нагоняй.
Оглядываю выбитые окна старого общежития швейной фабрики, что, должно быть, работает до сих пор. Я помню, как отец таскал меня по этим местам.
У него была мечта – купить магнитофон, поэтому мы часто захаживали к одному из его немногочисленных знакомых, который как раз продавал один из таких. Одно из воплощений мечты. Мы поднимались на последний этаж кирпичного дома и долго стояли на лестнице. Я свешивал ноги сквозь металлические перилла и сидел на каменной плите лестничной клетки, пока взрослые курили и говорили о музыке. Мечта отца все же осуществилась, но куда позже, чем ему хотелось, и по дороге растеряла всю магию. Я помню большой музыкальный центр, что простоял на полке совсем недолго, ведь деньжат в то время не доставало слишком сильно, а жажда отца была слишком мучительной, чтобы спокойно слушать музыку.
Это – страх, отрастивший ноги. Он взял меня под руку и зашагал рядом, становясь чем-то куда менее полезным, чем являлся раньше. Тогда, когда я боялся быть похожим на отца.
За автомобильной заправкой есть пустырь. Я часто прихожу сюда, чтобы расслабиться и посмотреть на косорылый обрыв. Забавный. Завлекающий. Даже немного будоражащий.
Если идти вниз по вытоптанной тропе достаточно долго, то можно наткнуться на пруд, в котором мы купались. Я – в лягушатнике. На мелководье. Он – на глубине, наслаждаясь чистой водой и любуясь белыми скалами.
Я всегда спрашивал его о чем-то. Постоянно. Не помню, о чем. Должно быть, это было важно. Так важно, что занимало все мои мысли. Он всегда отвечал с неохотой. Словно, говорил со мной, потому что был должен. Возможно, толика истины все же в этом есть. Он был должен мне, а я ему, но долг этот незрим и нематериален. Невесом. А потому, можно забыть о нем и никогда не отдавать.
– Почему ты здесь? Со мной.
– А что? Погонишь?
– Да нет… Просто стало любопытно. Помнишь, как мы гуляли здесь?
– Да, помню. Ты все не затыкался.
– А о чем я спрашивал тебя?
– Нуу, всего и не упомнишь.
Он затягивается и протягивает зажженную сигарету мне. Беру, вдыхаю. Дым сразу дает эффект.
– Помню, ты спросил, что такое смерть. Ошарашил меня тогда.
– И что ты ответил?
– А что я отвечу? Сказал, что это когда всем грустно.
Я усмехаюсь, тяну еще и передаю сигарету.
– Чего смеешься?
– Забавно это. Как хреново было, раз я спрашивал о таком.
Он хмыкает и смотрит вдаль. На разбитые цеха разрушенного завода. На железную дорогу. На худые неказистые деревья. На все, чем мы не успели насладиться, да и теперь уже не сможем, ведь взгляд наш затуманен. И всегда был затуманен чем-то куда более весомым, чем дешевые сигареты.
4
Этот засранец выхватывает шапку прямо у меня из рук, и напяливает ее на свой грязный и пустой череп.
Сначала я спокоен.
Лишь недоумение происходящего атакует меня.
Он смеется.
Грязная свинья.
Я ненавижу его.
Боюсь, презираю и ненавижу.
Почему боюсь?
Я крупнее и сильнее, но колени дрожат. А он спокоен. Уверен. Ухмыляется. Подкармливая мой страх. Автоматически я протягиваю руку и сдергиваю шапку. Он громко возмущается. Угрожает. Твердит, что размажет меня, а после, как следует выссытся на мое тело. Я не верю ему, но опасаюсь, хоть и знаю, что в любом случае выйду победителем из драки.
Он замахивается.
Потом еще раз.
И еще.
Все бес толку.
Мне легко выкидывать руки и блокировать удары, но страх наступает.
Сидит на хвосте.
Заставляет дать деру.
Голова болит.
Адреналин застилает любые мысленные просторы и норовит перегрызть мне горло, но я продолжаю бежать.
Уношу ноги.
Не поддаюсь.
Отказываюсь подчиняться естественному раскладу событий, который умоляет меня поддаться.
Залить глаза пьяной яростью, чтобы убить.
Я ведь могу.
У меня есть все для этого.
У него – ничего.
Лишь друзья, стоящие рядом.
Я один.
Значит, шансов у меня никаких.
Уроки давно кончились, и мне нужно идти домой, но он продолжает стоять в проходе и разбрасываться бессмысленными оскорблениями. Мне не хочется драться. Я ощущаю себя слабым и беззащитным. Он наглее – значит сильнее.
Мы выходим из школы и прячемся за стеной западного крыла. Там никто не ходит. Нас сопровождает орава беснующихся школьников всех возрастов. Я чувствую себя главной звездой какого-то представления. Знаменитым. Популярным. Неизвестным. Никому не нужным.
Это подобно бегу по кругу.
Бесполезная невозможность, говорящая лишь о еще большей невозможности.
Он бьет.
Сначала, я и не понимаю, что происходит. Ощущение такое, что из носа у меня обильно пошли сопли, и лишь проведя рукой, я понимаю, что это кровь, так резво брызнувшая из моей головы. Все, что начинается с крови, заканчивается кровью. Столь привычная цикличность.
Больше нет смысла отгораживаться от ярости. Нет смысла пытаться успокоить разбушевавшееся сердце. Мало в чем есть смысл, но здесь он точно никогда не появится.
Я бью.
Куда сильнее
Не сдерживаю себя, равно как и то, чем обладаю.
Он чувствует это.
После первого удара он ощущает, что здесь и сейчас все серьезно настолько, насколько вообще может быть, а я продолжаю. Корпус, лицо. Я не стесняюсь в проявлении жестокости. Не боюсь более показывать ее. Демонстрировать. Гордиться и бахвалиться. Поэтому избиваю его до тех пор, пока меня не оттаскивают от хлюпающего тела.
Он задыхался, а ты продолжал бить, как мне сказали позже.
– Он задыхался, а ты продолжал бить!!!
Кричал отец, орудуя армейским ремнем над моей изможденной задницей.
– Он задыхался, а вы продолжали бить?
Спросил меня школьный психолог.
– Он задыхался, а я продолжал бить.
Сказал я, обращаясь к вечерней группе общества жестокости подрастающего поколения.
Они много говорили со мной об этом, постоянно погружая меня в тот день. Разбирая его на кусочки, и усиленно мусоля каждый из них. Им было важно не осознание вины, а поиск первопричины проявленной жестокости.
– Зачем ты ударил его?
– Затем, что он ударил меня.







