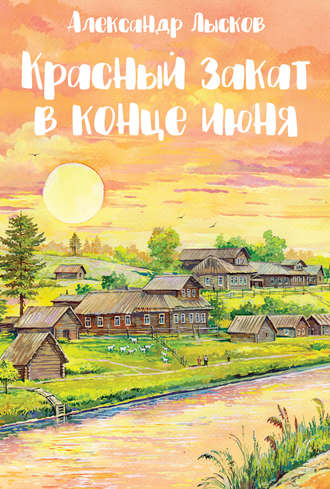
Александр Лысков
Красный закат в конце июня
22
Печь – и гревь, и свет, и железу плавь.
С утра старшуха Енька-Енех кланялась печи.
Вечером Геласий окунул своё лицо в её жгучий свет.
Покупной железный прут в руках поворачивал на огне, напитывал малиновым.
Слышно было, как от пережогу пищали угли на поду.
В «виднети», за спиной деловитого хозяина, стучала набилка в кроснах матери. Урчало веретено привозной молодайки.
Наученная покойной свекровью, Енька пела-поскуливала:
Девушка полотно ткала,
Красная широко брала.
На полотне – золоты кружки,
На беличке – сизы голуби.
И вдруг сорвалась на угорское, будто перетолмачила:
Ен фехер – кек аламб.
Ен алакси – кек ниул.
А потом опять по-русски:
Тут Иван ступил в избу —
Девушка испужалася.
Золоты кружки на тканье смешалися,
Сизы голуби разлетелися,
Заюшки разбежалися.
…Ой, девушка, не скупись,
За песенку расплатись…
(Ой, леня, нем шугори,
Утан елек физетэ.)
Енька-Енех хохотнула на последней строчке, ногой притопнула. Подзадорила Стешу.
Не зацепило пришлую. Продолжилось деловитое жужжанье деревянного волчка в её руке.
Так бы Еньке одной и веселить вечерю, кабы Геласий вдруг примерочно не тюкнул молотком по наковальне – доспело ли железо для ковки?
Дзинь!
И ударил молоток дробью, в пляс пошёл, бубенчиками рассыпался по углам избы.
Частя, слился молотковый стук в струнные звуки.
Обрушился громом одиночного битья.
В этой звени неслышно щёлкнуло о стену отброшенное веретено Стеши, и прялка её пала на пол.

Полетели к дверям лапоточки. В одних липтах девушка выскользнула к припечью.
Под кузнечные перезвоны Геласия всплеснула руками, выгнулась, тряхнула плечами. Да так, что локти стояли на месте, и муха бы с них не слетела.
У Еньки от дикого изумления перед выходкой молодайки челнок в стане нырнул поперек бёрда и притужальник дал трещину.
Раскалённый прут у Геласия начал остывать – молоток теперь вхолостую лупил.
Кузнец играл для Стеши.
А она едва не до матицы подпрыгивала и юбку раскидывала вширь по бокам. Трескуче била над головой в ладоши.
Наконец упала на колени и опять нашла локтями в воздухе какую-то ею одной знаемую прочную опору, мелкую зыбь пустила в плечи и грудь.
Тут мать к уху сына сунулась, горячо шепнула:
– Лася! Да не дерома[79] ли она у тебя?
А он всё сильнее выхаживал молотком по наковальне.
И в этих стуках в пятидесятилетней Еньке недолго природа боролась с приличием.
С притужальником в руке, словно с саблей, тоже вынесло жёнку из-за кросен.
Однако этим острым орудием она так и не взмахнула ни разу.
Плясала с каменным лицом одними ногами, с места не сходя.
По-угорски отчебучивала.
Потому, наверное, на Сулгаре и кликали её Топтуньей.
23
И от неё, от Еньки-Енех, разнеслось по Сулгару, по угорским и славянским домам, бабьим языком утвердилось прозвище новоявленной девки – Цыганка.
В тысячелетнем немотном Сулгаре вдруг взрывно взошла третья, яркая, очевидная чуждость. После чего славяне с угорцами как бы роднее стали, ближе.
Своими, «нашими» посчитались.
Обнаружился вдруг у них повышенный интерес к свадьбе Геласия-полукровки с невнятной деромой Степанидой…
Любопытным не было конца.
Одной кудели «нать». Другая хозяину подарочек на Крещенье несёт – вышитую утирку.
Третья с поклоном к Еньке – соли бы щепотку.
А сами глаз не сводили со Стеши.
Множились слухи о невиданном приданом новоявленной невесты. Тут уж тётя Мария постаралась.
В ожидании свадьбы вдруг душевно сошлась невеста с этой тетей Марией, дочкой первопроходца Синца.
Разница в возрасте не стала помехой для женской дружбы.
Каждый день можно было теперь видеть их склонёнными над сундуком Стеши.
Особенно восхищалась тётка гранёным пузырьком с жасминовым маслом. И бусами «на любовь» из шариков шерсти, пропитанных отжимками розы.
Нюхала, уносила с собой тётка Мария эти дивные запахи и отдаривала потом за них Стешу костяным оберегом, тканым пояском, диким мёдом.
Тайком Стеша показала новоявленной подружке дырочки в мочках своих ушей, пронизанных шёлковой ниткой для сохранения отверстия до венчания, будто девства.
И серебряные серёжки-крючочки с капельками.
Только и было у женщин в голове – свадьба!
Одной свадьба предстояла. Другой – вспоминалась.
– Меня-то, Стешенька, брали по-угорскому обычаю, – слышался в запечье шёпот тётки. – У них ведь жениха не подпускают к невесте, будто врага-душегубца. Мой Габор рвётся к дверям, а ему петлю на шею. Заарканили и к телеге привязали. Вот как у них. И выкуп за него давай! Ладно. Отпустили. А тут ещё, на-ко вам, трубку кожаную жених должен просунуть в дом невесты. В дверную щель. Эка срамота! Габор с этой трубкой ломится, а бабы не пускают. Габор-то нашёлся. Подпрыгнул да в дымник и протолкнул эту трубку охальную. Я поймала – свадьба началась. Ой, девка! А они ведь и сырое мясо едят. Жениху – ешь язык олений. А невесте – сердце. Кусай, рви зубами тёплое мясо. Кровь-то по рукам течёт. Господи! Шаман камлал. В бубен бил. Окурили меня до беспамятства. Это у них так положено, чтобы невеста сознание потеряла. Тогда её заворачивают в шкуры и везут в дом суженого. Там меня отпоили какими-то травами. Очнулась. Но всё равно вся свадьба моя прошла как в дурмане…
24
Три слюдяных оконца в избе, и в каждом свету – по мастеру.
Низко склонилась над шитьём Стеша: бисеринку бы в щель не упустить. Тоже не без излишнего усердия и Енька-мать вышивала сыну красную жениховскую рубаху.
Геласий обложился красками в глиняных плошках. Писал свадебные иконы.
Самого бесстрастного Христа замыслил он для себя. Так и назывался образ по канону – «Спас мокрая борода». В церкви Важского городка рассмотрел Геласий этот лик.
Косицами свисают у Христа и волосы, и борода, и усы. Видать, только что из Иордана. Охолонувший. Взглядом не прожигает, а весь в себе: новизну какую-то в душе почуял – обдумывает.
Похож на богомаза, светлой памяти, дядю Прова.
Мальчишкой видал однажды Геласий, как наставник вот так же выходил из Суланды с мокрой бородой.
Волосик к волосику, будто только что расчесаны. Словно сохой по пашенке нахожено.
И теперь Геласий вторил эту бороду тонкими беличьими кисточкам по левкасу: полоска коричь – полоска чернь.
(Соответствующие пигменты наготовлены были у него из коры можжевельника и сажи.)
Летом бы Геласий развёл пингаму и в яичном желтке. Но среди зимы где найдёшь дикую кладку?
Клёст – один на сто вёрст.[80]
25
А для невесты Геласий решил на венчание изобразить Божью Матерь Нечаянную Радость. Высмотрел в той же церкви Важского городка. Там на иконе выписан был вид горницы, посреди которой мужик удивляется нечаянному видению образа Богородицы.
Тут надо добавить, что Геласия-то в Важском городке настигла ещё и своя, личная, нечаянная радость. Это когда он вслед за Мишкой – «не беру лишка» вошёл в его дом, разогнулся за порогом низкой двери и увидел Стешу.
Плат у девушки до бровей. А глаза словно насквозь солнцем сзади просвечены. И оттуда брызжет на мужика его единственным и неповторимым, отнюдь не каноническим, счастьем.
Именно такой, на Степаниду похожей, и выливалась теперь из-под его кисти на донышко осинового ковчежца Богородица Нечаянная Радость.
26
Началось с кузнечного плясового перезвона в избе жениха, а разнеслось по заснеженному Сулгару благовестом с переборами, красным звоном с храмовой колокольни.
Корячились на обледенелых балках звонницы дьякон Пекка-выкрест и старая девка Водла.
Простодушный дьякон лупил чугунным пестиком в било и дергал язык клепала. А снаружи по тевтонцу дзинькала обломком подковы блаженная Водла.
Радость обоих разлеталась в свадебном разгонном звоне. Веселой вестью проникала в избушки древнего поселения.
Нынче свадьба у Геласия Синцова!
И званы многие…
27
Вылетели от церкви с колокольцами.
В санях за кучера тётя Мария – невестина подружка.
На запятках женихов дружка – брат Иван.
Кажется, и у коня праздник.
Боком рысит, с вывертом.
Будто знает про обычай – на свадьбе первую рюмку коню на голову с присловьем:
Вчера ел сено, глядел на солому,
Сегодня – вино пей, ешь пироги!
В дедушку Ивана выдался тёзка-внук.
С рождения тешился ядрёным словцом. Теперь кричал в прибежку за санями:
Наш князь противу неба на земле.
Отсель на третьей версте.
В чистом поле на заборе
… свой точит.
Княгиню учить хочет.
А утром-то ещё этот охальник, войдя в дом Геласия огорошил всех вот как:
Я из города Ростова,
Роду непростого.
Куричкин зятёк,
Петухов браток.
Звать меня Сисой.
Приехал за…
28
Званые собирались на пир.
Из Сулгара гурьбой брели по снегу дьякон Пекка, сын покойного шамана Ерегеба, дурковатый пятидесятилетний мужик в лаптях на босу ногу – крестился восторженно.
Его брат, нищий Гонта, в льняной рубахе на голом теле, подбитой мехом цеплялся к мягкому месту старой девки Водлы, выросшей на церковном прикорме и в приблудстве с отцом Петром.
В Кремлихе пристали к ним сын мытника Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой. Оба в опашнях и пимах.
Староста Ошурок, из московских стрельцов, с серьгой в ухе, с двумя статными, драчливыми сыновьями и с непокорной, крикливой дочкой в цветастой кухлянке.
За ними порхал поршнями по снегу бледнолицый литвин Питолинский со своей угорской женой Илкой в долгополой малице.
Ближние соседи Геласия – окно в окно за рекой – Брат Ананий и дядя Габор в высоких грешневиках на головах выбирались из своих нор на звук свадебных криков и свистов. Присоединялись к толпищу.
Всё это воинство, восхищённое солнечным январским деньком, одетое в кожи и шкуры, в лён и веретьё, в мех и бересту, валило к застолью.
Навстречу им обратно в Сулгар за попом пролетел на обалделом от браги Серке дружка жениха брат Иван, орущий:
– Первую чарку погоняле. Вторую – коню! Пади ниц! Запор-рю!..
Конь скалил зубы и словно бы тоже хрипел:
– Загрыз-зу!
29
Невесту ввели за тесовую перегородку. Доски в ней были подструганы, подогнаны женихом так, что ни щёлочки от земляного пола и до потолочин. А дверь за перегородку вела – на кованых петлях, не сравнить с кожаными навесами. Ни скрипу в ней, ни шороху.
Никакого раздражения свекрови.
Принудили там за перегородкой невесту (рукой в перстнях) пробовать на мягкость ложе из льняного обмолота.
Тоже не скрипнуло.
Скалились в нечистых улыбках, любовались смятением молодой. И потом шумно рассаживались.
В красном углу на лавках за прочным столом – избранные.
В продление стола наскоро тёсаные плахи на козлах. На них – середняки, под задами у которых зыбкие жерди.
Остальные толклись вдоль стен, сидели на полу под порогом.
И блюда с кушаньями так же постепенно, починно были расставлены.
Изощрённые – в ярком свете под божницей.
Простые – в тенях припечья.
Скудные – в подпорожней тьме.
Тарель с перепечей (просо с лосиными потрохами) громоздилась перед женихом и невестой. На деревянной лодье лоснилась запечённая лосятина, жареным духом била в нос попу и старшим мужикам.
В ржаной коре остывала щука.
А подпорожному люду был выставлен сундучок. На нём теснились три каравая хлеба и полнёхонек чуманчик соли.
Для голи – до отвала соли – слаще заморского алкана в братине у первых людей.
Хотя они ещё и браги зачерпнут деревянными кружками из лохани.
Да и не раз.
30
Свеча перед молодыми, будто обрубок суковатой палки.
Сам жених не один день фитиль кунал в расплавленный воск и намораживал слой за слоем.
Теперь сияние огня от свечи продлевалось в лучах кики на голове невесты (в хворостинках наподобие веера, обтянутых белым шелком).
Огонь свечи бликовал в бородах, политых вином.
На алых губах баб.
Трещали кости выворачиваемых суставов в мясной туше.
На пол сплёвывались рыбьи хребтины.
Человечьи телеса размягчались в сытости, сливались в одно целое. Общим жаром стало распирать избу.
Словно бы под давлением этой силы распахнулась дверь в сени и оттуда хлынул морозный пар для охлаждения.
Созрела в этом парнике первая песня.
Заворожённо глядя на венчальную свечу, тетя Мария исторгла сипловатым горлом:
Во тереме ясна свеченька горит
Воску ярого.
Утаивает.
У Геласия матушка выспрашивает:
«Где ты был-побыл?»
«Был у тёщеньки, у ласковыя».
«Чем тя тёщенька дарила-отдаривала?»
«Дарила меня тёщенька своим чадом милыим,
Свет Степанидой Михайловной…»
Потом тёте Марии кроме свежего воздуха ещё и свобода потребовалась.
Гору верхней одежды перекидала баба с полу на печь и пошла выбивать лаптями подпорожную:
Раздайся, народ, расшатися, народ!
Дивна красота идёт. Её девица несёт.
На своих на резвых ножках,
На сафьяновых сапожках!
Пока тётя Мария во весь размах выказывала новгородскую натуру, новоявленная угорская свекровка Енька-Енех молча столбиком вокруг неё топталась с прижатыми ручками.
Дождалась очереди и запела с носовым призвуком:
Бан ердё жарва-арани саганз.
Гонта кабаль ин:
«Ал! Гилкос! Тузель!..
…Эгеж вэндег таж,
Паранч танколоз!»[81]
От звуков родного языка воспрянула языческая половина свадьбы. Выскочили плясать безбородые со своими фележками (женщинами). Брюхо вперёд, а к хребту будто колья привязаны. Руки угорцев болтались плетьми.
Вся пляска – в ногах. В сотрясении земли.
Прискочат да пуще прежнего задробят.
Понемногу дикость обуяла собравшихся.
Кричали, лезли в драку, валились под столы.
Брат Иван по старшинству и по древним порядкам возжелал поиметь невесту прежде младшего. Пытался сорвать с неё одежды. А когда Геласий укрыл Стешу за перегородкой, ломился в дверь.
Орал похабы.
Прежде чем его вытолкали вон из избы, успел-таки кинуть в сторону молодых драный лапоть.
Это уже по-старинному обычаю он им счастья желал.
31
Хозяйка порожнюю тарель об пол хрясь! Сигнал всем понятный. Свадьбе конец.
Званые с пиру отправились домой, кто хоть и неверным ходом, да своим. Кто ползком. А кто на загорбке соседа или у жены подмышкой.
Весь день был ясным, солнечным, а тут на ночь снегом посыпало сверху.
– Значит, быть богатыми молодым, – толковали бабы.
…За реку на гору ползли к своим избам брат Ананий и дядя Габор.
Батогом гнали впереди буйного Ивана.
В Сулгар брели дьякон Пекка и его брат, нищий Фекел. Теперь у него уже не хватало сил, чтобы щипать старую девку Водлу.
Заодно с ними до Кремлихи шатался от сугроба до сугроба сын мытника Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой для подмоги.
Старосту Ошурка с серьгой в ухе волокли с обеих сторон сыновья.
Литвин Питолинский с женой Илкой шли в обнимку и вскрикивали.
Короче всех дорога оказалась у дьякона Петра.
Геласий с матерью в своей избе затолкали батюшку, словно куль, на полати.
32
И тихо стало в деревне тишиной снегопадной. Хотя снег бывает и сыпучий. Слышно, как шуршит по насту.
Изморось – та висит в воздухе и склеивает ресницы.
Бывает, так густо, плотно валит с неба, – дышать трудно.
Или с ветром снег умывает. Или завивает позёмкой.
Что там за погода стояла в те январские дни 1526 года на Пуе – никто никогда в точности теперь не скажет.
Подённых заметок о состоянии окружающей природы даже летописцы не вели. Лучше и не искать.
Про свадьбу Геласия Синцова, конечно, тоже можно только догадываться.
А чем же в эти январские деньки заняты были светочи-то наши исторические, каждый шаг-вздох которых обязаны были фиксировать платные писцы?
Листаю архивные записки.
Глазам не верю!
21.01.1526 г.
Едва ли что не день в день со свадьбой Геласия Синцова произошло в Московском кремле, в соборе Спаса-на-бору венчание великого князя Василия с Еленой Глинской!
И тоже татарско-сербского корня оказалась невеста у Рюриковича.
Тоже – дерома-«цыганка».
Вот как иногда сливаются (во времени) истории, писанные лемехом – и мечом.
Химические законы, конечно, позволяют перековывать меч на орало и обратно.
Но в химии человеческой они, эти истории, несовместны.
А если и сходятся, то по касательной, с отскоком:
Война – Мир.
Жизнь – Смерть…
33
Продолжим параллели.
Геласий – Василий.
Мужик – Царь…
Геласий с утра после своей свадьбы разгребал снег за порогом – кремлёвский молодожён Василий почивал до обеда.
Геласий раздувал горн на дворе и ковал пробойник – Великий князь четыре дня гулял на свадьбе.
Геласий калил концы железных полос и склепывал их в кольцо – Великий князь неделю убил на соколиной охоте.
Геласий железные кольца разогревал и вкладывал в них деревянные колёса. Металл, охлаждаясь, сжимал ободья намертво – Великий князь писал указ, чтобы его рынды (охранники) носили за поясом серебряные топорики.
Геласий подать деньгами заплатил – Великий князь принял на кормление при дворе немецких лекарей Льва и Теофила.
Геласий первую на Пуе пилу вырубил из стальной полосы – Великий князь велел забить двести лебедей на пир в честь посланников из Дании.
Геласий расписал дверь в перегородке избы – Великий князь одарил поместьями верных бояр.
Геласий тараканов морозом морил, неделю жил у брата Анания – Великий князь отослал «поминки» крымскому хану, отступное, контрибуцию.
Геласий навоз на поля вывозил – Великий князь послал воевод в покорённую Карелу и Удмуртию.
Геласий сеял коноплю и чесал пеньковую куделю – Великий князь заключил в темницу рязанскую знать.
У Геласия родилась девка Матрёна – У Великого князя парень Иван…
Часть IV
Око
Матрёна (Чумовая) (1526–1593)
Сила женщины
1
Пыль на дороге клубилась, завивалась в нитку. Клубок вёл за собой черноглазую девочку в холстинной рубахе и с кузовком за спиной.
Впереди в просветах еловых лап показался скос сизой чашуйчатой деревенской крыши.
Девочка постучалась в первую избу. Никто не ответил. Она вошла. В струе солнечного света из волокового оконца вповалку лежали мёртвые тела баб и детей. Крохотные ступни торчали из гноища, будто грибы поганки.
Впору бы девочке кинуться назад, но она даже не испугалась. Концом платка прикрыла лицо, отступила через порог и пошла дальше.
В проулке валялся мёртвый мужик. Девочка долго смотрела на него, будто ждала: вот проснётся и откроет глаза.
Звякнула конская сбруя.
Она повернулась на этот звук и увидела лошадь на несжатом поле.
Лошадь таскала волокушу с покойниками.
Жадно пожирала колосья.
Ночью падёт от колик…
2
Кузовок опять, будто живой, стал вихляться за спиной, биться, подталкивать. Дорога тянулась по высокому берегу Пуи. С обрыва далеко было видать леса, забрызганные алым и бурым, как фартук мясника.
На таких открытых местах сентябрьское солнце пекло. А когда дорога спускалась в овраг, во мрак вековых елей, веяло на путницу могильным холодком.
Только к вечеру снова стали попадаться по краям дороги вырубки и расчистки, янтарные ржаные полянки.
Навстречу ехал мужик.
Телега у него была на дубовой оси с деревянными чеками.
Колёса прихрамывали.
– Ты куда, девка?
– В Долматово. Ночевать.
– Там навек заночуешь.
– Пошто так, дяденька?
– Язва там.
– Везде-то она, проклятущая!
– А ты откуда, чья будешь? Как звать?
– Матрёна.
– А кличут?
– Ласьковы мы.
– Куда идешь, Матрёна-дерома?
– Где смерти нет.
– Ну, значит, мы с тобой, девка, понюхаем табаку носового, помянем Макара плясового, трёх Матрён да Луку с Петром…
Мужик отпил браги из носка кожаного меха.
– Живой смерти не ищет!
Утёрся.
– Умереть когда-нибудь – это, девка, ничего. А сегодня – страшно. Садись. Поехали туда, где смерти нет.
– Не сяду, дяденька.
– Девка ты ярая. Личиком что пшеничная корочка. А глупая. Ведь смерть не мамка. Разговаривать не станет.
– Я пешим за вами.
– По колени ноги оттопаешь. Да и ночь скоро – потеряешься.
Уговорил.
Матрёна умостилась на задках спиной по ходу.
– Ну, душу твою довезу, за телеса не ручаюсь.
И хлопнул вожжами по лошадиным бокам.
Ноги девочки волочились по земле.
Лапти заборанивали следы копыт. Словно бы сами бежали ноги, просились в обратный путь.
Домой…
Моровая язва. Так называлась бубонная чума в те времена.
Начиная с XV века чумные эпидемии сотрясали Россию.
В Никоновской летописи читаем о море «по всей земли Русской» 1423 году. И симптомы указываются – кровохаркание и припухание желёз.
Из летописей также можно узнать, что в том же году псковский князь Федор, из боязни заболеть, бежал в Москву.
Бегство не спасло. Умер в стольном граде.
С 1427 по 1442 год не упоминается об эпидемиях.
Но в 1443 году в Пскове опять чума. Затем затишье.
А в 1455 году снова говорится про «мор железою» теперь уже и в Новгороде. Заметим, с вектором движения на северо-восток, в важские и двинские земли.
(Мор начался в Опочском конце Новгорода, от некого Федорка, приехавшего из Юрьева, говорится в летописи.)
Следующее описание повальной болезни помечено 1478 годом. Эпидемия охватила татарское войско под Алексиным. «Бог, милуя род христианский, посла смертоносную язву на бусурман, начаша понапрасну умирати мнози в полцех их…».
В 1507 году чума опять свирепствовала в Новгороде и держалась, по летописям, три года. Погибло 15 396 человек.
В интересующие нас времена, в 1538 году, в Пскове только одна «скудельница» (обширная, глубокая могила) приняла 11 500 зачумлённых.
3
Звался возница Прозором.
Истинно имя было дано «от взора и естества» младенца при появлении на свет Божий.
Видать, пучеглазеньким и родился. Потом и вовсе зраки навыворот вышли, словно у коня.
Всю дорогу был Прозор говорлив, но чем дальше, тем более подозрительно для Матрёны – как-то и не рьяно, и не пьяно.
Для ночёвки сушняк собирал, ссекал искры в горсть, хлопотал с ужином, а голова всё на сторону.
Взглядом шарил вокруг – и каждый раз мимо Матрёны.
Или вдруг истаурится, будто что-то вспоминает.
Она уж заподумывала, не умом ли он тронутый от горя. Было отчего. Схоронил долматовский подьячий Прозор всю семью.

4
Похлебали болтушки.
Матрёна вызвалась посудину мыть в ручье.
Вернулась, а Прозор уже оглоблю на дугу поставил и укрыл веретьём.
Лица не видать в темноте. Слышно, как отхлебнул браги из меха. Кликнул Матрёну к себе под бок.
– Замёрзнешь!
– Тепло мне.
– К утру проймёт.
– Я тут у огня.
– Али меня опасаешься?
– Нет, ничего.
– Не бойся. В дороге и отец – товарищ.
– Спасибо, дяденька.
– Ну, лезь под опашень. А я под кожухом, отдельно.
– Меня и под приволокой не знобит…
5
Под утро, когда лес подрезало инеем, Матрёна не выдержала и юркнула в меховое укрытие.
Согрелась, уснула.
А проснулась от того, что на ней мужик лежал. Крепким дегтярным духом шибало в нос. Кислая борода лезла в рот. Щекам было щекотно, а тело разрывалось.
Прозор шептал горячей скороговоркой:
– Успевай, девка. Везде мор. Кто знает, живы ли будем завтра.
– Не надо бы мне, дяденька.
– Надо, надо! Не маленькая. Не я, так кто другой найдётся. А я тебя, слышь, живы будем – под венец поведу. Девка ты ягодка. Веком таких не видывал…
– Не надо бы, дяденька.
– Надо, надо. Смерти наперекор. Она людей морит, а мы с тобой обратным порядком…
Дальше Матрёна поехала, сидя на передке рядом с Прозором. Тут было повыше, и лапоточки девочки не цеплялись за колдобины, не пылили.
6
А всего месяц назад, на Илью-пророка, не на двуколке тряслась Матрёна, а покоилась в расписной долгуше с поворотной осью в передке.
И ось была кованая, и шкворень в её середине. И колёса-долгуши насчитывали по шестнадцать спиц каждое. Ободья на трубицах и сами шины – стальные. Хоть до Москвы езжай – не размочалятся.
И не в сторону этой самой Москвы лежал путь Матрёны, а в супротивную, в милый Важский городок.
На Ильинское торжище.
В «мамин домик».
И не пьяный мужик правил повозкой, а родной батюшка. Да двое младших братьев шалили на тканой попоне за спиной Матрёны. И матушка, Степанида, пыталась их угомонить.
Да ещё следом за нарядной долгушей старый Серко волок телегу с возом крашенины на продажу. Правил Гонта-закуп.
Матрёна сидела в возке нарядная, в лёгкой сорочке с костяными пуговками. На голове втугую – белый платок.
В подоле меж ног – куколки. Набитая зёрнами Крупеничка. Соломенная Кострома. А на ладони – Пеленашка.
Когда поезд спустился к перебору, к каменистой быстрине Пуи, Матрёна сгребла куколок в охапку и прижала к груди. Шептала, уговаривала не бояться.
7
Сначала гулко, подводно хрустел галечник под копытами Воронухи, молодой, усердной кобылки.
Затем грозно рычала река под жерновами стальных колёс. Облитые ободья сверкали на солнце серебром.
Возле избы дяди Анания остановились и высадились. Мать с отцом толкали сзади. Воронуха мордой едва землю не рыла. Одним махом вынесла на гору.
Отсюда хорошо было видно Матрёне родную деревню за рекой.
В пряной жаре августа, покрытые зыбью марева, стояли избы на правом берегу Пуи – старая, ставленная ещё топором первопришельца Ивана, прадеда Матрёны. Другая, крепкая, но уже потерявшая за тридцать лет смоляной, золотистый блеск изба её отца Геласия, срубленная ещё его отцом, Никифором.
И чуть в отдалении жёлтый, сочный квадрат нового пятистеннка батюшкиной затеи.
Не видать уже было в усадьбе Домны Петровны – глиняной бабы для плавки кричного железа. Теперь, знала Матрёна, весь металл (топоры, косы, оси, ободья) отец покупал на ярмарке у мужиков из Великого Устюга.
А на месте плавильни громоздился амбар-красильня.
Сейчас, летом, ворота были нараспах, и виднелись внутренности цеха: кирпичная печь и громадная бочка-смолёнка (пузо) в сто двадцать ведер.
Железная труба заклёпанным концом была замурована в печь, а открытым врезана в бочку.
Такой красильни не водилось и в Важском городке. Вся волость знала к ней дорогу. И отец давно уже не сеял лён, брал готовым полотном – один аршин за три крашеного.
Или пряжей, куделей.
И за полгода – к зимним и летним торжищам – набиралось у него до 200 локтей.[82]
8
В свои сорок семь лет, на самом подъёме жизни, «тятюшка» оставался так же чист лицом и статен, как и в начале многолетнего льняного упряга, когда по этой дороге бабка Евфимья увела его в люди, и потом он по этой дороге в ученье бегал к иконнику Прову.
Возжался отец с боку долгуши в белой рубахе до колен и в лаптях – сапоги пришивные с голенищем в рюмку лежали под боком у Матрёны готовые на выход в торговые ряды Важского городка.
С другой стороны повозки шла мама Стеша.
В сравнении с бледноватым тятей, наоборот, плясуха, как её кликали в Сулгаре, будто смородинным соком налилась за время супружества.
И лицом, и всем телом словно подкоптилась у печи.
И если на отце и детях оболока была небесная, ромашковая, васильковая, то в одежде матушки – в двух рубахах разной длины, в поневе, в шёлковом повое на скрученных косах, в сборчатых рукавах – всё было терпко и густо.
Шёлк на голове мамы Стеши цвета татарника – фиолетовый, нагрудник крашен живучкой – лиловый.
Одна рубаха сиреневая в тон болотной фиалки. Другая чёрная с золотой набивкой по подолу.
А на синем переднике пылали алые маки.
Все эти льняные, напитанные соками трав рубахи, порты, платки, вся сбруя лошадиная, плетённая из пеньки и резанная из кожи, все повозки, выструганные из дерева, шерсть на двух лошадях – чёрная и серая, – всё это двигалась среди тех же самых трав и деревьев, только стоячих, среди шерсти зарывшихся в норы лис и спящих кабанов.
Всё было в поезде цельно, едино, слитно, чувствовала Матрёна.
Только движением и отличалось от окружающего мира да ещё подвластностью отцу с матерью, души которых тоже, впрочем, были наполнены теплом и благом этого истомного августовского полдня.
Как бы теперь сказали: всё находилось в высочайшей гармонии с созданием Божьим.
9
А в те времена и так бы ещё сказали: Геласий шагал по земле, а Бог – по облакам.
И осмелились бы ещё подпустить:
– Ходил, ходил Бог по облакам да, старый, и оборвался!..
Ну, а что такое сорвавшийся со своих высот Бог?
Перевёртыш – сатана.
А сорвавшаяся Богородица – ведьма.
Тенью гармонии – хаосом накрывался мир после таких вселенских срывов.
За созиданием следовало разрушение.
Здоровье заканчивалось болезнью.
На самом пике счастья, блаженства вдруг обрушивалась дорога впереди.
Или плетью вселенской вздыбливался смерч перед человеком.
Или просто сосало сердце от предчувствия великого Хаоса.
Чумной хаос принял образ дядьки Черномора и тётки Куги.
Черномор.
Чёрно – Мор, с крыльями.
Летает над миром.
Куга – рысью ночной пластается. Чёрной кошкой скользит по земле.
10
…Началось сверху.
Матрёна почувствовала, как застоявшийся парной воздух колыхнулся от какого-то далёкого, едва уловимого удара, не громче копытного.
Солнце, гревшее спину, вдруг одновременно стало светить ей в глаза, отражаясь от плотной туманности в небе.
В этой высотной белёсой мути быстро распустилась горсть синьки и запахло льдом.
Обуял страх не только Матрёну.
Отец яростно нахлёстывал Воронуху концами вожжей. У Гонты кнут пошёл в ход.
Тягостной иноходью караван приближался к церкви на Погосте.
Спасенья чаяли под навесом храма, а оттуда в лоб ударило колокольным звоном.
Двенадцать раз перебором по зычному билу и сиплому тевтонцу.
Мёртвому на помин!
– Два счастья нам сразу на дорогу. И покойник, и дождичек, – бодрился отец.
Завели возы под навес.
Укрыли кожами.
Под первыми каплями гурьбой вломились в церковь.
11
В полутьме храма служил священник Парамон – Пекка из угорского рода Браго.
Матрёна всегда побаивалась его. Жесткие волосы дьякона ниспадали куполом, как очёсанный стожок. Брови были белесые, невидимые. А на лице проступали все кости.
Казалось, даже слышала Матрёна, как похрустывало и пощёлкивало в челюстях отца Парамона, когда он выговаривал многократно:
– Господи, помилуй!..
Оказалось, попало семейство на «воспоминания о сущих зде от язвы усопших», на Великую панихиду по царице Елене Глинской.
После службы, выйдя на паперть, недолго и неусердно погоревали. Повздыхали и стали разбирать вожжи. Сильнее бы тронула их весть о смерти какой-нибудь бабы из соседней деревни.
А царица что? Подати ей платил отец исправно. Она не чинила преград ему ни в работе, ни в торговле. Под ружьё не ставила.
Над душой не стояла.
Поехали дальше по склизкой дороге.
Приговаривали: кто намочил, тот и высушит.[83]
12
В жаркие дни грозы коротки.
Но в начале августа поднебесный холодок, бывает, и сутки придавливает.
А то вдруг дохнёт сверху осенью, да и вовсе не отпустит.
Так и случилось.
За мороком, после ливня, потянулись грязноватые облака, и закат выдался бурым.
Вброд переехали Паденьгу, ночевали в плотном ельнике, «где Матрёна была зачата».
А утром опять – дождь и ветер.
Лапти будто из глины вылеплены. Мокрые рогожи на плечах как рыбья чешуя.
Всё наперекор замыслу и поперёк пути.
Из последних сил глухой ночью переправились через Вагу, одолели береговую кручу.
Стали у запертых ворот Важского городка.
Батюшка Геласий Никифорович был человек в округе знатный, тороватый – стража не кобенилась.
Счастливо уснули в сухом домике, родном для матушки.
И с рассветом отец подался на торжище.
Обедать приходил домой, помнилось Матрёне, ещё собранный, сосредоточенный на делах, а к ужину явился разбитым.
Даже не похвалился купленным тарантасом с коробухой на кожаных ремнях, как люлька.
Спал разметавшись, в одних подштанниках.
Пылал жаром.
К рассвету принялся кашлять и сплёвывать гноистой слизью.







