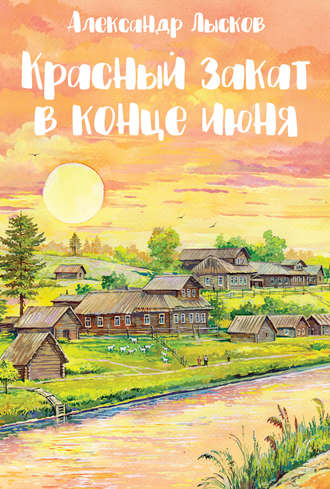
Александр Лысков
Красный закат в конце июня
Первая могилка!
Следующий плод Фимкин помер уже с именем – во второй ямке лежал мальчик, ошпаренный кипятком. Степан. Четырёх лет от роду.
И голод, конечно, подбирал детей.
Только поспела кислица[54], убрели, взявшись за руки, двойняшки Синцовы – брат с сестрой, Николай с Еленой, в приречные кусты и объелись там неспелыми ягодами. Так, рядышком, едва ли что не за руки взявшись, и легли пятилетние в землю.
А подросток Еремей помер от кровохарканья.
…Дети клались в могилы попросту.
Отец Паисий не затевал полной службы.
Короткая панихида в храме, и гробик опускался в землю под 122 псалом: «К Тебе, живущий на небесах, возвожу очи безгрешных! Помилуй их! Ибо не насыщены презрением Твоим».
Дощечки домовин усевались горстями песка.
Рытвины сравнивались с землёй.
Обозначались на поверхности сосновыми крестиками.
Так, под звон «била», под гул «клепала», с пением отца Паисия утучнялась угорская земля плотью славян.
Через смерть и тление переводилась понемногу в законное их владение.
74
Внутри Христова ковчега-церкви, на каноне, в ящике с песком, горела свеча, слепленная из воска диких пчёл.
Под иконой Святой Троицы трепетал в клещевинном масле огонёк лампадки грубоватого глиняного обжига.
Поминальный обряд по первому, настоящему, полноценному православному покойнику на этой земле во всю литию раскатывал отец Паисий. На нём из положенных по уставу белых панихидных одежд было одно лишь шерстяное полотенце, сотканное Фимкой в дар храму, осветлённое в козьей моче и вышитое крестиками по краям. Отец Паисий стоял у аналоя спиной к открытому гробу, водружённому на катафалк из жердей.
Слышались слова упокоения из 90 псалма: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится!»
Храмовый корабль под двумя крестами обдувался прохватным ветерком. Подобно матросскому воротнику развевалась занавеска на клобуке у дьякона Петра, ползущего по приставной лестнице к колоколам.
– И прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое, – доносилось из открытых дверей храма. – Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь!
К этому мигу дьякон Пётр утвердился на досках звонницы, и стальной колотушкой долбанул по дуге била. Послал начальное известие всей языческой округе. Заносчивым взглядом проводил звук окрест, шепча: «Воззовёт к вам, и услышите Его».
Вдогонку горестному всхлипу литого била полетел с холма утробный навет клёпаного «тевтонца».
И приговор у дьякона был соответственным: «Оружием обыдет вас истина Его!»
75
Помимо отпевания заодно отслужили по Синцу и отдельный молебен – во славу безвозмездной помощи усопшего при строительстве «корабля» Христова.
Хотя не прост был покойник. Расчётлив.
С поклонами, с молитвенными присловьями помогал рубить церковь, но в ответ ждал от святых отцов привилегий.
Говаривал Фимке в укромной ночи: «Через попов наше володение придёт над угорцами. Вдобавок к нам приплывут православные. А там отцы святые и стрельцов запросят, в случае чего. А то в последнее время что-то забеспокоились безбородые…»
Сыну Никифору наказывал Синец плотнее сходиться с попами, угождать и помогать, с горечью отмечая, что парень холоден к вере Христовой.
Через свою зазнобу Никифор многое в душеустройстве перенял от местного племени. Словно чужой стал – двойчатый.
Хотя и сам Синец «Отче наш» не твёрдо знал. И постоянно терял нательные крестики. И знамение не каждое утро творил. Но у края земной жизни, в гробу на его лице будто бы обозначилась твёрдая истина и застыл укор сыну.
И как стали заколачивать гроб, так словно волной толкнуло в грудь Никифора – уж не досада ли татушкина?
Часть II
Исход
Никифор (Двоич) (1471–1525)
Происки государства
1
После ледохода Пуя наполнилась мрачной силой.
Будто плотиной подпёртая противоположным крутым берегом, прихлынула волной к завалинке.
Просочилась в избу по колено.
Из-под крыши от зимней скученности выгнала людей – на простор. Повыше, на полянку.
Там, у домницы, устроилось всё семейство.
Ночью звёзд было не видать – столь много оставалось дневного свету, потому хорошо спалось у огня лишь детям – трём мальчикам, семи, трёх и одного годов, завёрнутым в шкуры. Да с ними – бабушке Евфимье.
А Никифор с Енькой-Енох плели верёвку для вожжей из пеньки и лыка.
На одном конце Никифор крутил деревянный просак, а на другом Енька, внатяг, ссучивала конопляные волокна и пускала между ними лыковое.
– Давай, что ли, сказку скажи, Еня.
– Так ведь я их только по-своему знаю.
– Эка беда. Говори.
Енех негромко начала:
– Егишер Бенце кимеги ен тенге парт…[55]
2
В сказке говорилось, как угорский парень по имени Бенце увидел в море нерпу. Попросил её перевезти на спине в места, богатые жиром.
Приплавила его нерпа к китовому народу.
– Здорово! Зачем приехал?
– Жиру вашего поесть хочу.
– Поел?
– Спасибо, наелся. Вот только в горле пересохло. Напоите меня[56].
– Из деревянного корыта попей.
– Эх, вы! Всё ещё без чашек живёте![57]
Подошёл Бенце к корыту, едва пить начал, как вдруг вниз головой полетел в бездну.
Упал прямо в жилище моржового народа.
Далее говорилось в сказке, побывал Бенце у всех морских пле-мён. Но особенно щедро его угощали лахтаки.
За такое гостеприимство он пообещал им сестру отдать.
Отправились лахтаки за невестой.
Прибыли в чум Бенце. Много толкуши[58] съели.
И Бенце выдал сестру замуж за лахтака.
Нырнула девушка с новыми родственниками в лахтачье царство. Слышит, жених говорит:
– Мать, огонь разводи, невестку светом встречай!
Начали девушку окуривать. Приобщили к очагу.
Лахтачий народ собрался. Рассматривают невесту.
Говорят:
– Ой, какая красивая девушка![59]
Тут и сказке конец…
Никифор засмеялся.
– А помнишь, как мы с татой-покойником в Важский городок на плоту ходили? И я эдак тоже глядел с плота в воду да и кунул. Тата меня за ногу выволок. А то бы тоже женился на лахтачке, или красноперке какой-нибудь, или на полосатой окунихе.
– Так ведь мы тогда с тобой уже сговорёны были!
– Отсюда, Еня, и спасение.
3
Больше всего поразил маленького Никифора в том плавании на плоту столб посреди площади Важского городка.
– Гли-ко, тата! Что у русичей на торжище вместо ракиты! И не тряпочки к столбу привязаны, а живой человек!
Руки у мужика были стянуты сзади, и казалось, будто несчастного этим позорным столбом насквозь пронзили.
И на площади не кружение богомольцев под бой шаманского бубна увидел Никишка (как бывало у угорцев), а кураж пьяной ватаги «хотячих», явившихся по зову воеводы Михаила Скряби для похода на непокорную зырянскую Угру.
Босые, в обносках и рвани, вот уже который день ждали они обещанных войсковых кафтанов.
Горланили, безобразничали.
– Петро! Не верь снам! – кричали опозоренному стоянием у столба.
Хохотали бездельники.
Жалостливый Никифор упросил отца узнать, за что страдает человек.
Оказалось, он один из «хотячих» и поплатился лишь за пересказ своего сна.
Привиделось, будто святой Сергий велел ему вернуться домой, перестроить избу в три жила и тогда станет он важским воеводой!
Мужик рассказал сон товарищу.
Тот проговорился. Нашёлся доносчик.
И действующий воевода назначил простельге битьё батогами – не возвышайся хотя бы и во сне!
– Сколько батогов получишь, Петро, столько и свечек святому подсказчику Сергию поставь, – не унимались охальники.
Рождённому среди лесов, в добрых семейных пределах, в окружении незлобивого угорского народа, всё разухабистое русское было Никифору вчуже.
По возвращении из плавания, возмущённый битьём человека палками, он ещё глубже укоренился в язычестве.
Даже камней натаскал в Ельник и устроил из них своё игрушечное капище.
Куски хлеба стал жертвовать богу Ен, глиняные игрушки, пойманных рыбёшек…
4
Схлынул потоп. Изба просохла. Пуя понемногу набирала прозрачности. Зацветали в замоинах купальницы. На лужайках облетало золото одуванчиков – оставалось серебро.
К тому времени вспахал и засеял Никифор все полянки.
И теперь с теслом в руке не отходил от осинового кряжа на берегу. Осёдлывал то справа, то слева.
Мотыжил древесину. Выбирал лишнее.
Чтобы промахом не продырявить днище или борт, насверлил снаружи дырок буравчиком. Вставлял в отверстия ольховые тычки вглубь ровно на полвершка.
Лишь откроется изнутри под теслом эта мерка-подсказка, глубже не забирай. Не прозеваешь. Ольховый тычок – он от природы красного цвета. А само осиновое тело лодки – белое.
По днищу словно веснушки разбегались…
Вокруг отца копошились в песке и стружках три мальчика. Старший, Иван, в порточках, младшие Ананий и Ласло, голозадые.
Иван уже «подпоясанный». Считай, мужик, пусть и невелик.
Ананий – саженый на коня. После этого уж титьки мамкиной ему ручонками не загребать.
А у годовалого Ласло сегодня только «пострижины».
Семейный праздник.
5
Дети всполошились и с криками кинулись навстречу своим угорским бабке и деду.
Младший за ними, ревя, ползком.
С горки по глинистой дороге, обожжённой июльским жаром, спускались Кошут с Туттой.
Кошут в сокуе – малице из шкуры забитого в июне оленя, когда сохатый почти без шерсти. На ногах у Кошута – бокари, подвязанные у колен. На Тутте – распашной кафтан из полотна производства славянки Фимки.
В голодуху 1475 года за «отрез» дали Кошуты ей полтуши лося. На голове у Тутты – высокая валяная шапка с вышитой занавеской.
В корзинке несла бабка подарок к празднику: вязаное на спицах козье полотенце в полтора локтя.
В эту вязь обрядово состригут девять локонов мальчика. Туго обовьют крапивными стеблями и сожгут на берегу Пуи в костре!
Станут приговаривать: «Коляда Божич – слава Божичу за доброе начало, за дитё здоровое. Велесу слава за чистую кровь. Слава Ярилу за мужество. Леля, Лада! Слава вам за любовь. Купале за семейный лад. Перуну – за добычливость. Световиду – за мудрость…»
И вперемешку со славянским говором прозвучит: «Еги-кет-ха-ром-киленс»[60].
Над водой трижды произнесут этот заговор. Ножом на береговом песке очертят девять кругов.
Скажут: «Матушка Пуя, обмываешь ты крутые берега, жёлтые пески, обмой-ка ты и внука моего Ласло. Все хитки и притки, уроки и призеры, скорби и болезни, шёпоты и ломоты, злу худобу. Понеси-ка ты, матушка Пуя, быстрая река, все болести Ласло своей медвяной струёй в чистое поле, земное море за топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын! Будьте, мои слова, легки и крепки в дозоре и договоре впереди, а не позади. Ключ – в море, болезнь и лихо – на дно, а язык – в рот».
После сожжения волосяных прядок пострижённый заснул под бортом долблёнки, на мягких осиновых стружках. Уморился от праздника. Да и то сказать – разбужен сегодня был слишком рано для младенца – до восхода.
Носили его Никифор с Енькой на гору, показывали на самом подъёме Ярило – Шондаг.
Да потом в тёплой бане купали в настое трав строго одного рода – зверобой, спорыш, сабельник, горчак, – все цветки у них пятилепестковые.
Нечётные.
Мужские…
6
Гордый Кошут впервые после поминок Синца снизошёл до гостьбы в славянском доме. Возымело действие на непреклонного угорца имя младшего внука. Назвали Ласло, как отца Кошута, то есть прадеда. Вот и получай пришлые люди уважение от туземца.
Расселись по лавкам за стол под двумя солнцами – из волокового оконца и дымника.
В прокопчёное жилище через эти отверстия не смели соваться ни слепни, ни оводы. А бабочек дегтярный настой, наоборот, приманивал.
Красно-чёрные крапивницы порхали в серебристой пыли солнечных подпорок.
Садились живыми узорами на полотенце в опасной близости от огонька лампадки в красном углу.
Трепетали их яркие крылышки и на пучке засохших вербочек, и над заменявшим икону крестом, грубо скованным покойным Синцом.
А в застолье той порой уже шла по кругу глиняная чаша с медовухой. Ели щуку в рыбнике. Хлебали овсяный кисель.
От разговоров к песням перенесло их ветром духоподъёмным.
Тетёра на стол прилетела,
Молодушка спать захотела.
Пойдём, пойдём, Иванушка, спати,
Весеннюю ночь вдвоём коротати!..
У бабки Евфимии кровь настолько разгорячилась, что она в пляс пошла.
И до того голову потеряла, что махнула платочком перед Кошутом. И блеском глаз просигналила к отзыву.
Да Тутта была настороже.
Вдовьи шалости славянки отозвались ревностью суровой угорки, сухим властным шёпотом в ухо мужа:
– Идё хаз![61]
С Ефимьей они были товарками. Вместе лён теребили. Совершенствовали ткацкое дело – к концу жизни Синец уже устроил им обеим кросна с педалями, – раму повалил горизонтально. И Фимка, и Тутта уже ткали с шерстяной ниткой тёплые рубахи.
За двадцать лет та и другая научились и по-угорски, и по-славянски.
Повивальными бабками друг для дружки потрудились немало.
Да и породнились.
Но всё-таки одна меж ними преграда осталась непреодолимой, одна собственность – «мой мужик!».
Теперь-то Кошут, вишь ты, дорогу к славянке проторил! А ну как после этих песенок взбредёт в голову старому к вдовушке плотнее тропинку топтать?
– Идё хаз!
Домой из гостей шли они уже не по дороге на Ржавое болото, а по перелазу через Пую (козлы с поручнями) и далее – по заливному лугу, по Исаде (что означает – место высадки с корабля).
По рассказам Синца, именно здесь они с Фимкой впервые ступили на пуйскую землю.
Была песчаная отмель – стал полномерный заливной луг.
Исада.
7
– … Ну-ка, Ласька, давай мы с тобой вверх по реке протолкаемся до того песочка.
Мальчик на носу долблёнки истово, благодарно гребёт крохотным веслом, только что вытесанным отцом.
Для облегчения Никифор правит в прибрежную затишь.
С писком вонзился киль лодки в мокрый песок отмели.
– Тата, отчего так вонько?
– Рыбина где-то гниёт.
Следы босых мужских ступней, и гусиные, мальчишеские прострочивают берег.
На глади песка издали различим будто бы каменный выступ.
Или коряга?
Для валуна – слишком тускл. Для коряги – недостаточно жирен.
Никифор топором ткнул. Мягко. Хлюпко. Нестерпимо сладко шибануло в нос.
Распорхал вокруг. Звякнуло под топором. Потянул – надо же! Медный крест на привязи!
Никифор в страхе отбросил находку.
– Отец Паисий! Это его нательник!..
8
Отец Паисий пропал в начале мая.
Видели, как он с саженным сачком на плече спустился от храма к реке. Из мутной водицы пытался загрести рыбу, ослепшую от ила. Удалялся вверх по течению.
И словно в воду канул.
Ежедневно дьякон Пётр читал по нём молитвы о здравии. Потом через день поминал – и реже.
И хотя дьякон не был в сан рукоположен, но, обвыкнув, самовольно вступил в должность. По своему усмотрению стал править службы.
По нахождении Никифором тела утопшего дьякон Пётр отслужил за упокой. На похоронах дружно решили, что соскользнул рыболов с глинистой кручи в глубь и запутался в рясе.
Однако квартировавший в это время в церковной пристройке мытник Пахом, перед положением тела отца Паисия во гроб, указал всем собравшимся на пролом в черепе мертвеца. И вправду, разглядели под сединами синюшную вмятину. И рубец на коже хотя был и размыт, но ясно различался.
Выходило – убийство.
А кто же враг-злодей? Кому православный поп встал костью в горле?
Ясное дело – язычник.
9
Двадцать лет отец Паисий проповедовал среди угорцев и тихим словом, и грозным проклятьем.
Отчаялся донести Христово учение по-славянски. Замыслил язычникам алфавит, письменность греческого начертания.
На досках вырезал буквы. Доски заострил с одного конца и вбил недалеко от кузницы Ерегеба в прибрежный песок сплошным щитом.
Из любопытства собралось вокруг достаточно местного люда.
Закат выдался пёстрый, расписной. Будто само небо из своих перьев и клоков складывало слова, тоже хотело что-то сказать.
Отец Паисий в потрёпанной рясе, с крестом на вервяном гайтане ткнул себя в грудь.
– Ен![62]
Повторил врастяжку:
– Е-е-е… н-н-н.
Одновременно указывал на буквы деревянной азбуки.
Прутиком на песке ещё и рисовал их.
Для закрепления науки опять ударил себя в грудь («Ен!») и ткнул в пропись.
Угорцы угрюмо молчали. Некоторые даже отпрянули, когда отец Паисий приблизился и пальцем указал на мальчика:
– Те![63]
Мальчик засмеялся.
– Т-т-т… е-е-е.
То же было перерисовано с досок на песок.
– Те! – выкрикнул понятливый отрок в лицо отцу Паисию, отчего священник благодарно перекрестился.
Следующее слово первого урока было «мы». По-угорски – «ми».
Потом слово «Истен», значит – Бог.
Я… Ты… Мы… Бог…
Для первого урока достаточно.
10
В каждый погожий день лета открывалась школа на берегу.
Постоянно вертелся вокруг отца Паисия внук шамана – Пекка. Ещё несколько безымянных угорских мальчишек. Да бобыль Балаш. Да сын Кошута – Габор. Да тётка Водла – эта скорее из женского расположения к отцу Паисию, чем от потребности в грамоте.
Время от времени, по пути на игрища, набегали угорские парни и девки.
Бывало, к сумеркам весь берег испишут буквами и словами.
C холодами затея сникла.
А замысел продлился. По просьбе отца Паисия первый его прихожанин, ныне покойный Синец, сковал иглы в палец длиной.
Привязал их к палочкам распаренными жилами. Жилы высохли – стянули железо и дерево в единое стило – орудие грамотности, по числу учеников.
Сам отец Паисий ободрал не одну березу. Уложил кору под гнёт, чтобы расправить в лист.
И зимой, в безвременье, в безделье, к нему в келью битком набивалось учеников. Выцарапывали они иглами на бересте угорские слова и целые предложения.
Службу в церкви отец Паисий давно вёл по-угорски. А теперь, воспитав достаточно чтецов, взялся и за перевод книги Бытия.
Строка «Вначале сотворил Бог небо и землю» писалась по-угорски так: «Кэздэт теж Истен эг эс фёлд».
Первыми крещёными стали Габор, Кошут, тётка Водла и отрок Пекка.
Кроме них приходили слушать литургию и просто любопытствующие. Дивились храму, пению дьякона на клиросе и горению множества свечей, вылепленных старцем из воска диких пчёл.
11
Долина туземцев Сулгара на голубиные песнопения отца Паисия, на его азбучные дары отозвалась роптанием.
Племя почуяло угрозу духовной кабалы.
Для возбуждения самобытности решили угорцы выстроить на противоположном берегу реки Суланды, напротив православного храма, в укор и назидание отцу Паисию знатную кумирню в честь своей богини солнца Хатал Эква.
По заповедному замыслу возвели квадратный сруб-куб.
Из прежнего жертвенника в пристройке кузницы перенесли в новую кумирню священные шкуры, медные нагрудники, оленьи рога и главное – деревянного идола, вырубленного из узловатой сосны: брюхатая богиня сидит воздев к небу руки-сучья.
Переносили всем народом, с воплями и биением бубна.
Духом соперничества прониклись. Потребовали, чтобы Ерегеб на вызов отца Паисия отмечал каждую четверть луны камланием в новом святилище. Ерегеб сослался на старость и просил уволить.
Тогда бобыль Балаш объявил, что часто бывает в стране мёртвых и потому готов стать новым шаманом.
12
Балаш человеком был нервным, дёрганым. Про него говорили – «болонд»[64].
Каждое полнолуние начиналось у него с обморока.
Сутками бродил по лесам и выкрикивал понятные только ему одному «имадки» – призывы к небу. Падал на колени, бил кулаками о земь и хрипел «гоноши» – заклятья.
Лучшего шамана не найти!
По требованию племени Ерегеб передал Балашу бубен.
Молодой шаман взялся за дело со страстью. Перед всяким камланьем постился три дня. Обряд вел до потери сознания – помирал заживо у святого огня на глазах соплеменников.
Или вдруг в конвульсиях изрыгал борост (янтарь). Снова глотал его. Уверял, что камушек будет надежно храниться у него в желудке до следующего камланья.
13
Отец Паисий был тогда ещё жив.
Однажды он забрёл с сетью в омут, а Балаш крикнул ему с другого берега:
– Растопчу икону – и твой Бог ничего мне не сделает!
Священник тоже был не робкого десятка. Отвечал из воды достойно:
– Твоего идола изрублю – ни волоска с моей головы не упадёт!
И ещё много опасных слов наговорили они тогда сгоряча друг дружке. Слух об этом богословском споре разлетелся по суландской долине. Распря духовников всколыхнула племя.
На другой день угорцы толпой ринулись к двуглавому храму.
Выкрикивали угрозы поджога.
Потрясали дрекольем.
Отец Паисий осмелился встать к нашествию лицом. Сердцем прикрыл Христово строение.
Предложил испытать силу веры не на деревянном срубе, а на плоти человеческой. Мол, кто из них, Балаш или он, отец Паисий, невредим пройдёт через огонь, того и вера крепче.
14
Бунтовщики вняли рассудительному попу.
На берегу, где когда-то священник обучал их азбуке, выстроили из сухих веток проходной шалаш.
В назначенное время и слепые притащились к ристалищу, и неходячие приползли.
А уж весь здоровый угорский люд, мужской, женский, детский – в малицах, ровдугах и рубищах, в лаптях и моршах, с утра толокся здесь.
Стояли первые тёплые дни после ледохода.
Солнечный, кумирный, берег уже облило зеленью. А под тенистым, церковным, ещё белел снег.
Гуси валкими клиньями проплывали над Суландой.
Ватаги уток падали с неба и ускользали за поворотом реки.
Мать-и-мачеха (ранник, выстрочник) расползалась по проталинам.
Окукливалась ракита.
Всё кипело вокруг.
И страсти бурлили меж людей.
15
Огонь принесли из кузницы Ерегеба.
Однако отец Паисий углядел в нём враждебную языческую силу и потребовал равенства.
Факел затушили в реке.
С обеих сторон сушняковой арки ударили кресалами по кремням.
Ветки взялись дружно.
Первым ринулся в пылающую купель пылкий Балаш.
По условию, позволено было испытуемым только мокрую рогожку накинуть на голову.
Темечком вперёд Балаш исчез в огне.
В толпе поднялся гвалт.
Бабы заверещали словно перед концом света:
– Ерош Истен![65]
Пылающее сооружение пошатнулось – испытатель в огне сбился с направления.
Сунулся в самый жар.
Толпа в ужасе застонала.
И, видимо, так припекло Балаша, что он вынужден был в огненной пещере пасть на колени.
На четвереньках, в россыпи искр вырвался в весеннюю прохладу.
Люди стали пригоршнями брызгать на него из реки.
Глаза угорцев горели торжествующим огнём.
Если Ерегеб, будучи шаманом, осмеливался только прикладывать угли к голой груди, а Зергель перекатываться через костёр, то Балаш в овладении испепеляющей стихией стократ превзошёл их.
16
Толпа взывала к отцу Паисию.
Дьякон Пётр внушал священнику:
– Держитесь левее, батюшка! Там оно прохладнее. Ветерок-то с горки тянет.
– Уповаю на Отца, Сына и Святого Духа! Господи, помоги! – молвил отец Паисий.
С крестом в руке нетвёрдой стариковской походкой приблизился к огнедышащему устью.
Народ вокруг умолк как по команде. Моргнуть боялись, не то чтобы слово молвить.
Ни охом, ни вздохом не отозвались на его решительный шаг. Наоборот, как бы усиливая жар, горящими глазами проводили священника в печище.
Гул разочарования раздался среди них, когда сначала показалась из огня рука с крестом, а потом и священник в тлеющей рясе.
Обгорели у него только пясть и конец бороды.
Одежда занялась в нескольких местах, но подбежавший дьякон Пётр сбил огонь ветками черёмухи.
Вышла ничья. Разошлись умиротворённые.
17
Вместе с угасшим огнищем остыли, казалось, и возмущённые души. Процветать бы и дальше двоеверию в Сулгаре, да тут вдруг так некстати на рыбалке и пропал отец Паисий.
Это послужило знаком, подхлестнуло неуёмного Балаша. Каждый вечер он теперь стал камлать возле кумирни напоказ, с тем смыслом, что провидение рассудило в пользу Хатал Эква.
Радуйся, племя!
Поп пропал, а шаман – вот он. Бьёт в бубен, пляшет вокруг костра, вступает в беседу со своими богами.
И слышит их наказ: очистить угорщину от пришельцев!
Своей духовной силой возбудил Балаш патриотизм туземцев. Засомневались в Православии после исчезновения отца Паисия даже им лично крещёные.
Обретение тела отца Паисия не только не охладило духовного пыла угорцев, но подлило масла в огонь. Угорцы стали яростно отвергать обвинение в убийстве священника.
Кричали, что коли душа отца Паисия на том свете, то распорядятся теперь ею в горней сшибке Истен Мед и Саваоф, Омоль и Антихрист. А здесь, на земле, пускай останется по-старому, как было «езер ев езелотт»[66].
И до того растравил Балаш возмущение своего народа, напитал паству злобой, что дьякон Пётр вынужден был бежать в Важский городок.
Там, в съезжей, бил дьякон челом воеводе. Жаловался на язычников, мол, «смертоубийство православных замышляют».
18
…Енех-Енька дёргала репу на своём огороде.
Старший Иван сворачивал головы вершкам, а корешки корзинами таскал в яму.
Ананий и Ласло сидели на горке ботвы, грызли ломти сладкого корня.
С речного переката донёсся хруст копыт по камешнику, шумное взбалтывание воды, незнакомые голоса.
Енех распрямилась.
Три всадника в красных кафтанах с брызгами и пеной выезжали на берег.
У первого пищаль за спиной, а на груди – берендейка с гирляндой зарядов.
У других сабли на белых перевязах.
Младшего подхватила Енех на руки как оборону. Ивана с Ананием подгребла к подолу.
– Эй, баба! Где твой мужик? – крикнул передовой.
С испугу у Енех вырвались по-угорски:
– Ен говани.
– Чего лопочешь? Мужик где, сказывай!
– На болоте.
Стрельцы поскакали по дороге в гору, куда указала Енех.
19
…Никифор на болоте попеременно тянул рукояти ворота. Плот скрипел и тащился по трясине. Железистая жижа плескалась в корыте до краев.
Словно леший во плоти, Никифор кругом был илом заляпан, обвешен кореньями…
Выскакали из лесу верховые.
– Ты, что ли, Никишка Синцов?
– Я есть.
– Велено тебя в Сулгар доставить.
– Кто велел?
– Урядник.
– Зачем?
– По-бусурмански понимаешь?

– Есть такое.
– Толмачом, значит.
Сбруя позванивала. Фыркали воинские жеребцы. Мужицкая кобылка волновалась.
Как попала эта Кукла к покойному Синцу, так коня и не нюхивала. А тут сразу компания.
И чтобы кони «шеи не сломили», морды не заворачивали на гривастую, приказано было Никифору выпрягать сладкую из повозки посреди леса, забираться на неё, трястись охлюпкой впереди посыльных.
Без остановки проехали мимо Енех с детьми.
– В Сулгар я. Скоро буду! – крикнул Никифор семейству.
С опушки леса оглянулся – стоят как истуканы.
20
Стрелецкий урядник Бориска Ворьков в ожидании толмача обедал у дьякона Петра. Сабля и кафтан уложены на лавку. Рубаха распоясана.
Был служака молод и статен, новгородского кроя: узколиц, сух, чёрен бородой и глазаст.
Призванный для допроса отставной шаман Ерегеб как побитый сидел в тёмном углу избы.
Тоже, будто пленника, втолкнули сюда и Никифора-болотника.
Урядник покончил с кашей, утёрся рукавом.
– Спроси у него, угрожал ли этот ихний Балаш убиенному батюшке?
Никифор перевёл Ерегебу и от него – уряднику.
– Говорит, это был… трефа вито… Ну, как по-нашему сказать… шутейный спор.
– Значит, было! Теперь спроси у него, часто ли отлучался этот Балаш из стойбища.
– Почитай, каждую четверть луны.
– Так ведь и в день пропажи батюшки точнёхонько луна в четверти стояла. Значит, его в то время тоже не видать было в Сулгаре?
– Того он не упомнит.
– Что же так этого вашего Балаша в лес-то тянет?
– Там он с мёртвыми разговаривает.
– С мёртвыми! Ну, вот и добегался. Договорился. Разбой на нём! Поймаем – повесим посреди Сулгара. Либо в кумирню затолкаем и зажарим! Да и тебя, старого, туда же. Да и всех ваших крикунов поганых. Забудете, как перечить…
21
Позвали в избу целовальника.
Подготовка к увековечению происходящего у этого грамотея была долгой и обстоятельной.
Сначала он вытащил из торбы клочок пергамента, многократно скоблёный от прежних записей. Потёр его куском пемзы для выравнивания. Посыпал мелом и опять потёр, чтобы чернила уж точно не расползались.
Затем появилось на столе перо с правого крыла гуся. Ибо целовальник оказался левшой.
Перочинный ножик был вынут из игрушечных ножен. Перо наискось срезано на конце.
Выдолбленную из камня чернильницу в берестяной оплётке присяжный писарь снял с пояса и установил перед собой.
Вся эта процедура пугала Ерегеба – будто ему казнь готовилась!
Старый угорец вертел в руках гранёную палочку – пас – и бормотал смертные заговоры.
По требованию урядника Никифор вполголоса переводил причеты:
Бежали семь духов,
Семь священных духов.
Отдыхали возле семи берёз.
Эти семь берёз вечно стоят —
Одна берёза сгнивает и падает,
А другая вырастает.
Не руби маленький лес,
Он должен расти…
Понятно стало, что Ерегеб вовсе отчаялся. Готовился к смерти.
У бывалого служаки урядника это называлось «взять на притужальник».
– Скажи ему, мы, чай, не звери. Он старшина в племени, почитай, князь. Значит, может и сам откупиться, и людей своих откупить. Продай, старик, землю и спокойно живите. Пуcть только этот ваш Балаш и впредь лишь с мёртвыми говорит. Чтобы среди живых я его не видел. Чтобы духу его тут не было.
– Елад талай ед лакик[67], – перевел Никифор.
Старый Ерегеб подумал и кивнул.
Целовальник вывел на пергаменте:
«Купчая… А что купил село Сулгар со всеми угодьями от Туйги до Паденьги, по обеим берегам Пуи и Суланды, я есмь урядник Бориска Ворьков за пять рублёв… Аже иметь мне служити, село будет за мной, не иметь служити, – село отоимуть в государево владение…»
22
До сего дня здесь на паперти сулгарского храма лишь отец Паисий представал перед старожилами единственно от имени Христа. Благостные выпевы попа канули в небыль. Внове были и голос лихого урядника, и напор.
Не слезая с коня, Бориска Ворьков прочитал только что подписанную грамотку на вотчину. В пояснение добавил:
– А в кумирне вашей будет теперь волостная управа. Старостой – Ерегеб. К нему в помощь – выборный Никифор Синцов. Что причитается с вас на кормление войска, на подати Господину Великому Новгороду, то нести в съезжую в Рождество и в Петров день…
Пока говорил урядник, стрелец из переднего ряда заряжал пищаль – для острастки.
Мешочек пороху затолкал шомполом в дуло. Сверху пыж из пакли. Подставили ему бердыш. Ствол пищали (дудки, свистка) лёг меж черенком и лезвием.
Урядник выхватил саблю из ножен и вскинул над головой.
Стрелец ударил кресалом, раздул огниво.
Поднёс к фитилю.
И не сразу – пока ещё искра добежала до заряда! – грянул гром в ясном небе.
Выстрел прокатился эхом над Сулгаром.
Первый здесь – с Сотворения мира.
23
…Тутта остановилась и задрала голову в поисках морока.
– Минек езё ван?[68]
Сосны, одинаково высокие, ровные как колонны всякого языческого храма, словно окаменели.
Лесной бог Вэрса пребывал в светлой задумчивости.
– Эз ороз лё[69], – сказал Кошут.
От своего стойбища окольными тропами пробирались они к рыбацким шалашам на Туйгу.
По всей длине эта речка была разгорожена родовыми угорскими запрудами из кольев. Рыбачили вершами, ставили прутяные морды. Бичевали воду вицами, загоняя рыбу в ловушки.
Или вместо крючков использовали острые палочки – баты с наживкой. Или ловили просто на конский волос. Червяка в узел потуже – и ждать до глубокого заглота.
Узкая Туйга в этом месте петлёй охватывала сосновый бор, наполненный тихим пением. То ли иглы звенели на ветерке, то ли где-то вдалеке стая птиц отбивалась от коршуна.







