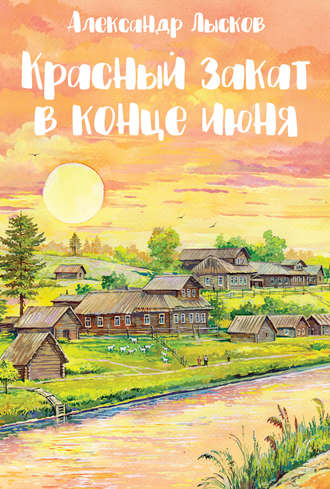
Александр Лысков
Красный закат в конце июня
После этих слов лицо гостя ещё продолжало лосниться от огня, а глаза уже потухли. Новость его огорчила. Чтобы подсластить, отец Паисий добавил:
– А кто будет у меня русский язык учить, того потом старшиной назначат. Посылай своих сыновей ко мне учиться русскому языку – старшинами станут.
Согласно-понятливые кивки Ерегеба стали переходить в горестные покачивания всем туловищем.
Беседа шла ровно, приятно. Но Ерегеб засобирался домой.
У входа в пещеру рыжая якутка, подобно оленю, разгребала копытом снег и ела всё, на что ложилась губа.
Якутка – не учёная ни кнутом, ни вицей: шерсть в два пальца толщиной, разве что батогом проймёшь. На любом морозе только куржевеет. И бойко, всеми четырьмя лопатками копыт может разгребать глубокий снег до травы – самостоятельна круглый год. Задолго до появления человека в северных лесах вольно паслись вместе со стадами оленей и табуны таких лошадей. Пришедшие угорцы сначала охотились на них как на мамонтов. Потом живое мясо стало выгоднее убоины: что три оленя тащили в упряжке, то одна лошадь. Арканом отлавливали, пытались приручить. Но зимой вынуждены были отпускать на кормление в табуны. И вся наука шла не впрок.
Славянам удалось подкупить свободолюбивую якутку. Невыгодно ей стало сбегать в табун от ежедневного навильника душистого сена. За такую кормёжку можно и в упряжи походить.
48
Дьякон подтянул подпруги и с почётом отвёз старшину до его землянки.
Вернулся затемно. Застал лошадку в пещере. Подальше от волков.
Придётся жить со скотиной под одной крышей, пока не построят конюшню.
Улеглись почивать. Перед сном сошлись на том, что в проповеди среди угорцев надо опираться на чудеса Христовы.
И дьякон Петр по памяти стал читать из Евангелия:
– …Был там человек, имеющий сухую руку. Он говорит человеку: протяни руку свою. И стала она здорова как другая…
Отец Паисий продолжил:
– И один из них ударил раба мечом и отсёк правое ухо. Тогда Он сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха, исцелил его…
– … Встав, запретил ветру и морю. И сделалась великая тишина!
Великая тишина стояла и в угорских лесах. Не настолько ещё было морозно, чтобы трещать деревьям. И волки ещё не так оголодали, чтобы выть. Шумно в стылом воздухе пролетит филин-пугач, сядет на ветку, крикнет с расстановкой раза три. И опять только звон в ушах от тока крови.
49
…Прорубь Синец высек топором ещё в зыбких заберегах. Не прорубь – майну. И всё-таки уже к январю до невозможности сузилось отверстие обливным льдом. Едва протолкнёшь к воде деревянную бадью. Много ли расширишь ребристым камнем. А топор Синец берёг. Выскользнет, ляжет на дно – жди лета, ныряй, чтобы опять завладеть орудием. Даже точил топор Синец крайне редко. Но как не экономил, а стальная лопасть неуклонно сужалась, лезвие приближалось к проушине.
Деревья в обжиге закаменели. Не больше двух-трёх лесин в день превращал Синец с помощью топора в брёвна для избяного сруба.
В перерывах вместо отдыха выжигал пни.
Обкладывал хворостом, закидывал сучьями. Пни истаивали в пекле, сравнивались с землёй.
В морозы – с огоньком – работа благодатная.
А по вечерам, с устатку, возле печки с долотом в руке одно удовольствие строить ткацкий стан: вертикальную раму на устойчивых плахах-лапах.
50
В бане у Фимки с лета была заготовлена конопля и татарник. Волокна этих трав годились для пряжи. Если вымочить их в корыте. Потом высушить. Истрепать (ребром доски по бревну). Вычесать (прутьями, сплетёнными в виде гребня). Спрясть (прялка – две доски углом, веретено – остроконечная тросточка).
И потом вперемежку с нитью из козьего меха связать ребёнку пару тёплых носочков (спицы – заострённые еловые прутики).
А из гольной пряжи выделать холстину.
51
В ткацкой раме главное – челнок. Над ним Синец трудился не один день. Извёл множество осиновых плашек. Лопались, как только начинал выдалбливать в них внутреннее мотовильце.
Горячился. Расшвыривал поломки по углам. Потом нашёлся: вырезал выемки в двух половинках отдельно и склеил расплавленной сосновой смолой.
К тому времени Фимка напряла с десяток клубков.
Раму установила в изножье лежанки так, что вертикальные нити основы рассекали свет печного устья. И стала попеременно змейкой справа и слева пропускать сквозь основу челнок.[41]
Поперечной планкой подбивала, уплотняла рядно.
За вечер наткала полосу, достаточную, чтобы сшить рукав рубахи.
52
В землянке зимой было теплее, чем осенью. Жилище завалено снегом. Со стороны, с высоты птичьего полёта, не сразу и признаешь человеческую обитель.
Только закопчённый дымник чернеет.
И хорошо, что двери не на петлях, а приставные. Утром после метели ударом плеча выдавливал их наружу Синец. Затем подпруживал колом снизу, поднимал. А уж стену снега пробить не составляло труда.
53
Печь покосилась, растрескалась, но грела исправно.
В долгие зимние вечера на обоих жильцах была лишь лёгкая ветошь. И ребёнок в коробе сучил голыми ножками.
Трещали в печи дрова. Дым стлался под потолком, как туман-перевёртыш.
Фимка постукивала поперечиной в своём станке.
Кряхтел, гугнил мальчик, накормленный материнским молоком и жвачкой – изо рта в рот.
Синец стучал деревянным молотком по рукояти долота.
Дошла очередь – приступил-таки мужик к заветному – постройке колеса.

Не до спиц, не до ступиц, не до ободьев с железной шиной – сделать бы для начала трёхчастное.
Вытёсывал доски. Сшивал их шипами торец в торец. И по кругу обрубал топором.
О чём только не переговорено было в трудах за часы вынужденного зимнего затворничества: о появившихся на Суланде попах. О козе, готовой окотиться. О прочности угорских торбасов – в них Синец с третьего на четвёртый день ходил петли ставить и на зайцев, и на куропаток, а ни одного шва не расползлось.
О Кошуте говорили, о его жене.
Слыхал Синец, наведываясь к Ерегебу за кресалом для огнива, что у них двое детей померло.
С тревогой поглядывали на своего первенца. И говорили, что к следующей осени, по всему видно, ожидать второго.
Вспоминали родителей – как они там в своей Новгородчине? Товарищей молодости, подруг вспоминали. Разные смешные случаи из прежней жизни в новгородских пределах.
Зергеля вспоминали.
И Синец рассуждал о том, что коли приходившие к угорцам волхвы с Печоры не смогли наколдовать нового страшилу, то спокойнее будет ходить по лесам.
А сколько песен перепели за зиму. Фимка затягивала:
Ой, овсень, бай, овсень!
Ходил овсень по светлым вечерам.
Искал овсень да Иванов двор.
У Ивана на дворе три терема стоят.
Первый терем – светел месяц.
Второй терем – красно солнце.
Третий терем – яркая звезда.
Светел месяц – то Иван-хозяин.
Красно солнце – то хозяюшка его.
Ярка звездочка – его сынок.
Плясовую напевал Синец. В такт стучал киянкой:
Уж дай нам Бог,
Зароди нам Бог,
Чтобы рожь родилась,
Сама в гумно валилась.
Из колоса – осьмина,
Из полузерна – пирог
С топорище долины,
С рукавицу ширины.
На ночь дымник закладывали плотно подогнанным к отверстию конусным брусом. И почитай каждую ночь, если не срывал с настроя младенец в корзине, творили любодеяние.
Часто подтапливали баньку. Чистили в загородке козье место. Навозом мечтали утучнить грядку, расстараться семенами и весной насадить репы…
54
После встречи с попами на угорском празднике Синец стал наносить метки на стене. Седьмую по счету – крестиком.
Воскресенье.
Воткнул посреди двора кол. Следил, как с каждым днём удлинялась его тень. Помечал в снегу прутиками.
Скоро тень перестала расти. И по количеству зарубок на стене тоже получалось, что Коляда пришла.
Синец занырнул в землянку к Фимке, выкрикивая:
Кишки и ножки в печи сидели,
В печи сидели, на нас глядели.
На нас глядели – на стол хотели.
Скажите, прикажите —
Винца стаканчик поднесите.
Пришла Коляда
Вперёд Рождества,
Вперёд Масленицы.
Винцо не винцо, а медовуху Синец к празднику сготовил. Раскалёнными камнями накипятил воду в банной колоде. Несколько сот дикого мёда туда. Мерку хлебной закваски.
В бане три дня кряду поддерживал тепло. И в один из вечеров принёс в землянку хмельного напитка полную чашу, выдолбленную из березового нароста – капа.
Весь вечер пили медовуху. Закусывали пирогом с зайчатиной.
Пьяный Синец на четвереньках выбирался из жилища и, опираясь на календарный кол, орал в небо озорные песни.
55
Зима заканчивалась. Однажды утром выдернул Синец дымник, а на него с крыши ручьём полилась талая вода.
Даже ночью не подморозило.
Снег набряк. В лаптях чавкало. Порты стали вечно мокрые до паха.
На вытоптанном пригорке земля открылась раньше всего.
Тут и собрал-сколотил Синец тележку.
Фимку посадил, покатал да и опружил.
Масленица! Веселись, народ!
На проталину Фимка вынесла ребёнка в меховом кукле.
Выпустила козу с тремя козлятами.
Теперь, в самую голодную пору, спасались её молочком. А козлятам – одонки.
Однажды услыхали со стороны Суланды колокольный звон.
Неужели до Пасхи дожили!
56
На Троицу сговорился Синец с отцом Паисием крестить парнишку.
Переправились через бурную реку на плоту.
По тропинке, в виду землянки Кошута, прошли напоказ нарядные – Синец в новой домотканной рубахе.
Чёрные крестики на вороте.[42]
Для Фимки пряжи хватило только на кису – накидку через плечо. Зато поясок на кисе был жёлтым. Не один день пролежал замоченным вместе с ранними цветками сурепки.
В становище угорцев поклонились они Ерегебу у кузницы. Улыбались всем встречным чужеродцам.
Подошли под благословение отца Паисия.
Стали решать, как соблюсти обряд.
В восприемники назначили дьякона. А за отсутствием православных женского пола призвали в крестные матери саму Богородицу.
В пещере Белой горы (Фехермюль) перед складным алтарём окунули мальчика Никифора в серебряную чашу. Выстригли на его головке волосы крестиком. На шею повесили крестик деревянный.
Родители расплатились хлебом и белорыбицей, пойманной в запруде на отливе большой воды.
По поводу первого крещёного ударили попы в колокол.
Звонник висел у входа внутри тагана из трех жердей: с такого воздушного, прозрачного и призрачного храма начинали попы.
За зиму для капитальной церкви очистили миссионеры от леса поляну за рекой на самом высоком месте в округе.
И уже связали там окладной шестиугольный венец из лиственницы.
57
На молодой траве козлиное семейство стало набирать вес – а людей голод глодал.
Смалывали зерна не больше горсти в день.
Взрослые выживали на охотничей удаче – на перелётной птице, на рыбе. Ребёнок – на молоке, как четвёртый козлёнок.
Мотыжили чищенину на пару с Фимкой.
Посеяли последнее. Теперь до нового урожая крошки хлеба не видать. Так оголодали, что решили одного козлёнка зарезать.
И уже на следующий день на подъёме сил от свеженины Синец проволок самодельную тележку, где катом, где таском, меж деревьев, по кустам до рудного болота.
Когда ещё, если не в междупарье, заняться добычей железа.
Тележку Синец нагружал жижей с болотного дна. Тащил воз к реке, попутно вырубая молодняк.
Так была проложена первая колея в этих местах, первая тропа и дорога.
Отсюда пошёл и первый езжалый путь – просёлок, в стороне от которого, в бочажинах, и сейчас мерцает ржавчина.
58
Да, сначала была тропа…
Тропяной, однопутной была и вся первая историческая эпоха обживания этих мест – только звериные путики пронизывали первозданные леса.
Потом стёжки эти уплотнялись человеческими стопами.
Далее, хоть и на коне верхом, но тоже в один ряд.
С большим разрывом наступила эпоха трёхпутная.
Сразу три канавки стали прорезать заросли. По крайним тащились полозья, катились колеса, среднюю выдавливали копыта.
Это была эпоха расцвета, и длилась она на Земле тысячи лет.
В благодатные времена основал деревню Синец.
Пребывал весь свой век в блаженном неведении о том, что когда-то грянут времена двухпутно-распутные.
Как смерч пронесутся грузовики, тракторы и по его деревне Синцовской. Растолкут, размелют, размочалят устои жизни. После чего снова покроют селение первозданные леса.
Опять лишь дикие звери будут наминать себе дорожки в траве – на сезон. Каждый год с новыми извилинами, одноразовые.
Только муравьи выжгут до корней себе постоянные. Настроят своих египетских пирамид. А от человека уже здесь и запаха не останется.
От обледенения до обледенения будет прожита человеком жизнь в здешних местах на планете Земля.
Но пока что у Синца – первые шаги.
59
…Таскал мужик из болота тележку. У реки на холстине промывал руду. Железные крошки складывал в туес, хранил пуще золота.
Искал белую глину для тигля вблизи Белой горы.
Острым колом прокалывал дёрн. Вдавливал как можно глубже. Вытаскивал. Осматривал острие.
Нужную метку щуп принёс из оползня на берегу Суланды.
В избе, уподобившись стряпухе, Синец взбивал, месил земляное тесто, выжимал пузырьки воздуха. Иначе изделие лопнет при обжиге.
Невелику ёмкость вылепил – с кулак.
В печи эта сырая глиняная чаша сначала размякла в огне, как парафиновая, – маловато оказалось жару.
Синец принялся дуть на угли, пока в глазах не потемнело.
Когда прозрел и глянул в устье, чаша лоснилась и блестела: проняло её обжигом до фаянса.
60
В песчаном откосе Синец выкопал плавильню.
Древесного угля не занимать – кучами лежал на палине. Но чтобы жар довести до рудоплавного, лёгочного дутья оказалось мало.
Из трёх заячьих шкурок сшила ему Фимка меха. Горло вывел Синец трубкой из обожжённой глины.
Начал раздувать в полдень и до полночи не отходил. Фимка за подручного была у металлурга. Подкидывала углей в домну.
И посреди белой ночи, запустив в очередной раз долото в тигель, не почувствовал Синец сопротивления. Не звякнуло об окатыши. Будто в воду вошло.
По боку меха!
Деревянными щипцами, смоченными в реке, Синец зажал тигель, вынул из огня и поочерёдно слил плавь в фигурные ямки на сыром, утоптанном песке.
Две маленькие лужицы жидкого железа ядовито мерцали под звёздами. Металл тускнел, как глаза умирающего.
Произошло во владениях Синца второе чудо после хлебной выпечки. Из зыби земной, из праха образовались слитки.
Почуяв срок, Синец подкопнул слитки лопатой и вместе с песком отнёс в реку – закаляться.
Немного попузырилась над ними вода, и вот уже рыбья мелочь с любопытством тычется в них, исследует.
Самая солёная соль земли остывала в водах Пуи – металл!
61
На ладонях покачивал Синец отливки, будто своих новорождённых.
Улёгся с ними спать, как ребёнок с любимыми игрушками.
А утром опять у него жернов между ног. Надо обдирать окалину и шлифовать.
Теперь мельничный камень – как наждак.
И настал час, когда в специально оставленный для этого на палине пень Синец торжественно вбил самодельную наковаленку.
И её родным братцем, молотком, начал плющить на ней, оттягивать лезвие косы.
Завтра – сенокос!
62
Поднялись по берегам осока и пырей.
В березняке зацвели чистотел с цикорием.
Белопенная сныть разрослась в тенистых ольховых зарослях.
Под осинами – ромашки и одуванчики.
Никак опять лето пришло!
– Фимка, а ведь год минул, как мы тут! Помнишь?
– Много помнится, да не воротится.
– Да. Пролетела стрела – не догонишь.
– Кинь бобами – что будет с нами…
Во время этой переклички Фимка варила похлебку из сушёных щучьих хвостов и голов.
Маленький Никифор в рубашке ползал по мураве.
На ядрёный запах хлёбова прилетела ворона.
Синец нырнул в землянку, выскочил с орудием – луком. Пустил в ворону стрелу. Не о добыче думал.
Ворона – к смерти. А тут только жить начали.
63
Прошло двадцать лет…
Хвост у Куклы волочился по земле. Гривой можно два раза шею обернуть. Каурая, ходкая, упористая, молотила лошадка мохнатыми ногами по первой пороше. Тащила в ярме волокушу.
Управлял, на коленках, молодой парень в жупане. Спиной к нему сидел старик в негнущемся медвежьем кожухе, будто в колоколе.
– Давай, Кукла, шевелись! – понукал возница.
– Не водой несёт, – ворчал старый.
Не узнать было в нем Синца. Дыхание с просвистом. Комковатая седая борода. Брови обвисшими козырьками, так что не видать и глаз выжиги.
Дорога петляла по тропе, натоптанной ещё когда-то ярым первопроходцем Синцом.
А вот на Ржавом болоте перемены были заметны. Много лет назад открыл здесь рудную добычу Синец, с тех пор неутомимо совершенствовал. И теперь на трясине плот зыбился. На нём меж двух столбов – ворот с крестовыми рукоятями. А на берегу – выдолбленная колода с четырьмя колёсами-дисками.
Давно не пользовался Синец береcтяным черпаком. Рычагами поднималось теперь сырьё из болота. Гужевым транспортом доставлялось к доменной печи…
Они выехали на гору, откуда во всей красе виднелась эта Домна Петровна, как по-родственному кликал её Синец. Глиняная баба была совсем как огромный самовар, только вместо воды в неё засыпались окатыши из болота.
А избушка Синца, с одним оконцем в передке, стояла в отдалении от столь опасной, время от времени раскаляемой, огнём дышащей, искрящейся бабищи. Теперь, на зиму, в окно избушки была вставлена рама с промасленным холстом.
У новенького амбара – домика на куриных ножках (чтобы мыши из-под земли не взлезли) – опорные столбики вкруговую были подрублены юбочками вниз.
Вокруг построек шагов на тридцать ни деревца, ни кусточка – голо. Иначе от гнуса житья не будет.
Да и далее от избы во все стороны широкими кривыми просеками – полянки, полянки…
Словно карающая небесная десница прошлась – вырубил себе Синец пространство для жизни, преобразил пуйскую долину согласно собственной воле.
И на том выдохся.
Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. Сонное, одутловатое.
Ещё весной сшил он себе «деревянный тулуп».
Да выходило так, что скрипучее дерево живуче.
64
А лицо возницы – сына его Никифора – светилось как фаянсовая глазурь на закатном солнце. Брови и усы были словно угольком подведены. В глазах молодая нега.
Обличьем парень пошел в мать: по её же словам, чем носовитей, тем красовитей.
Сколько железных отливок произвёл Синец за свой век – и для себя, и на продажу. А отлить собственную курносую копию из костей и мяса Бог не дал.
…На ухабе Синец застонал, заохал.
– Потерпи, тата. Немного осталось.
– Болят кости, так неча в гости, – перечил Синец.
– Сваты – не гости, а браты.
Справа в лесу осталась Святая роща угорцев и капище с пирамидками камней.
Проехали мимо рядов вешал с осиновыми вениками.
– Тпр-ру, Кукла!
Вытащили из ярма притыку, пустили якутку на подножно-подснежный корм.
65
– Киванок напот![43] – крикнул Никифор.
Полог землянки откинулся. Вышел Кошут в нагольной шубейке, в драных полуспущенных торбасах. Лохматый, на голове словно воронье гнездо. А морщинистое лицо – чисто: от бороды в старости совсем ничего не осталось.
Некоторое время истуканами стояли друг перед другом.
Синец знал: среди угорцев не принято кланяться.
– У вас товар, у нас купец. Или, значит, титек ару – минек вело, – произнес Синец.
За двадцать лет он нахватался угорских слов. Но ни разу не слыхал, чтобы хоть одно русское вымолвил Кошут. Всё понимал безбородый, а не отзывался.
– Белеп.[44]
Землянка Кошута была раздвоена. В женском прирубе тоже оконце имелось. Там за занавеской слышался сдавленный смех, панический девичий шёпот.
Уселись на шкуры – гости напротив Кошута и его старшего сына Габора.
Синец выставил перед хозяином туес с брагой.
– Кер меги Енех.[45]
У Тутты опали руки. Она заскулила.
Кошут прикрикнул. Отпил краем из туеса. Позвал невесту на показ. Девушка вышла из-за занавески. Потупила взор.
На ней был сарафан на коротких лямках, вышитый по корсету хвостатыми крестиками. Подол оторочен мехом. А на голове – обруч из бересты[46].
С появлением невесты Никифор солнечно просветлел изнутри. И у старого Синца будто боли в пояснице отпустили.
А вот Кошут с сыном сделались ещё более мрачными.
Обряд был им не по нраву. Сам Кошут, по угорскому обычаю, когда-то выкрал Тутту из родительского гнезда, заплатил за неё выкуп[47]. И нынче ему опять в расход входить, собирать дочери приданое.
Надежда на Габора.
Коли, в противоход, парень женится на Марье – дочери Синца, по славянскому обычаю, то убыток восполнится. Славянка придет в дом угорца не с пустыми руками.
– Те киван?[48] – спросил Кошут.
– Иген[49], – тихо молвила девушка.
Послышались сдавленные рыдания.
Это уже Синец тряс плечами и утирал слёзы умиления.
– Хорошая девка! Была Енех – у нас Енькой станет.
66
«Сговорёнку» окурили тлеющими ветками можжевельника. Мать пела-приговаривала:
Вокруг дома вырастала трава.
Кто траву стоптал?
Приходили сваты
Просили приданого.
Оленя рогатого,
Белоногую важенку.
Нам не жаль приданого —
Жаль милую дочь.
(Сайнал кедве ланья.)
Мать накрыла невесту платком, чтобы не сглазили, и толкнула за занавеску.
А потом тем же решительным движением, одним бойцовским замахом пронзила еловым колом тушку зайца и устроила её над углями.
Переговаривалась с Синцом, вела обряд хваления вместо молчаливого супруга.
– Наша Енех сама себе кухлянку сшила[50].
– Никифор парень рукастый. Зимой лесу наготовил. Срубит отдельное жилище.
– Сама из ровдуги сшила сарафан[51].
– Все песчаные отмели вокруг выкосил. А за лопухом и овсяница пойдёт. За ней пырей. А там и заливной лужок нашим будет. Ходовой он. Этого у Никифора не отнимешь.
– Сеть сплела в шесть локтей[52].
– Трубу выведет. Молодые по-белому жить станут.
Оба говорили на своём языке, но как-то понимали.
67
На третьем хмельном-бражном круге Синец уже так разлетелся, что начал разбирать степени родства.
Ударил Кошута по плечу, а себя в грудь.
– Сваты!
Ткнул пальцем в Габора, а затем в Никифора.
– Шурин!
– Зябун, – перевела Тутта.
– А наша Марья будет вашей Еньке золовкой.
– Курма, курма! – соглашалась Тутта на свой манер.
Покончив с зайцем и брагой, Синец с Кошутом встали под матицу, примерились головами к центру и ударили по рукам.
Тутта опять заскулила.
Синец с блестящей от жира бородой норовил обнять Кошута. Безусый угорец дичился такой порывистости, отклонялся, будто у него за спиной тетива натягивалась.
Выбрались из землянки. Лошади не видать.
С пучком горящего хвороста Никифор углубился в ночной лес. Скоро приволок якутку за чёлку. Накинул на шею ярмо, заткнул притыкой. Обротал. Разобрал вожжи.
– Садись, тата!
Пьяненький Синец повалился на волокушу и заголосил:
Мы все песни перепели,
У нас горло пересохло.
Князьёва пива не пивали.
Княгинины дары видали.
У княгини дары – миткалины.
Князьёво пиво – облива:
На собаку льёшь – облезает шкура…
С горки Кукла разбежалась. Боковины волокуши бились о стволы узкой дороги. Углы ярма цеплялись за ветки, сшибали последние сухие листья.
Рысцой по морозцу, по первому снегу с причитаниями о том, что надо бы кобылу ковать, да сил нет. С наказом сыну раздувать назавтра горн да приниматься за подковы по отцовскому наущению.
Под звездами Земли обетованной…
68
После свадьбы Синец слёг. Сначала оправлялся на дворе. Когда совсем скрутило, – не слезая с печи, – в посудину.
Если у Фимки не хватало порыва на обиход больного, то помогала молодица. Не гнушалась человеческих отходов.
Синец слёзно умилялся невесткой, не переставал нахваливать.
Болел он «спиной и ногами». Тогда говорили – маялся, недужил, немог. Слово «болесть» – лешацкого корня, в нём сила сторонняя, недобрая.
Фимка лечила мужа хвощением – мяла и растирала.
Он отбивался. Ёрничал.
– Ну-ка, Енюшка, неси полоз от волокуши, – обращался он к невестке. – Пускай матка сварит его да приложит к моим ногам. Быстрее Куклы побегу. Или, эй, ты, Никифор, возьми бурав, голову мою продырявь, мозгу немного вынь. Помажь тем мозгом ноги – Кукле будет не догнать.
Криком кричал. Угорали по ночам от его стонов. А когда отпускало, опять веселил домочадцев:
– Вот тебе ещё средство, Фимка. Возьми щепоть шороху ночного да топоту овечьего две горсти. Туда посыпь немного тележного скрипу. Дай мне всё это выпить да выставь меня потеть на мороз. Потом вытри сухим сосновым платом в четверть. От того плату теснота отыдет и буду здрав!..
69
Отец при смерти, а Никифор молодой блажью воспылал: под порогом верфь разложил – начал собирать лодку из листов бересты.
Ещё весной сплёл ивовый остов и теперь обшивал пластами берёзовой коры. Нитью служили распаренные еловые корни.
На носу и хвосте береста трескалась, расползалась. Требовалась склейка из тонких полос.
Никифор плавил в печи липкую смолу-живицу.
Пахло скипидаром.
Синец сверху возражал:
– Баловство, сынок. Перевернёшься на стремнине – поминай как звали. Чем тебе плот плох? Либо уж долблёнку бы заводил. Твоей берестянкой только от дождя укрываться.
Но Никифор твёрдо решил «гуся добыть».
Весной в половодье за неодолимой ширью пуйского разлива у перелётных гусей был ежегодный отдых.
Только лёжа в самой лёгкой, незаметной посудине можно было приплавиться к ним на расстояние стрелы.
– Мы с матерью без гуся жизнь прожили. Три утки – вот тебе и гусь, – ворчал Синец.
Болезнь лишила его власти. За словом не следовало дело – парень гнул своё.
Обрастала плотью берестянка. Оставались старику общие рассуждения на предмет послушных баб.
– Вот смотрю я на тебя, Енюшка, и думаю: через жёнок происходит слияние народов. Ты молодка угорская. Наш Никифор из славян. Значит, детки у вас будут половинчаты. Мать научит своему языку, отец – своему. Двуязычны детки будут. И станут молиться через день, – то на крест, то на пень. Двоеверие утвердится во веки веков. Попробуют расщепить – получится топором по темечку. Новый народ станет зыбкий душой, увёртливый. Не зацепишь его ни другом, ни крюком. Обособеет. От всякого нажима, как пробка от браги, – в небеса. Ищи ветра в поле. А дай ему волю – своей правдой поперхнётся. Подавится. А как зваться станет?
– Да мы же русские, тата!
– Русским ты будешь, когда тебя воевода за шкирку возьмёт. Стрелец на постой станет. А до тех пор ты Ника, и звать тебя Никак.
– Человеце! Какого ещё званья мне нужно?
– Это доколь молодой да задорный. А вот как завалит тебя лихомань, почуешь смертный конец – захочешь думы в кольцо свести, а не тут-то было!
– Попы говорят, тата, из глины, мол, человек вышел, в глину и уйдёт. А душа, тата, была, есть и будет.
– Так ведь этой глины-то и жаль, сынок! Сколько ею нароблено! Нахожено! Пито и пето! Кринка разобьётся – и то бабе горе. А тут эка дивна посудина снова жидкой глиной станет!
Непосильные измышления закончились у Синца так:
– Из глины осинка вырастет. Долблёнка из неё выйдет добрая. Лягу в лодку, оттолкнусь от берега – на волю поплыву…
70
Пришёл шаман Ерегеб – давний друг Синца по кузнечному делу. Велел остричь ноготь с ноги больного. Закатал обрезок в хлебный мякиш и дал съесть козлёнку.
Не только никаких смешков не позволял Синец по поводу целительного обряда, но всему внимал беспокойно и остро.
Без слов позволил перепоясать себя арканом – другой конец Ерегеб петлей затянул на шее козлёнка.
Шаман выволок животное из избы и зарезал.
Кровь вместе с хворью спустил в землю.
Тут только сказалась природная насмешливость болящего.
Синец вымолвил:
– Коли не поможет, так будет чем меня помянуть.
Шаман вошёл в избу и ударил в бубен. Кожа в обруче, подсохшая на печи, пока он священнодействовал, расталкивала застойный воздух, отрясала хворь.
От гортанного вопля шамана, казалось, должны были подохнуть во всех щелях сверчки и тараканы.
Шаман метался из угла в угол избы и пронзительно взывал к богу Ен:
Падаю ничком – поддержи!
Полетел навзничь – подопри.
Окривел – дай глаз.
Заикаюсь – подари язык…
(Дадог – ян деген…)
Неожиданно шаман отбросил бубен и кинулся к Синцу.
Растопыренными клешнями рук схватил больного, стал трясти.
«Извлёк» из его груди злого духа Омоль.
Дух сопротивлялся, торговался, требовал жертвы.
– Меги ки! Этэль![53]
Зажал Омоля в горстях и выкинул в распахнутые двери, в сторону окровавленной тушки козлёнка.
Устало сел на шкуру, угодливо подстеленную Фимкой, и раскурил трубочку.
– Как будто полегчало, – донеслось с печки. – Спаси тебя Господь.
Некоторое время Синец поговорил с Ерегебом как с товарищем. На прощание у него хватило сил даже рукой ему помахать.
Но той же ночью он помер с тихим стоном.
71
На земляном полу, где вчера сшивалась лодка-берестянка, стоял гроб: покойник заранее приготовил себе «раздвой» на загляденье – без единого гвоздя. Ни щёлочки.
Под гробом бабы настлали соломы.
Никифор с Енькой (сын с невесткой) надели рукавицы (голыми руками к окочуру прикасаться нельзя), спустили тело с печи.
Из бани на палке принесли ушат тёплой воды. Стянули с усопшего истлевшее исподнее, обнажили «тату», обмыли в трёх водах.
Сверху лилась на покойника вода живая, а сквозь солому просачивалась уже мёртвая. По жёлобу текла к порогу, в приямок. Оттуда её вычерпывала младшая дочь Марья и носила в бадейке далеко по снежной тропе, выливала на склон Межевого оврага, в непроходимый кустарник. Чтобы никто ногой не ступил на политое. Иначе не жилец.
(А черпак и бадейку потом они сожгли.)
Остаток дня Фимка готовила мужу погребальное. На живую нитку шила длинную рубаху.
Теперь уже они с Енькой, не чураясь, ворочили мёртвое тело, напяливали белые одежды.
У Никифора была своя забота. Сын плёл отцу лапти в долгую дорогу.
Когда Никифор обернул худые мослы отца оборами и принялся обвязывать онучами, мать всполошилась:
– Не так! Не так! Крестик-то впереди оставляй!
То есть чтобы перекрут верёвочек оказался на виду: каким-то чудом из времён девичества в далёкой, почти забытой новгородской деревне, вынесла память Фимки-Евфимьи это правило.
Чистого, ухоженного покойника перевалили в домовину.
Мокрую, из-под него, солому сожгли в печи.
А оставшийся на полу сор замели, как положено, – под гроб.
72
Молодые – Никифор, Енька, Марья – ночевали в бане.
Только Фимка-жена пожелала остаться с навек замолкнувшим мужем.
Сквозь промасленное оконце светила луна. Желтели углы гроба. Голубым отдавал саван на покойном. А лицо его лунный свет как бы обтекал, ничего знакомого нельзя было различить там, где должно быть лицо, – ни морщинки, ни волоска седого.
Фимка глядела туда и горевала. Нет пары!
Сорок лет – бабий век. За ним вторая жизнь. И ещё целый век – бабкин.
Но без мужа – ущербный.
Плакать даже не помыслила, чай, не малое дитя.
Песен из славянского девичества помнила много, а цельных причитаний на слуху не отложилось. И набраться было негде. Здесь, в угорской лесной пустыне, и простым славянским словом не с кем было перемолвиться, не то чтобы учиться обрядным причетам.
Обрывки какие-то вышёптывались.
«Закатилось красно солнышко… Последний тебе денёчек… Куда ты от нас собираешься?… Улетишь далеко в поднебесье…»
Погоревала. Вздремнула. А чуть рассвело, снялась – печь топить, ставить поминальный замес.
73
Это были шестые похороны на новом погосте.
Череда была такая. От родимца, в судорогах и в задышливом, до посинения, крике, помер второй после Никифора сын Синца – даже имени не успели дать.
Подобно упругому мячику упал на землю, отскочил, отлетел обратно в вечность.







