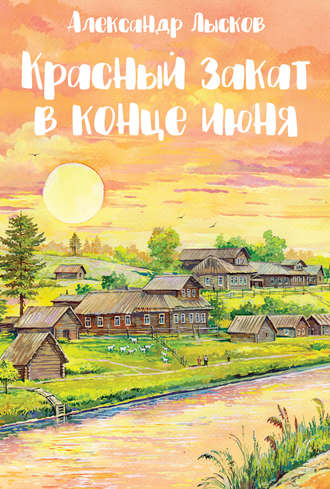
Александр Лысков
Красный закат в конце июня
© Лысков А. П., 2018
© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2018
Солнце красно к вечеру – мужику бояться нечего.
Хорошая примета
Конец июня – самые светлые дни в году.
Результат наблюдений
Часть I
Явь
Иван (Синец) (1451–1491)
Укоренение на новом месте
1
Начало лета.
Время чистой воды.
Пуя[1] клокочет перекатами.
Береговые деревья по низу окрашены илом недавнего половодья словно по бечёвке – до первого дождя. А в воде муть уже улеглась на дно, лоснится промытыми беличьими шкурками.
Рвут, терзают шестами эту донную красу двое: Синец (у церковников – кличка Нечистого) упирается то слева, то справа для поправки хода.
Молодая беременная Евфимья, или попросту Фимка, дуриком ломит сзади.
На босых простоволосых водоходцах тканые льняные обноски.
Под их ногами пять заострённых брёвен, нанизанных на поперечные клинья.
Топор воткнут в середину плавня. К нему приторочен мешок с ржаными зёрнами и свёрток шкур со скарбом.
Из осоки изредка высовывается морда собаки: то полакает, то лишь понюхает – и дальше мышковать.
Увязалась за Фимкой после зимнего прикорма.
Думается, дня три, не меньше, понадобилось им, чтобы протолкнуться досюда, войдя в устье Пуи с Ваги[2], по отмелям которой можно было и бечевой тащиться.
В Пуе же, как в лесистом канале, – только упорным шестованием.

Сшит был плот ещё по снегу.
Снялись с первым теплом, отзимовав у добрых людей в Заволочье за пяток резан из приданого молодухи.
А сами они были новгородские. Тогда поголовно бежали ильменские славяне от многолюдья в поисках своего места на земле, на Север, как рыбы на нерест – метать зёрна в тысячелетние наслоения непаханых земель.
2
Река словно заканчивалась, упираясь в высокую глиняную стену.
Вблизи оказалось – бьёт в кручу, вытекая из-за поворота в обратном направлении и совсем другая с виду: извилистая, каменистая, с отлогими берегами.
Синец направил плот в омут под обрывом, отдохнуть.
Неожиданно за шест словно водяной ухватил.
Рычагом Синец поднял со дна сеть и щуку в ней. Переломил рыбине хребет и выпростал добычу.
Берестяные поплавки утянулись обратно в глубину каменными грузилами.
Приткнули плот к берегу. На песчаном мыске утоптали лопухи.
Синец ударил кресалом по кремню. Искры брызнули на растёртый мох. Оставалось раздувать огонь.
А Фимке – чистить рыбину и потрошить.
– Крапивна сеть[3]. Знамо, угра, – сказал Синец.
В лесу взвизгнула собака, долго скулила.
Послушали и решили, что на барсука напоролась, а то и на вепря.
Нажгли углей достаточно.
Через пасть рыбы насквозь до хвоста пропустили острый прут. Переворачивали на жаровне, пока в жабрах не перестало пузыриться.
Ели и удивлялись, отчего собака не чует запаха, не бежит требуху жрать.
А их пегая сука в это время уже висела с распоротым брюхом на ветке берёзы, подвязанная за заднюю лапу.
Кошут[4] кромсал её ржавым ножом, вываливая тушку из шкуры.
3
Голоса плотогонов Кошут давно услыхал.
Пошёл на эти голоса и с высоты глинистой кручи, конечно же, не мог не заметить людей на плоту, сам оставаясь невидимым.
Проследил, как они опоражнивали ставень[5].
Атакованный собакой, не промедлил убить, вовсе не из страха, но лишь по привычке, всё равно как лисицу. Тем более что не заведено было в его народе, да в изобилии зверя, держать собак в помощниках. А кто заводил, у того их волки зимой выманивали и задирали.
Рубище Кошута из мочалы с прорезью для головы было забрызгано свежей кровью.
Лук, связанный из трёх можжевеловых хлыстов, валялся в траве.
Из колчана торчала окровавленная стрела с кремнёвым наконечником. Кошут приторочил собачью тушку к поясу, закинул лук за спину и пошагал к стойбищу.
4
Кошуту от кручи до стойбища напрямик. А чужакам вверх по течению ещё через три колена да один перекат, толкаться и толкаться.
Им не ведомо куда, а Кошут давно дома.
В сумраке летней ночи с высоты своих владений Кошут видит, как в пелене тумана на заречной луке возникает просвет и начинает расползаться. В центре проталины сверкает огонёк – это пришельцы устраиваются на ночёвку.
Их появление взбудоражило семейство угорца.
Нагие дети то и дело снуют из землянки и обратно, докладывают о переменах возле далёкого костра.
– Суг![6] – приказывает Кошут.
Огонь за рекой то гаснет, то разгорается столбом.
То свет затеняет чья-то спина, то вдруг огромная тень кидается через край туманной завесы до самых звёзд…
Пора творить оберег.
Кошут надел праздничный сарафан жены, обвешался лисьими хвостами и вымазал лицо сажей.
В таком виде угорцы призывали на помощь своих богов.
– Хорд калиха![7] – крикнул он жене.
Она вынесла обмазанную глиной корзину с раскалёнными углями. Кошут подхватил жаровню, тушку собаки и отправился на задки стойбища в ельник.
Камланье у угорцев начиналось с того, что они первым делом на капище у пирамиды из булыжников раздували огонь, зажигали молодую ёлку, бросали в огонь тушку и несколько раз произносили:
– Вэд энгем тол масе[8].
Они верили, что лесной дух Истен-Мед вместе с дымом перенесёт образ молящегося – с сажей на лице, в нелепой одежде, с лисьими хвостами – прямиком в души неведомых пришельцев, напугает их, вынудит уйти.
– Вэд-д-д!..
Затем распоясывались. Один конец ремня закапывали в землю. Другой брали в рот и принимались сосать (кровь пить из тел недругов).
…Ночь расслоилась: в лесу ещё держался мрак, а над деревьями уже просвечивало.
Из землянки доносился звонкий, здоровый кашель детей. Это мать выкуривала гнуса из жилища дымом прелых листьев.
– Суг! Халк! – опять прикрикнул Кошут на семейство.
Когда легли, Тутта спросила Кошута, пойдёт ли он завтра смотреть сеть: ждать ей улова или разгребать яму со льдом, где заложена солонина.
Надо починать запасы, – распорядился Кошут.
Сеть вытрясли идеген[9].
5
В это время идеген корчились от холода под шкурами, сверху влажными от росы.
Фимка никла к спине мужа, а он топор обнимал.
– Вёдро будет. Жечь начнём, – сказал он.
– Дальше, значит, не поплывём?
– Не водой несёт.
– Слава Богу.
– Спаси и сохрани.
Долго ли поспишь на холодной земле? Не успели глаз сомкнуть, а уж солнце над лесом.
Вскочили на ноги разом, каждый по-своему озадаченный предстоящим днём.
Налегке, с кресалом и трутом в берестяной коробочке, с топором в руке Синец ринулся в лес. А Фимке что оставалось? Бежать вдоль опушки, рвать щавель в подол, завтракая попутно снытью.
Кипятила баба похлёбку, подкладывала сухие ветки под широкие боковины горшка.
Синец же в глубине леса топором задирал кору на соснах лентами, наподобие юбки. Поджигал, и огонь кольцами взмывал вверх по сухой смоляной чешуе.
Перебежками, от одной сосны-смертницы к другой выстраивал стену огня. Трещало по верхам. В огне истаивали кроны. Попутным ветерком пламя уносилось к реке. Теперь уже ему обратного ходу не было. Вали широким захватом меж двух берегов в водяную удавку.
И поджигателя гони в безопасность на песчаную косу.
Жаром угасающего пожарища наносило до ночи. Закоптило лица и одежду – без дресвы не смыть. Или хотя бы илом.
…Из кустов, от невыносимой жары, начали выскакивать зайцы. И баба, ничуть не тяготясь беременностью, принялась загонять ошалелых косых к воде, а Синец дубинкой бил и приговаривал:
– Сами в горшок скачут.
Наелись зайчатиной вдоволь. Шкурки замочили в реке под корягами. Уснули в угарном тепле, вольно раскидавшись: и комаров, хоть на одну ночь, но тоже повывел бойкий новгородец на отвоёванной земле…
6
От соплеменников слыхал, конечно, Кошут, что «злован», «ороз»[10] жгут угорские леса, но видел впервые.
Леса на Севере влажные. Молния разве что пропорет кору на стволе сверху до низу, дерево будто только шубу распахнёт для охлаждения. Дождём тотчас зальёт, заживит рану, лишь парок ещё некоторое время будет сочиться. От роду не горючие здесь леса. И в саму сушь надо специально умело подпускать огня для пала. (Даже сейчас, в обилии спичек и зажигалок ни одной сколько-нибудь значительной огневой потравы не сыскать на сотни километров леса).
А тогда вообще лесной пожар здесь, в болотах, ручьях, реках, озерах, был в диковинку. Зрелище невиданное. Потому на эту огненную кипень, должно, жутко было глядеть угорскому семейству со своей высотки.
Ощущать на лицах жар гигантского огнища, чувствовать себя жертвой, принесённой чужим богам.
– Хоз некюн иде. Ен фельмаж кют аз[11].
Тайный лаз, обязательный для любого угорского жилища, Кошут с Туттой начали прорывать из угла землянки сразу, как обжились здесь. Копали не один год, не одну плитку сланца истерли. Хотя невелик труд – песок. Только сгребай в кожаную торбу и оттаскивай. Дело затягивалось оттого, что приходилось одновременно с выемкой оплетать лаз, прокладывать под землёй кишку из виц тальника, словно гигантскую мережу.
Пробились до склона ближайшего оврага.
Выход замаскировали.
Со временем песок просочился сверху сквозь переплетения. В ином месте лаз засыпало наглухо.
Кошут спешно расчищал ход…
7
Шло время.
Как-то ночью сидит Кошут на сосне в засаде – слышит хруст. Мелькнула тень в лунном свете. Пику сжал в руке, изготовил для боя. Ожидал появления клыкастого, а под ним – Синец с топором и рогатиной.
Оголодали с Фимкой.
Когда ещё ржаной колос нальётся.
Убоина требовалась на пропитание.
Забрёл в лес.
Стоит, прислушивается.
Темечко лоснится при луне.
Тут бы и покончить Кошуту с вором и поджигателем. Туда бы, в темечко, пику одним легким движением – ходом до сердца. А бабу его, сонную, трофейным топором. И опять живи полновластным хозяином родовых угодий.

Почему не убил? Ни палача над ним, ни судьи, ни полиции…
Не подстерёг за кустом.
Не приколол копьём спящего…
Любой бродячий пёс в городе насмерть бьётся за территорию с себе подобными. Лесной зверь метит владения и без раздумий бросается на преступника.
Законы леса, тайги должны бы оправдать Кошута. Более того, законы эти требовали решительных действий.
Чтобы жить, ему необходимо было убивать. Иначе он обрекал на смерть себя…
Не убил, потому что его самого люди никогда не пытались убить, не угрожали смертью.
Обширность жизненного пространства сообщала угорцам миролюбие. Случались среди них только неумышленные убийства. И самое большое наказание было за это – высылка в леса, отторжение, запрет на общение.
Угорцы были природными истинными анархистами: никакой власти над собой не терпели, каждый сам за себя.
Мага-эги[12].
Войн не вели. Не с кем. А от междоусобных конфликтов, повторяю, дальше в лес – и дело с концом.
Не осталось после них богатырского эпоса. Только сказания, бытовые и любовные.
До чего же прекраснодушный народ вырисовывается! Засомневаешься, от Адама ли пошёл.
8
Нет, Каинова печать лежала и на Кошуте. И он со своими богами держал совет: убивать или не убивать пришельца.
Как это у них делалось?
На капище при дневном свете угорец втыкал в каменную пирамидку пучок прутьев. Где-то внутри был самый короткий.
Ждал ночи, чтобы в полной темноте наощупь да с закрытыми глазами вытащить из пучка один прут.
Если попадался обломок, – замысел считался одобренным свыше. Если длинный – запрет.
Синцу, видимо, ещё и повезло.
В пользу природного миролюбия Кошута говорит и то, что со стороны славян непугаными угорцы долго оставались на берегах этих малых северных рек.
Новгородским ушкуйникам, ватагам воров-мужиков, казакам такие дебри были по боку – прямой дорогой к морю на стругах вниз по течению Северной Двины[13] стремились они, грабя побережные селения.
Если и был смысл пробираться в глубь угорских земель, то на долгое, постоянное жительство, семьей, тихо-мирно, как Синец, который тоже ведь не ахти какой и разбой сотворил на чужой земле – дальше тряски сети и выжигания чищанины не сподобился.
В его положении воевать было себе дороже. Землянка Кошута – крепость. Одному осаду не одолеть. К тому же нюхом и слухом угорца всё кругом пронизано. Преимущество в знании местности многократное.
Но главное – не за чужим добром сюда толкались на плоту Синец с Фимкой.
9
…Сошлись они где-то в лесу.
Остановились в отдалении друг от друга.
Синец у себя на Новгородчине немцев видывал. Немоту их пробивал усилением голоса, как глухоту. И Кошут был для него немко.
Пришелец бил себе в грудь и вопил:
– Во крещении Иван. Кличут Синец. А тебя как?
Местнику тоже не в диковинку был человек иной породы.
На торгах в устье Пуи он видывал голосистых славян, слыхал их речь. И даже отхлёбывал из оловины их хлебное вино, сваренное на солоде с хмелем, несравненно более крепкое, чем угорский «бор» из малины и мёда, выбродивший в горшке на протяжении двух лун.
Потому Кошут вовсе и не остолбенел при встрече с Синцом. Чай, не зверь лесной, чтобы дичиться.
По жестам понял Кошут, о чём говорит ороз.
Без особой охоты, но своё имя назвал.
А вот до рукопожатия дело не дошло.
Показались один другому – и каждый в свою сторону.
На время потерялись из виду.
Но забыть друг дружку уже не смогли.
Стали жить с оглядкой…
10
Поспела брусника.
Настоящая ягода, не в пример малине[14] или смородине[15]. До следующего лета не скисала, сама себя сохраняла.
Ею заполнялись ямки, обложенные корой. Ни червь её, замороженную, не точил, ни муравей.
Изо дня в день Тутта с детьми ползала в окрестных мшаниках, похожая на медведицу с тремя медвежатами-погодками. От комаров, от гнуса все обмотаны тряпьём, дерюгами, шкурами.
Мягкая перина под коленями источала болотный усыпляющий дух, укачивала.
Младший перестал двигаться.
– Кинек! Элалжи! Фог бочьё![16]
На шее у Туты болталась кожаная торба. Дети горстями ссыпали туда свой сбор.
Мальчик встал на коленки, моргал сонно.
Детские лица одинаковы во все времена, начиная с неандертальских. Щенячье, ангельское в них неизменно.
Мальчик сел на пятки и головку свесил на грудь. Опять уснул. Работа для него была непосильна.
Старший ревниво растолкал малыша, принудил к собиранию доли зимних запасов.
Одной матери известно, когда возвращаться домой, под крышу, к огню и еде. У матери любовь к детям беспощадная.
Роды чуть не каждый год, счёт потерян. А в живых только трое. И оплакивать нет ни сил, ни смысла.
У всякого в лесах больше шансов погибнуть, чем выжить. Для человеческих детей – тем более.
Но всё-таки получалось как-то так, что и лисьему роду не было переводу, и заячьему, и утиному.
Так же и род людской живуч.
– Фог бочьё!
За брусничной страдой последовала клюквенная.
Все болота в округе будут выползаны, всё до ягодки будет ссыпано в берестяные закрома.
11
Болотная ягода созрела – значит, и уткам сбиваться в стаи.
На берегу старицы давно у Кошута выставлен был шалаш. С ночи залегал он в нём на шкурах. Хорошо просматривалась сквозь ветки чёрная стоячая вода.
На уток стрелы были наготовлены лёгкие, без кремнёвых жалящих язычков, а лишь закалённые в огне, закопчённые, – выложены рядком по одну руку. Лук – по другую. Оставалось ждать, когда кряква приблизится к шалашу стрел на десять.
…Новая стая перелётных из-за леса пала на озеро, при посадке красными лапами пробороздила, вспенила стоячую воду прямо перед Кошутом, слишком близко – пошевелись и спугнёшь.
Он выждал, когда новоприбывшие, запалённые перелётом и потому менее осторожные, хотя бы немного отплывут.
Выцелил крайнего селезня под его воронёные перья на спине и спустил тетиву. Словно нанизал. Птица била одним крылом, в одиночестве недолго кружила по воде, затихла.
Подождал, пока ветерком приплавит добычу к прибрежной осоке. Еловой мутовкой, привязанной к длинному шесту, забагрил тушку и выволок на берег. Окровавленную стрелу сполоснул в озере: ещё раз, после закалки, сгодится в дело.
Подстилку из шалаша, чтобы не отсырела, кинул на ветку ивы – до следующей зари.
Вот так каждый день в целую луну по времени, пока озеро не застынет, ложиться ему здесь в засаду…
12
Всё лето Синец мельницу устраивал. Бродил по речным перекатам, нащупывал ногами валуны.
Нашёл пару плоских известняков. Кремнёвым долотом стесал их, чтобы жернова получились как две шляпки грибов, сложенных нижними сторонами.
Труднее всего было просверлить в камнях отверстие для оси.
Под сверло приспособил Синец трубчатую кабанью кость. В привод для сверлильного станка превратился лук с ослабленной тетивой, петлёй охватывающей сверло. Речной песок подсыпался под инструмент для быстрейшего истирания известняка.
Каждый вечер дотемна Синец сидел у входа в землянку с камнем между ног и смыкал. В родных новгородских землях слышал, как скоморохи горланят, играя на казане (в широкой кринке сухая отщепина и по ней – смычком).
Уподобился.
Ой, чьё-то поле
Задремало стоя?
Синцово поле
Задремало стоя.
Как же не дремати,
Когда пора жати…
В ответ Фимка подала голос из землянки:
Сидит Ванька у ворот,
Горло песнею дерёт.
И народ не разберёт,
Где ворота, а где рот.
Здоровый молодой хохот отражался от леса эхом туда-сюда.
Ширк-шорк – отбивал такт лучкобур под рукой Синца.
Ширк-шорк.
По реке далеко слыхать. Может, и до угорцев доносило. Жаль, не понимали языка, а то бы вместе со славянами повеселились.
Солёные шутки были угорцам по нраву.
Их выжившие сородичи финны и теперь ещё слывут непревзойденными похабниками Европы.
13
Под будущую выпечку требовалось печь сложить.
Глину Синец выкапывал в противоположном крутом берегу и переправлял на плотике. Месил лопатой в яме.
Чавкала глина. Плюхалась в остов будущей печи с жирным смаком. Подсушивалась слабым огоньком…
Стенки печи Синец вылепил наклонные и свёл в единый хребет.
Дымовую трубу мог бы сложить из плоского галечника, но передумал. Половина тепла будет теряться.
Для начала решили зимовать по-чёрному.
14
Первые пучки ржи в колоннаде сожжённого леса они с Фимкой нарвали руками. Сушили в домашнем тепле.
Зёрна из колосьев выколачивали комлями длинных виц.
Набралось несколько горстей.
Вышли на ветерок. С ладоней принялись пускать струйки зерна на дерюгу. Лёгкий мусор и пыль уносились в сторону. Зерно с каждым веянием становилось желтее, золотистее и звонче.
Встали на колени перед жерновами. Синец крутил. Фимка через берестяную воронку сыпала в прижим трущихся камней.
Мука сочилась из-под верхнего камня будто из-под пресса, текла на чистую тряпицу. Этой первой мукой Фимка наполнила кулёк из бересты, залила водой и заложила в печурку – на закваску.
15
А серп Синец соорудил из кривого можжевелового корня. Остриём топора распорол ему «брюхо» – надрезал по внутренней дуге.
Пластинки кремня чередой намертво зажались в надрезе…
16
С серпом в руке Синец остановился на краю поля.
Молодой ярый ржаной разлив впервые лицезрел он в мёртвом чёрном бору. На Новгородчине уже никто не палил. Оставшиеся леса были прибраны к рукам. Там ржи стояли под солнцем голые. А тут в поле будто сваи набиты для возведения невиданной кровли.
От обугленных стволов веяло недобрым.
Скорее бы убрать урожай, а потом свалить деревья и пережечь в золу для удобрения на следующий год.
17
…Синец спиливал ржаные стебли под корень. Набирал охапку, сваливал на сторону.
Сзади него на широко расставленных ногах внаклонку двигалась Фимка, связывала жнивьё в снопы, из пяти выстраивала на поле бабку (суслон), чтобы зерно выстоялось…
Назавтра уже одна она горбатилась, ибо Синцу до вызревания снопов надо было успеть выкопать траншею в человеческий рост, укрыть её решёткой из веток и под ней развести огонь.
Нажечь углей для первой посадки жнивья в этот примитивный овин…
На решётку валили снопы.
В горячем воздухе снизу зерно подсушивалось до хруста.
18
Без хлеба не сытно, без соли не вкусно!..
И тогда ещё один огонь развёл Синец в тёмном еловом бору на болотце. Там высмотрел он родничок. Мох вокруг был обмётан белой пыльцой. Вода на вкус оказалась солоноватой.
Этой водой Синец поливал горячие, вывороченные из огня камни и соскребал с них налёт.
За день варница давала щепоть соли.
19
…Под хлебный замес не было у бабы ни горшка, ни противня.
Кусок чисто выстиранного вретища (частой ткани) разостлала Фимка на земле и приколола по углам колышками.
Насыпала горку муки, полила водой. Принялась мять тесто, тыкать кулаками, вздымать и с силой обрушивать на землю.
Закваска жила в берестяном кульке. Пузыри с ноготь величиной набухали и лопались. Лезли через край. Не успеешь пустить в дело – скиснет. Пропадёт. Начинай всё сначала.
Фимка влила закваску в тесто и опять давай месить, теперь даже коленкой помогая.
По материнскому наущению, по мягкости, по запаху, по цвету, на вкус и по наитию определила – готово.
Выдернула колышки из углов подстилки, завернула тесто в тряпицу и уложила в тёплый угол за печку – выхаживаться.
Любая баба частью души всегда в детстве и в радости. Вот и Фимка кусочек теста круто посолила. Слепила оберег. Сунула в печь для закалки.
…Потом она его малиновым и черничным соком раскрасит. Волосы-соломинки прилепит.
Живущему в утробе дитяте – игрушка.
20
Осталось время Фимке, чтобы нарвать лопухов, и с плота, не замочив ног, промыть листья в реке, разложить на брёвнах для просушки.
В беготне, в работе, как птица по весне, на ногах с утра до ночи из месяца в месяц, в такой вот короткой передышке на плоту успевала всё-таки Фимка окинуть взором небеса. Облака – высотные, кружевные, недвижные. И – комковатые, словно бы из трубы и вширь разлетающиеся.
Разгибала спину, уперевшись в поясницу, как это делали, делают и будут делать все брюхатые бабы всех времён и народов.
С заколкой в зубах закинутой назад головой растрясала по спине волосы, заплетала. Искоса рассматривала воду, зацветшую в заводи и уже по-осеннему прозрачную на быстрине.
Мальки стайкой метались у плота, где всё лето мыла Фимка горшок, прикармливала. Мелькали тени крупных рыб в глубине…
И вдруг схватилась за живот, присела со стоном. Ещё боль не отпустила, а она уже торопливым шагом – к печи. Тут, несмотря на рези под сердцем, необходимо было ей скрючиться в три погибели, чтобы заглянуть в топку. Ребёнок как-то нашёл для себя место. Стерпел. Не пожелал на свет раньше времени.
Можжевеловым помелом разгребла Фимка угли к стенкам печи.
Жар готов.
Из тёмного закута выкатила ржаное яйцо – выходивший хлебный замес. Содрала с него дерюжную кожуру. На широкую лопату уложила листья и на них этот тёмно-серый голыш из теста.
Лопата с грузом уехала в пекло. Резко выдернулась, отлетела в сторону. Некогда аккуратничать. Печной бы жар не упустить.
21
Ржаным духом – печивом сначала наполнилось жилище.
Затем этот невиданный доселе в здешних местах горячий злачный дух распространился вширь по обжитой поляне славянина, потом просочился меж деревьев, тонкими струями проник глубоко в лес и достиг на пожне ноздрей Синца.
Послышалось на Пуе:
– Фимка! Хлебом сыты, хлебом и пьяны!
– Отрежем гладко – поедим сладко! – отозвалась жена.

Произошло это спустя, ну, наверное, 11042 года после того, как растаяла здесь последняя льдина вселенского холода.
Или, скажем, в лето 6959 от Сотворения мира.
Пусть будет даже так – 20 августа 1471 года. Или на день раньше, или на двести лет позднее – какая разница. Всяческие цифры и измерения лгут больше слов.
Главное, был день!
Был миг, когда из недр этого лесистого участка земли в долине реки Пуи на территории нынешней России впервые воссияло светило хлебного каравая.
Когда полыхнул в полнеба расщеплённый атом ржи.
Когда всякая птица, пронизывая над землянкой Синца купол тёплого воздуха, настоянного на жареном зерне, сбивалась в махе, сваливалась на крыло, делала круг, приседала на ветку вблизи становища, привыкая к новизне.
Всякий крот, учуяв запах печёного колоса, начинал копать в сторону Синца.
И в предчувствии близкого конца трепетали леса окрест…
22
И ноздри угорца Кошута тоже дрогнули от этого запаха.
В его народе если что и пеклось на огне кроме мяса и рыбы, так это «гомба» – губы, грибы.
Хлеб почитался за невидаль.
Редко-редко Кошут приносил с торжища краюху, намазывал лесным мёдом, угощал детей. И опять до следующего похода отца к злованам ждали они усладу…
23
День минул. Над щёткой лесов истончаются облака, словно подпалённые снизу клочья шерсти.
Семейство славянина справляет праздник первого каравая на брёвнах перед входом в землянку.
Августовские закаты тем ещё хороши, что, держа в воздухе тепло, уже квелят в траве комаров.
Овевания дыма от овина тоже способствуют отдыху от ненасытной твари…
Негнущимися пальцами, словно клешней, Синец отдирает от каравая ломоть.
Пластинки ржаной корки отшелушиваются, разлетаются на ветерке.
Белые зубы стискивают хлебную мякоть.
– Откусишь мало, а жуешь долго, – мямлит Синец.
– Отзимуем на голом печиве. Ну а на тот год – и с шаньгами, даст Бог, – мечтательно ответствует Фимка.
В сторону услады и у мужика мысли несёт.
– Ужо, управимся с жатвой – вершу сплету. Щуку добуду. Рыбник закатаешь…
Наполовину съели каравай, запивая смородинным наваром из глиняных плошек, на досуге вылепленных и обожжённых Фимкой.
24
Фимке и Синцу было лет по двадцать. Поженились в самом соку. И, без сомнения, по душевной привязанности. Иначе бы им не одолеть ни водного перехода на плоту, ни изнурительных трудов по вживанию в лесную пустыню. Иначе бы изгрызли друг дружку в безостановочном упряге.
Жили душа в душу и тело в тело.
Протяжённый путь предчувствовали впереди, образ семейного бытия стоял в глазах. Женское гнездовое начало в их положении было основополагающим.
Не выбродили ещё в Синце избыточные силы для каких-то предприятий вдали от этой обжитой речной излучины. Бродяжий мужской дух пригнетался сознанием зыбкости существования даже тут, под прочной кровлей с надёжным очагом.
За всё лето только однажды сходил он к угорскому старшине и шаману Ерегебу, в его стан Сулгар на соседней речке Суланде.
Ерегеб шаманил и ковал.
Неизвестно, каким из этих двух талантов более восхитил он своих соплеменников, заслужил среди них первенство. Одно помогало другому. Вопль шаманский, танец с бубном подкреплялись приручённой силой огня.
Подкову, найденную весной по пути через Заволочье, понёс Синец тогда угорскому кузнецу, чтобы вытянул он её в лезвие косы-горбуши.
Зимой стальным остриём удобно будет мездру со шкур соскребать.
Следующим летом – по прямому назначению использовать: купить у угорцев пару козлятушек весеннего отёла и каждой рогатой голове по копне сена на зиму наготовить.
Ещё через год отёл – и вот тебе и шаньги со сметаной…
25
Пробирался Синец по лесу в солнечный день без опаски заблудиться. Совсем ещё недалеко от своих угодий вдруг услышал треск и затем получил удар стрелы древком в плечо: стрела, не долетев до Синца, спасительно вильнула в кустах. Он оглянулся на шум и увидел волосатого человека с красными глазами. Обрывок шкуры был перекинут через плечо и стянут жгутом крапивы.
Красноглазый укладывал на древко лука другую стрелу. Синец со всех ног ринулся в чащу. Бежать пришлось в сторону от своего дома – упырь перекрывал ему путь к отступлению.
Через некоторое время Синец выломился на опушку леса.
Перед ним простёрлась долина реки Суланды, череда землянок угорского поселения Сулгар.
26
Синец перебрёл через реку и подошёл к кузнице Ерегеба.
Лицо и руки племенного старшины были чёрны от копоти. Два его молодых помощника раздували жар в горне. Сам Ерегеб оттачивал на камне только что скованный нож.
Едва успел Синец раскланяться в приветствии, как опять увидел жуткого бледнолицего стрелка, спускавшегося к реке.
Возгласами и махами рук попытался узнать у старшины, почему этот человек хотел убить его. Старшина и вслед за ним его работники рассмеялись над страхами Синца, как над хорошей шуткой.
– Зергель! – повторяли они сквозь смех.
Вот и довелось встретиться Синцу с ходячим покойником, о каких рассказывали ему в славянских землях, зомбированным, по-современному говоря. Встретиться с олицетворённым приведением.
Что у славян существовало только в воображении – вурдалаки, упыри, лешие, то у угорцев находило воплощение в человеческом теле.
Только много лет спустя в долгом общении узнал Синец, как создавался Зергель.
Выбирали слабоумного, поили его отваром мухомора и багульника. Человек впадал в кому. Затем его отпаивали кровью оленя с козьим молоком. Он обретал способность двигаться, но напрочь лишался рассудка. Шатался по лесам как ходячий оберег. Или целыми днями живым идолом стоял на холме у жертвенника. Для него в племени отводили отдельную пещеру. Его кормили – приносили пищу. Ему давали лук и стрелы – символические, тупые, не убойные.
В качестве религиозной жертвы одаривали необходимой одеждой.
Кто лучший кусок отдаст Зергелю, кто не пожалеет только что выделанной шкуры – того Зергель оборонит от несчастий…
За ковку косы Ерегеб запросил плату в три хлебных каравая[17].
Уже разнеслось по угорским стоянкам, что орос[18] снимает урожай.
27
Остатки каравая Фимка завернула в лист лопуха и побрела через реку. Большой живот она как бы на плаву впереди себя толкала.
В зарослях ивы по тропке, набитой вдоль берега Кошутом, быстро достигла жилища соседа-угорца.
Общительность женщин, позыв их к единению не завершается, как у мужчин, братством по оружию, собиранием воровской шайки, пьянством.
Сестринство по любви и ласке, по зачатию и рождению предполагает оседлость, хотя, конечно же, с непременным условием строгой семейной обособленности, ареала.
Тутта сидела в центре двора, настороже. На открытом огне готовила похлёбку из вяленых рыбьих голов.
Вонь стояла для беременной Фимки нестерпимая. Она виду не подала. Задобрила хозяйку светлейшей улыбкой и подношеньицем – полукараваем.
Молча любовалась детьми соседки как наглядным воплощением того, что ещё дозревало у самой в утробе.
По родовым понятиям угорцев весь ум, вся суть женщины состояла в ребёнке. В детях.
Во всех выпуклостях и впадинах женского тела, во всех изгибах и округлостях усматривали они младенчиков. Женщина для угорца вся как бы и сложена была из младенчиков.

Время от времени они отделялись от слепка один за другим, а на месте отпавших нарождались новые…
Угорцы выкладывали на земле из камня фигуру женщины. И если рождалась девочка, один камень из фигуры убирался, становился основанием другой композиции. Такие каменные лежачие матрёшки окружали капища.
Тут на Суланде, в центре племенного обитания, подобных наземных мозаик было не счесть.
Когда распахивали холм тракторами, целые пласты мостовых выворачивались. Не сланец какой-нибудь, известняк, обычно залегающий на высотках, а речной, обкатанный течением галечник…
Под столбом с оберегом – лосиными рогами – у входа в землянку Кошута разноязычные женщины, Фимка и Тутта, объяснялись жестами, улыбками и кивками.
Фимка угодливо гладила по голове младшего угорца. Тутта понятливо бросала взгляды на её живот.
Фимка озабоченно вздыхала. Тутта сочувственно качала головой.







