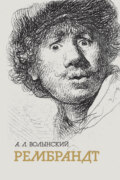Аким Волынский
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
Вот какими словами Писарев старается определить значение Киреевского в движении русского просвещения. Друзья и единомышленники Киреевского, пишет он, скажут, что его следует изучать, как мыслителя, что его должно уважать, как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями Писарев согласиться не может. По его твердому, но ничем недоказанному убеждению, «Киреевский был плохой мыслитель, он боялся мысли». Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, и статьи его никогда не производили серьезного впечатления. Пользы Киреевский, категорически заявляет Писарев, – не принес никакой, и если последующие поколения, по какому-нибудь чуду, запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого писателя, хотя Киреевский «был человек очень не глупый и в высшей степени добросовестный». Рассказывая вслед за Кошелевым о заграничных впечатлениях Киреевского, Писарев замечает: «мягкосердечный московский юноша мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогия старушки Белокаменной». Киреевский слушал лекции известнейших профессоров, сообщал в письмах к родственникам и друзьям «остроумные заметки о методе и манере их преподавания», но при этом он сам оставался «неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки». В статье Киреевского «Девятнадцатый век», по мнению Писарева, не затронута ни одна реальная сторона европейской жизни. Киреевский преклоняется перед вожаками европейской мысли, не умея «взглянуть на умозрительную философию, как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдавлены и задержаны». Об Европе и России Киреевский судит вкривь и вкось, «не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому». В сочинениях его хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, заявляет в одном месте Писарев, но тут же прибавляет: «повести Киреевского очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент, они сбиваются на аллегории».
В трех статьях Киреевского: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы» выразились с полною отчетливостью основные принципы его философского мировоззрения, хотя первая из этих статей относится к тому периоду его литературной деятельности, когда мысль Киреевского не достигла своего окончательного развития. В «Девятнадцатом веке» только намечены. в общей, схематической форме, те вопросы, которые занимали Киреевского до последних минут его жизни. В ясных выражениях предлагает он на суд философской критики определенную формулу западно-европейского просвещения, перечисляет все главные силы европейской истории, но, обозначив путь и направление своих будущих литературных работ, он при этом не доводит своих рассуждений до последних возможных заключений. В дальнейших статьях Киреевский видоизменяет свой взгляд на отдельные элементы европейского просвещения, оттеняя их новыми важными замечаниями, иначе определяя их природу в блестящей параллели с историческими силами русской народной культуры. Между первою и последующими статьями легла глубокая умственная работа, в которой мировоззрение Киреевского обнаружило все свои типические черты, свою духовную мощь, в которой этот несомненно большой и разнообразно одаренный ум, горевший экстазом, получил свою окончательную и характерную для русского духа формировку.
Обрисовав в крупных, ярких чертах движение европейской мысли в девятнадцатом веке, Киреевский следующим образом объясняет положение России в истории европейского просвещения. Между Россией и Европой, пишет он, стоит какая-то китайская стена, которая только сквозь некоторые свои отверстия пропускает к нам воздух просвещенного запада. Прошло уже целое тысячелетие с тех пор, как началась историческая жизнь России, но, несмотря на долгий период политической деятельности, её просвещение еще находится в зародыше. Очевидно, говорит Киреевский, что причины, мешающие правильному развитию русского общества, не могут быть случайными, но должны заключаться «в самой сущности его внутренней жизни», в коренных, первоначальных элементах национального русского быта. Эти причины могут быть определены только сопоставлением западноевропейской и русской культуры. Какими силами управлялось развитие Европы? Где главные факторы движения Европы по пути прогресса? Какие стихии спасали европейское общество от разрушительного действия разных внешних обстоятельств, постоянно возрождая в нем дух для успешной борьбы с враждебными ему элементами? Три начала легли в основание европейской истории, говорит Киреевский: христианская религия, классический мир древнего язычества и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю. На этих началах выросло европейское общество. Классическая мысль, не перестававшая участвовать во всех областях научной и философской работы, влияла постоянно не только на светскую, но и на духовную жизнь европейских народов. Самая противоположность между христианскою и языческою культурою открывала новым идеям широкое поле развития. В постоянной борьбе с окружающими обстоятельствами, с преданиями языческих нравов и влечений, христианство только укрепляло свои силы. Посреди разногласного, нестройного, невежественного брожения противоположных стремлений, христианство естественным образом становилось средоточием всех элементов европейского развития, облагораживая политическую и социальную борьбу народов и увлекая к высшим целям и задачам могучие силы классического образования.
В России христианская религия, воспринятая в самом чистом виде, не имела такого решительного влияния на историческое развитие общества. Недостаток классических преданий, классической образованности помешал христианской мысли развернуться здесь во всем могуществе её природных сил. В Европе просвещенное единодушие, поддерживаемое общим религиозным идеалом, возбуждало постоянно одни и те же стремления в различных политических телах, спасало их от нашествий диких племен. В России народ, раздробленный по уделам на враждебные части, не связанный общими интересами просвещения, должен был очень легко подпасть владычеству татар, несмотря на все превосходство своих религиозных верований над умственною и нравственною бескультурностью этого дикого, развращенного племени. «Если-бы мы, говорит Киреевский, наследовали остатки классического мира, то религия наша имела-бы более политической силы, мы обладали-бы большею образованностью, большим единодушием и, следовательно, самая разделенность наша не имела-бы ни того варварского характера, ни таких пагубных последствий». Только со времени Петра I начинается истинное развитие России. До Петра просвещение вводилось к нам, пишет Киреевский, мало помалу, отрывисто, отчего, по мере своего появления, оно постоянно искажалось влиянием «нашей пересиливающей национальности». Но переворот, совершенный Петром, был неизбежным, хотя и насильственным переломом в русской истории, – тем переломом, который открыл классическому миру доступ в страну бытового и умственного невежества. В энергических выражениях Киреевский заступается, в конце статьи, за реформу, совершенную Петром Великим. В последнее время, говорит он, в русском обществе появилось целое множество обвинителей Петровского дела. Они говорят нам о просвещении национальном, самобытном. Они запрещают нам всякие заимствования, бранят нововведения и мечтают о коренном возвращении к старинной русской жизни. Вот опасный путь для страны, которую может спасти только широкое европейское просвещение. Французы, немцы, англичане все более и более проникаются национальными интересами и взглядами и это нисколько не мешает их дальнейшему развитию. В союзе с народными стремлениями европейская культура достигнет высшего, самобытного выражения. Но у нас искать национального значит искать необразованного, развивать его на счет европейских нововведений значит изгонять просвещение. Не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы[1]?
В этих немногих соображениях заключается главная мысль статьи. Обняв все европейское просвещение в одной широкой формуле, Киреевский без труда отмечает, в чем заключается важная причина умственной и политической отсталости русского общества по сравнению с западными народами. В России нет просвещения. Христианской мысли не на что опереться в борьбе с темным невежеством народных масс. Вся прошедшая история России, до насильственного переворота, совершенного Петром, можно сказать, пропала даром для интересов высшего христианского развития. Без классического элемента русское общество не выйдет на широкую политическую и умственную дорогу…
Но, как мы уже сказали, Киреевский не остановился на этих важных мыслях. В полемическом ответе Хомякову и в пространном письме на имя графа Е. Е. Комаровского добытая им формула европейского прогресса получила новое освещение и, по отношению к России, открыла широкую перспективу совершенно иных философских соображений, политических догадок и надежд. Ничего не вынимая из этой формулы, Киреевский вошел в более подробный анализ её исторического содержания и, пристально всмотревшись в события русской народной жизни, показал, что в его философских обобщениях нет ничего безотрадного для России. В самой формуле европейского развития ничто не требует никаких перемен, но её частное применение к русской истории должно быть сделано в совершенно ином направлении. К этому убеждению привела его сосредоточенная умственная работа над коренными вопросами философии и истории в течение нескольких лет. После тяжелой неудачи на поприще журнального издательства, Киреевский ушел в себя, забросил перо, замкнулся и затворился от мира. Медленно созревала в нем новая мысль, новый взгляд на русскую жизнь в её главных исторических моментах, и в заметке, служившей ответом на статью Хомякова «О старом и новом», это новое направление Киреевского впервые обозначилось с полною отчетливостью, иначе осветив прежние мысли, выраженные с громадною силою в «Девятнадцатом веке». Теперь он рисует историю католического христианства в иных словах, более мрачными красками, с другою философскою тенденциею. Римская церковь отличается от восточной только своим стремлением к рассудочности, к сухому отвлеченному рационализму, своим пристрастием к формальной логике. На западе бытие Бога доказывается силлогизмами, инквизиция, иезуитизм развились в атмосфере, насыщенной схоластическими спорами. Логическое убеждение легло в самое основание европейской жизни, сузив ширину и свободу её духовного роста, придав всей культуре западных народов характер односторонней, поверхностной мудрости. Классическое образование. не подчинившееся христианской мысли, проникшее в плоть и кровь европейского общества, задерживало движение истинно религиозного духа. «Я совсем не имею намерения писать сатиру на запад, заявляет Киреевский, никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от рационализма. Я люблю запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями». Но признавая большое значение за европейскою культурою, он думает при этом, что «в конечном развитии» рассудочное просвещение уже обнаружилось «началом односторонним, обманчивым, обольстительным». В прошедшей истории России Киреевский находит некоторые элементы, в которых христианская мысль могла получить настоящую поддержку. Россия не блестела никогда «ни художествами, ни учеными изобретениями», но в ней постоянно хранились условия широкого духовного развития, «собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам»[2]… В этих отрывочных фразах слышатся первые отголоски того нового настроения, которое с такою силою сказалось в статье «О характере просвещения Европы», напечатанной спустя двадцать лет после знаменитого дебюта Киреевского на страницах быстро угасшего «Европейца». Все движение европейской философии представилось ему в новом освещении. Его уже больше не восторгает политическое могущество католической церкви, а характерные особенности русской жизни выступили из мрака прошлого в ярком сиянии цельной, светлой, могучей веры, не заглушенной в народе никакими внешними насилиями. Раздвоение и цельность, рассудочность и разумность – вот последние выражения западно-европейской и древне-русской образованности[3]. На западе христианство приняло характер рассудочной отвлеченности, в России оно сохранило внутреннюю полноту духа. В Европе церковь смешалась с государством, в России она осталась всегда чуждою мирским целям. Мечтая о возрождении русского общества к новой плодотворной деятельности, Киреевский проповедует при этом необходимость разумного, осмысленного отношения к западно-европейскому просвещению. Он хотел-бы, чтобы высшие начала жизни, которые хранятся в христианском учении, господствовали над элементами рассудочного образования, не вытесняя, а обнимая их «своею полнотою». Пусть христианская мысль оживотворяет плодотворную, но ограниченную работу человеческой логики, потому что вера не может и не должна быть слепою.