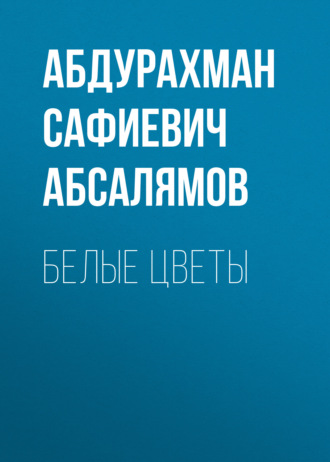
Абдурахман Абсалямов
Избранные произведения. Том 1
– Значит, совсем пропала! – в отчаянии сказал Янгура.
– Сама она несколько иного мнения.
– Наверно, не подаёт виду из-за самолюбия. За кого она там выйдет замуж? В лучшем случае – за учителя или агронома…
– Она, кажется, уже была замужем… Если не ошибаюсь, именно за агрономом.
– Вот видите!
Янгура неожиданно стал прощаться. Уже в дверях спросил:
– Что же вы решили насчёт той юной дикарки, которую мне показывали?
– Решили лечить.
– Эксперимент?
– И да, и нет.
– А… того, краснолобого?
– Он уже выздоравливает.
– Вон как!
На следующий день Абузар Гиреевич, выполняя просьбу Янгуры, позвонил Чалдаеву, однако не застал его, – сказали, что он на операции. Профессор попросил, чтобы Чалдаев связался с ним, когда освободится.
Гаделькарим Абдуллович позвонил домой Тагирову только вечером. Трубку взяла Фатихаттай. Насмешливо поджав губы, она сообщила Абузару Гиреевичу:
– «Бадьянов сад» зовёт к телефону.
Профессор тоже усмехнулся, снял очки и вышел в прихожую. Он сразу понял, о ком идёт речь. В компании, в гостях, Чалдаев, когда подвыпьет, всегда затягивает эту песню. У него нет ни голоса, ни слуха. Но какую бы песню ни начинали другие, он, никого не слушая, неизменно заводит свой «Бадьянов сад». Потом, незаметно для себя, сворачивает на «Баламишкин» и заканчивает «Айхайлюком»[7].
Они быстро договорились. Чалдаев пообещал, что по дороге домой зайдёт и возьмёт рукопись.
Положив трубку, Абузар Гиреевич заглянул в кухню, и, смеясь, сказал Фатихаттай:
– Гаделькарим сейчас ест пельмени у свояченицы, когда зайдёт к нам, наверное, захочет выпить чайку.
– Э, стану я готовить самовар из-за гостя, который пьёт не больше одной чашки! – фыркнула своенравная Фатихаттай. – Хватит того, что чайник подогрею.
Мадина-ханум тем временем с тётей Аксюшей сидели в гостиной на диване, вели тихую женскую беседу. Профессор подсел к ним.
Все дни тётя Аксюша проводит в больнице, у Галины Петровны, а вечера коротает в беседах с Мадиной-ханум или помогает хозяйничать Фатихаттай, а иногда рукодельничает.
– Вот я рассказываю, – повернулась тётя Аксюша к профессору, – до чего Галинушка была рада, когда Мадина Идрисовна и Фатихаттай навестили её. Как она хвалила мне их угощения! Говорит, таких вкусных вещей она в жизни не пробовала. Всё удивлялась, как замечательно готовят татарки.
– Эх, дорогая Аксинья Алексеевна, – вздохнул профессор, – что бы мы ни сделали для Галины Петровны, и я, и моя семья в неоплатном долгу перед ней, да и перед вами. Я и теперь поражаюсь, когда думаю о величии и доброте человеческого сердца. Горжусь, и плакать хочется.
– Не надо, Абузар Гиреевич, слёз и так было немало пролито за войну. О другом будем говорить… Нынче после обеда, смотрю, моя Галинушка повеселела, улыбается. «Видно, говорит, жизнь моя ещё не кончилась». Оказывается, вчера вы долго с ней беседовали. «Многое, говорит, вспомнили мы с Абузаром Гиреевичем, и он ободрил меня, надежду подал…»
– Нам есть что вспомнить с Галиной Петровной, – заговорил профессор. – Однажды в лесу она угостила меня замечательной гречневой кашей. Наши партизаны отбили у противника целый воз гречихи. Кашу мы запивали ромом, тоже трофейным. Великолепнейшим ямайским ромом! Оказывается, наши разведчики подбили машину немецкого генерала и вместе с генералом притащили целый ящик рома… А вот ещё был случай… Как-то я стирал свою рубашку. Галина Петровна, оказывается, следила за мной и вдруг как захохочет! Отобрала у меня рубаху и сама принялась стирать. Выходит, и стирать надо умеючи!
Профессор многозначительно гмыкнул несколько раз и покачал головой. Вдруг обратился к жене:
– Родная, совсем забыл тебе сказать – Галина Петровна очень любит липовый мёд. Да ей и полезно. Пожалуйста, постарайтесь завтра купить – ну, на рынке, что ли… – И опять перебил себя: – Аксинья Алексеевна, вас больше не беспокоит этот соглядатай – ну, тот, что вынюхивал, на каком основании вы так часто бываете в больнице?
– Нет, нет, теперь никто не тревожит меня.
Тем временем заявился хирург Гаделькарим Чалдаев. Основная работа у него в железнодорожной клинике, и потому на нём путейская шинель с латунными пуговицами, на голове – форменная фуражка. На его маленькой фигуре шинель кажется очень длинной. Видно, недавно он был в парикмахерской – волосы коротко подстрижены, только надо лбом оставлен чуб.
– Сынок Гаделькарим, – встретила его в прихожей Фатихаттай, – неужели тебе, доктору, так уж обязательно носить эту долгополую чёрную шинель? Неужто не можешь заработать себе на хорошее пальто?
– Половину заработка, Фатихаттай, мне приходится отдавать квартирной хозяйке, а другую половину тратим на дрова и провизию.
– Когда же тебе дадут квартиру? Теперь ведь много строят жилых домов.
– Наш дом ещё без крыши, Фатихаттай.
– А ты будь похитрее. Дитя не плачет – мать не разумеет.
– Плакал бы, да слёзы не текут. А за притворство меня в детстве секли крапивой – на всю жизнь отучили.
– Ну, если не хочешь врать, найди другие пути. Те, кто выдают квартиры, тоже небось хворают. Не сами, так жёны болеют. На свете нет женщины без хвори. Так напрямик и скажи: «Дашь квартиру – буду лечить, не дашь – отваливай». Другие-то давно уж переселились в казённые квартиры. Ты думаешь, им за красивые глазки дают?
– Не знаю.
– Вот поэтому и мёрзнешь, как воробей в худом гнезде, да ещё деньги платишь.
– Пока не мёрзну, у меня пальто на лисьем меху… Хозяин-то что поделывает? Как себя чувствует Мадина-апа?
– Да что-то прихварывает. У нас тоже холодно. Ни одна батарея толком не греет. Заходи, пожалуйста.
В больших комнатах каменного дома действительно было холодно. Все сидели в меховых безрукавках. Даже за чайным столом не сняли телогреек.
Абузар Гиреевич передал Чалдаеву просьбу Янгуры.
– Ладно, в свободное время посмотрю, – без особого энтузиазма ответил Гаделькарим.
Он не засиделся. Кончил говорить о деле и сразу же собрался уходить, сославшись, что у него у самого родственники в гостях.
– Люблю я этот «Бадьянов сад», – растроганно говорила Фатихаттай. – Вчера встретила на базаре Зюгру. В прошлом году она была такой хворой, ходила согнувшись, как коромысло. А теперь такая стройная, словно и не болела никогда. Расспросила я её, что и как. «Сорок лет, говорит, мучилась ужасной болезнью, наверное, десяти докторам показывалась. И вот сказали мне: есть, мол, здесь, в Казани, очень умелый хирург, зовут его Гаделькарим, покажись ему. Пришла я к этому Гаделькариму. «Нельзя ли, говорю, вырезать у меня эту мерзость – язву, а то она и в могиле не перестанет мучить меня…» Он отрезал без дальних слов, да так ловко и быстро, что я и не заметила, когда он взял в руки ножик, дай бог ему здоровья! Через две недели я уж поправилась. И вот теперь – будто снова родилась».
Абузар Гиреевич слушал и посмеивался. Он до самозабвения любил слушать рассказы об опытных, умелых врачах.
11
– Читали сегодняшнюю газету? О, тогда вы ещё не знаете о замечательной новости в мире казанской медицины!
– Необычайно смелая операция! Чудо!
– Вы ещё не поздравили Фазылджана Джангировича? Вот это новатор, вот это смелость! Недаром говорится: «Смелость города берёт».
В этот день казанские медики, особенно хирурги, только и говорили об этой операции. Профессору Тагирову эту новость сообщил молодой врач Салах Саматов. Абузар Гиреевич не очень-то любил сенсационные шумихи, но, поскольку речь шла о Янгуре, попросил Салаха прочитать заметку. Салах развернул газету и стал с чувством читать:
– «Устранение заболеваний сердечно-сосудистой системы хирургическим путём широко стало практиковаться лишь в последние годы. Пластическая замена дефектных сосудов трубками из капрона, дакрона и других синтетических материалов становится новой областью хирургии… Заведующий кафедрой хирургии Н-й больницы Фазылджан Джангирович Янгура явился нашим пионером в этой области. Совсем недавно им произведена блестящая операция на сердце человека, страдающего пороком… Больной К. чувствует себя хорошо…»
– Какая сенсация! – воскликнул Саматов, кончив читать.
– Сенсация-то сенсация, – взыскательно оглядев Саматова, сказал профессор, – а почему вы небритый? Что у вас за воротник и галстук? Засалились! И почему от вас несёт, простите, конским потом?.. Сегодня же откройте первый том Гиппократа и прочитайте раздел «Врач». Вот так!
Этим неожиданным поворотом профессор необычайно озадачил Саматова. Тот так и застыл на месте, не зная, что сказать, а профессор, заложив руки за спину, ушёл. Он думал в эти минуты об Асие. Может быть, Янгура и сумел бы сделать ей удачную операцию. И в газетах появилось бы сообщение: «Больная А. чувствует себя хорошо». Возможно, в заметке были бы и такие строчки: «Не лишним будет напомнить – профессор Т. почему-то не давал согласия на эту операцию. Правильно ли он поступил?» Что же, может быть, Абузар Гиреевич действительно постарел не только телом, но и умом? Может, потому и топорщит усы, когда при нём заводят разговор о смелости молодых врачей? Всякому своё: молодёжи – смелость, старикам – амбиции. И всё же он не отдаст Асию хирургу.
Профессор кинул взгляд в окно: не поймёшь, дождь идёт или мокрый снег. Деревья, заборы – всё мокрое, чёрное.
«Сенсация… сенсация…» – всё ещё недовольно бормотал профессор. Почему он, проработав полвека, не стал виновником ни одной сенсации? Неужели, его работа была неинтересной, серенькой, не героической?..
Но не прошло и часа – в уголках глаз профессора появились лучистые морщинки: обида отошла. Он ещё раз проверил в негатоскопе последние томографические и бронхографические снимки лёгких Галины Петровны и, подумав немного, резко вскинул голову и, словно ставя точку, сжатыми в один кулак ладонями стукнул по столу:
– Да, так!
В кабинете начали собираться вызванные врачи. Абузар Гиреевич, даже не объяснив им причину вызова, сразу повёл всех к койке Галины Петровны. Стремительно вошёл в палату, сказал общее «здравствуйте», проверил пульс у больной и, устало улыбнувшись, сказал:
– Ну вот… Самому нелегко было, и вас всех измучил тем, что так долго не ставил свой диагноз… Дорогая Галина Петровна, забудьте всё, что вам говорили раньше. Мой последний, твёрдый диагноз: бронхоэктазия. Так! И ничего больше.
Из груди больной вырвался облегчённый вздох. Лица лечащих врачей тоже просветлели. Это уже не безнадёжный случай. С бронхоэктазией можно бороться.
– Да, да! – продолжал Тагиров. – Пусть вас не беспокоят пятна в ваших лёгких, они скоро исчезнут. С завтрашнего дня начнём лечить вас новейшими антибиотиками.
Профессор повернулся к Магире-ханум и начал диктовать свои назначения. Потом снова склонился над Галиной Петровной, спросил с улыбкой:
– Диляфруз передала вам мёд? Помните, ещё тогда, в партизанском отряде, вы говорили мне, что хотели бы попить чайку с липовым мёдом? Ну вот и пейте на здоровье.
Профессор не позабыл – Магира-ханум ещё вчера докладывала об одной очень капризной и трудной больной. Она лежала в той же палате, где и Галина Петровна. Абузар Гиреевич перешёл к её койке. Как всегда, приветливо поздоровался.
Русоволосой и тонкобровой, с тонкими губами Анисе Чиберкеевой было тридцать лет. Она – финансовый работник. По её словам, она впервые почувствовала приступы болезни в прошлом году. А теперь и разговаривать-то спокойно не может – трясётся, как в лихорадке. Губы у неё плотно сжаты, словно она страшно боится, как бы невольно не сорвалось с языка что-то роковое, непоправимое. А глаза широко открыты, ищущие, беспокойные.
– Ну-ну, возьмите себя в руки, – уже не раз повторил профессор. – Вы хотели меня видеть, не так ли?
Наконец у Чиберкеевой дрогнули губы. Она торопливо заговорила, глотая слова. Однако понять её было трудно. Она путала, коверкала, повторяя услышанные от кого-то или бегло прочитанные в каких-то брошюрах «модные» слова. По мнению Анисы, причина её странной болезни – бурный, стремительно бегущий двадцатый век. Мать её дожила до восьмидесяти, бабушка умерла после девяноста, а вот Аниса уже в тридцать лет чувствует себя обречённой…
– Если захотите, вы можете прожить не меньше ваших почтенных родичей, – серьёзно проговорил профессор.
– Господи, ещё бы не хотеть! – воскликнула Чиберкеева.
– Тогда поговорим откровенно, Аниса. Хотеть можно по-разному. Вы дали полную возможность разыграться своим нервам. А их надо держать вот так! – профессор сжал кулак и тряхнул головой. – Нервы – глупцы, отдаваться их воле опасно. Бодрое, весёлое настроение, любимый труд надёжней самой крепкой брони предохраняют человека от всяких болезней. А подавленное настроение губит человека.
– Нет, нервное расстройство зависит не от самого человека, а от эпохи. Я знаю, я же не какая-нибудь тёмная женщина!.. – возбуждённо и упрямо повторяла больная.
– Наше время, конечно, отличается от времени наших прадедов. Нервная нагрузка современного человека несравнимо больше, чем у людей прошлых веков. Мы в течение одной недели, даже одного часа порой видим, слышим и вынуждены запоминать столько, сколько предкам нашим хватило бы на всю жизнь. Но эта нагрузка не так уж вредит нам, Аниса. Ведь наш организм сам собой приспосабливается к новой среде. А вот если бы перенести в современную эпоху наших прабабушек и прадедушек, их нервная система не вынесла бы нынешних темпов жизни… Вы курите? – вдруг спросил профессор и, заметив смущение Анисы, сказал: – Бросьте эту гадость. Сразу почувствуете себя лучше.
– У меня часто возникают боли в животе, – пожаловалась Чиберкеева. – Курение вроде бы успокаивает.
Магира-ханум что-то сказала профессору по-латыни. Чиберкеева, сразу дрогнувшим голосом, спросила:
– Что она сказала?
– Она сказала, что у вас, может быть, глисты, – не моргнув глазом, ответил профессор и велел Анисе откинуть одеяло.
Больная отбросила одеяло. У неё уже не было ни стыда, ни даже смущения, так свойственных женщинам при медицинских осмотрах. Она уже привыкла. И всё же нервы её были напряжены, как тугая пружина. Едва профессор прикоснулся к её животу, больная пронзительно вскрикнула.
– Почему вы кричите? – спокойно спросил Тагиров.
– Больно… – нерешительно ответила Аниса.
– Когда вы острее ощущаете боль – до еды или после?
– Ночью… Как только задумаюсь…
– Вы пережили какое-нибудь сильное горе?
– Нет, нет, у меня не было переживаний… Совсем не было! – с необычайной горячностью возразила Чиберкеева. Затем закрыла лицо руками. Но тут же отняла их и с отчаянием крикнула: – Зачем вы задаёте всякие вопросы? Вы же знаете, что у меня рак… рак! Вон сколько анализов. – Она вынула из-под подушки и бросила на одеяло целую пачку бумажек. – Вы только скрываете от меня. Рак в начальной стадии излечим, я читала… У меня все симптомы налицо… Так лечите же меня!
– Нет, Аниса, всё это ваши выдумки, – твёрдо говорил профессор. – Давайте условимся: регулярно пейте лекарства, которые я назначу, бросьте курить, ежедневно выходите на прогулку на свежий воздух…
– Но ведь рентгеновский снимок показывает какое-то затемнение.
– Затемнение, Аниса, можно найти почти в каждом снимке. Надо отличать одно от другого. Выкиньте из головы эти глупые мысли.
Профессор поднялся с места и направился к двери. Тут его остановила больная, которая до этого молча сидела на койке и вязала кружево:
– Абузар-абзы меня уже и не замечает. А я-то хотела показать, какие гибкие стали у меня пальцы. Неужели у вас и словечка тёплого не найдётся для меня, бедняжки?
Профессор остановился, весело вскинул брови.
– Это вы-то, Карима, бедняжка?!
– Очень я соскучилась по детям, по дому, – тихо пожаловалась Карима. – Не пора ли мне на выписку?
Профессор взял у неё из рук кружева, с любопытством посмотрел, затем велел подвигать пальцами.
– Больно?.. А так?.. Тоже не больно? Ну и отлично! А вы ещё обижаетесь! Я позвонил к вам на фабрику. Обещали вам путёвку. Поедете из больницы прямо в санаторий, на грязелечение.
Женщина вдруг всхлипнула, принялась утирать слёзы.
– Вот тебе на, вот и скажи ей тёплое словечко! – засмеялся профессор. – Сразу нагрянула такая оттепель… Не годится!
– Не знаю, как благодарить вас за то, что вылечили… Да ещё путёвка… А вон для Марьи Митрофановны выхлопотали через горсовет квартиру…
– Хватит, хватит! – Абузар Гиреевич взял с тумбочки книгу. – Такташ?.. Это кто читает? Асия, что ли?
– Не стану же я читать стихи, – смеясь сквозь слёзы, ответила Карима.
Асию профессор встретил в коридоре, где она о чём-то живо разговаривала с Салахом Саматовым. Профессор прошёл мимо, только погрозил пальцем своей любимице.
Магира-ханум повела профессора к новому больному. Этот странный человек ни минуты не может побыть без врача или без сестры. Если долго не появляются – поднимает скандал, грозит пожаловаться Тютееву и ещё кому-то «выше»: дескать, если с ним что-нибудь случится, несдобровать всем врачам, да и больницу прикроют.
– Не обращайте на него внимания, – сказал профессор.
– Как же не обращать? Вчера Тютеев сделал мне выговор по телефону: «Вы не всегда внимательны к больным. Надо понимать, кто в первую очередь нуждается во внимании».
– Если позвонит ещё раз, скажите ему, чтобы обратился ко мне, а сами не вдавайтесь в объяснения, – ответил Тагиров. – Где ваш привередливый больной?
Зашли в палату. Профессор начал со своего неизменного «здравствуйте».
– Ханзафаров Мустаким Максутович, пятьдесят пять лет, служащий, – привычно докладывала Магира-ханум. – С пятьдесят девятого года страдает гипертонией. Сердечный приступ начался на работе. В больнице четвёртый день, приступ не повторялся. Дважды произведена электрокардиограмма.
– Теперь сами расскажите о себе, – обратился Абузар Гиреевич к больному.
– Прежде всего я должен сказать, товарищ профессор, что, несмотря на неоднократные мои требования, даже протесты…
– О жалобах после. Расскажите, что вас беспокоит.
– Со здоровьем у меня очень плохо, товарищ профессор, – заныл Ханзафаров. – Однако в истории болезни теперешняя моя должность…
– Мы не собираемся принимать вас на работу, должность не имеет значения.
– Как не имеет значения, если я номенклатурный работник?
– У нас ко всем одинаковое отношение. Однако вы, как я вижу, страдаете административной болезнью. – Профессор собрался подняться с места.
– Как это – административной?! – воскликнул Ханзафаров. – Всё время давит и колет сердце… Ещё в обкоме закололо…
– Вы что, немного поволновались на работе?
– Если бы немного, у меня и ус не дрогнул бы, товарищ профессор. А то и вспомнить страшно…
– Тогда не вспоминайте. Вас отправили в больницу прямо с работы?
– Что вы, товарищ профессор! Разве можно в партийном учреждении выставлять напоказ свою немощь! Я пришёл домой и говорю жене: «Ну, над моим отделом гроза собирается. Может быть, пока не прояснится, съездить куда-нибудь на курорт? Ты ведь знаешь, какое у меня сердце». А она говорит: «Тебе в дороге хуже будет. Я знаю твою мнительность». Надо сказать, жена у меня очень грамотна в медицине, даже врачи не могут её переспорить. После её слов в сердце у меня сразу закололо, ещё сильнее, чем в обкоме. Ночью проснулся – совсем не могу дышать, всю грудь заложило… Жена – к телефону. Слышу, кричит: «Скорей, очень опасное положение!» Я, конечно, тоже того… растревожился…
Профессор рассмотрел ленты электрокардиограммы. На одной из них он дольше задержал внимание. Ханзафаров лежал неподвижно, наблюдая за лицом Абузара Гиреевича. И вот – душа у него ушла в пятки. Ему казалось, что лицо профессора темнеет, – значит, на плёнке черным-черно. У Ханзафарова задрожали губы.
– Профессор, неужто он самый?!
Тагиров мельком глянул на него и подумал: «Где я слышал этот клокочущий голос?»
– Откиньте одеяло, – сказал профессор, прилаживая к ушам фонендоскоп. Он со всей внимательностью прослушал больного. Затем обратился к Магире-ханум: – Sanus![8] Если боли не прекратятся, можно сделать новокаиновый блок. А вам, Мустаким…
– Максутович, – торопливо подсказал больной.
– …нет оснований тревожиться за своё сердце. Если хотите скорее поправиться, лежите спокойно. Не забывайте, что здесь больница, рядом с вами лежат другие больные. Их тоже надо уважать, не тревожить. У вас что, очень беспокойная работа?
– Не знаю, есть ли на свете работа беспокойней, чем моя! – сразу воодушевился Ханзафаров. – Хозчасть! Целый день висишь на проводе. Как только терпит телефонная трубка…
Теперь профессор вспомнил: в тот день, когда он отказывался класть в больницу мать Султанмуратовой, вот этот клокочущий голос убеждал его, даже грозил.
– Вы курите? – спросил профессор.
– Одну «алтынчеч» и одного «шурале»[9] в день, не больше.
– Диляфруз, – обратился профессор к сестре, – «Шурале» и «Алтынчеч», сколько найдётся в тумбочке, – в мусорный ящик. А как насчёт вина? – обратился он к больному.
– В меру, товарищ профессор.
– Диляфруз, откройте-ка тумбочку и посмотрите. Не может быть, чтобы хозчасть не позаботилась о запасах.
И действительно, Диляфруз извлекла из тумбочки с десяток пачек папирос и бутылку коньяка.
Профессор крепко отчитал Ханзафарова за нарушение больничного режима и предупредил, что, если ещё обнаружит хоть капельку спиртного, его немедленно выпишут из больницы.
– Вот так, Мустаким, – закончил профессор уже по-дружески, – отныне не курить ни одной папироски, не пить ни капли коньяку.
– Навсегда?
– Да, навсегда!
– Последние удовольствия отнимаете, профессор! Что же останется? Лучше уж умереть.
– Вот я и вина не пью, и не курю. А умирать не собираюсь, да ещё вас лечу.
Когда профессор собрался уходить, у Ханзафарова опять задрожали губы.
– Абузар Гиреевич, болит ведь! – сказал он умоляюще. – Вы уж, пожалуйста, прикажите им, – кивнул он на стоящих в стороне врачей и сестёр, – пусть не оставляют меня одного. Или же разрешите дежурить жене. А то по ночам меня мучает страх.
– Простите. Не верю в ваши страхи. Вы же из камня вытесаны.
– Откуда вы знаете меня?! – удивился польщённый Ханзафаров. – Ко мне ведь большие учёные ходят со всякими просьбами. Да и то не всегда получают, что просят.
– А я-то не знал! – усмехнулся профессор в усы. – Мне всего-то нужно три-четыре листа кровельного железа. Каждую неделю мастер ремонтирует крышу и всякий раз уносит поллитровку, а крыша не перестаёт течь.
– Жулик! – возмутился Ханзафаров. – Я пришлю вам своего Юзмухаммеда[10].
– Пожалуйста, не надо! – взмолился профессор. – Кровельщик, который к нам ходит, тоже Мухаммед. Если придут сто Мухаммедов, совсем разорят… А жене вашей дежурить здесь я запрещаю категорически. Во всём остальном поступайте, как скажет она, но когда дело касается медицины, лучше её не слушать. Если бы посоветовались не с женой, а с врачом, вы бы сейчас гуляли на курорте.
Позже, когда вернулись в кабинет, профессор вот что сказал Магире-ханум о Чиберкеевой и Ханзафарове:
– Чиберкеева – типичная ипохондричка![11] На беду свою, попала к «футболистам». К сожалению, у нас ещё встречаются врачи, которые гоняют больных от одного к другому, как футбольный мяч. Видели, сколько бумажек набрала Чиберкеева? Это ведь ужасно! И вот она требует лечения не настоящей болезни, а той самой, что указана в бумажках. Поди в них разберись. Болезнь её, безусловно, началась после какой-то душевной травмы. Но Чиберкеева почему-то скрывает это. Пока давайте ей только успокоительные средства. Но она ещё достаточно помучает нас. Это не Асия. Асия в сравнении с ней золото. Конечно, я имею в виду характер.
Профессор был прав, Чиберкеева пережила большое горе. Два года назад у неё умер муж. Через год после этого она встретила давно знакомого человека, который нравился ей в юности. Он приехал в командировку из Москвы. Вспоминая прошлое, они гуляли по саду, сидели в ресторане, затем… очутились в гостинице. Через некоторое время Чиберкеева начала думать, что беременна, и очень боялась, как бы не догадались об этом домашние и товарищи по работе. Расстроенная, она побежала к врачу. Тот подтвердил беременность. Женщина решила сделать аборт. Но специалист, к которому она обратилась, отправил её домой, заверив, что беременности нет. В полной растерянности Чиберкеева помчалась к третьему врачу. Побывав таким образом у нескольких специалистов и перестав верить кому бы то ни было, она добилась приёма у известного в городе профессора. Превосходный знаток своего дела, но человек резкий, он, осмотрев Чиберкееву, заявил:
– Много видел я на своём веку дур, но такой, как вы, ещё не встречал. Идите домой и не обращайтесь больше к врачам. Вы не беременны.
Чиберкеева постепенно успокоилась, но через некоторое время впала в новую тревогу. Случайно она прослушала лекцию «Опухоли у женщин». Лектор слишком подробно перечислял симптомы грозной болезни. Чиберкеева слушала ни жива ни мертва. На следующий день накупила популярных брошюр о раке и начала выискивать у себя соответствующие симптомы. Что только не приходило в её охваченную тревогой голову… Она опять кинулась к врачам, говорила о своей болезни так, как написано в книгах. Если бы и в этот раз ей встретился врач с твёрдым характером и отругал бы её, возможно, на этом бы дело и кончилось. К сожалению, она действительно попала, как выразился профессор, к «футболистам» и… в конце концов легла на больничную койку.
– Зачатки этой же болезни есть и у Ханзафарова, – продолжал профессор, – только он не придумывает себе болезнь, а преувеличивает ту, которая у него есть. Как только снимем у него спазмы сосудов, он быстро поправится. А чтобы лечить психику Ханзафарова, следовало бы перевести его в палату к Николаю Максимовичу. Это ироничный, я бы даже сказал – язвительный человек. Спесивцы вроде Ханзафарова больше всего боятся насмешки. Не сильно травмирующая насмешка была бы в данном случае лучшим лекарством для Ханзафарова.
– Тогда давайте переведём больного с «красной чалмой» в другую палату, а на его место положим Ханзафарова, – предложила Магира-ханум.
– Нет, этого нельзя делать, Магира-ханум. «Красная чалма» может обидеться. Подождём, когда он выпишется.
* * *
Вечером, подавая профессору ужин, Фатихаттай, по обыкновению, принялась жаловаться на холод в доме, подозревая, что опять где-то неладно с крышей, возможно – и с потолком. Профессор вспомнил про ханзафаровского Юзмухаммеда, со смехом рассказал об этом Фатихаттай.
– Эх, Абузар, Абузар, – вздохнула Фатихаттай, – сущее дитя ты в жизненных делах. Разве можно было отказываться, если заболевший начальник в благодарность врачу набивается прислать своего мастера! Вон, погляди-ка, стена-то опять мокрая, ткнёшь пальцем – штукатурка сыплется. От вечной сырости и сам бываешь нездоров, и Мадина, бедняжка, часто болеет, и у меня в груди колет. А потом эти распроклятые батареи… Тепла нет, а течёт из них, как из озера. Утром прихожу с базара – ведро переполнено, на полу целая лужа. Соседи внизу подняли скандал.
– Завтра зайду в домоуправление и скажу, чтобы Мухаммеда прислали, – сказал смущённый профессор.
– Что хорошего ждать от этого пьяницы? Только скалкой по голове стукнуть.
– А разве лучше будет, если придут сто Мухаммедов? – засмеялся профессор. – Одной скалкой тут не отделаешься.
– Если бы этот начальник оказался действительно порядочным человеком, я бы и слушать не стала тебя. Сама сумела бы потолковать с ним, – не сдавалась Фатихаттай.
Лицо у профессора стало серьёзным.
– Нет, Фатихаттай, не открывай дверь, если даже и заявится этот «Сто Мухаммедов». Моё слово твёрдое.
– Не приказывай мне, пожалуйста! – вскипела Фатихаттай. – Я тебе не врач и не сестра. Фатихаттай – вольный казак.
Абузар Гиреевич от души рассмеялся.
– Ничего смешного, – сурово отпарировала Фатихаттай. – На днях Мадина послала меня по делу к Янгуре. Как вошла к нему в квартиру, чуть не ослепла. Какая мебель! Не то что у нас – развалина на развалине, – у него всё новенькое, полированное, всё сверкает, как зеркало. На такую мебель, думаю, и пыль-то не садится, а сядет – так только опахнуть. А нашу пока протрёшь, пока выскребешь пыль из резьбы – без рук останешься. А книги у них все в застеклённых шкафах. А какие абажуры! Не позеленевшие, с разбитой головкой, как у нас… Скажи, когда мы покупали эту люстру? Тогда и Мансура ещё не было на свете… Стекло, наверно, уже сгнило…
– Стекло, Фатихаттай, не сгниёт и в тысячу лет.
– Разве только булгарское не гниёт, а о другом – не скажу, – не сдавалась Фатихаттай. Лет десять тому назад она ездила смотреть развалины древних булгарских поселений и привезла оттуда множество стеклянных осколков. – А цветы у Янгуры, – продолжала расписывать Фатихаттай, – не какие-нибудь фикусы-микусы да пальмы, как у нас, а особые, растущие только под стеклянным колпаком. Не изрежешь, не занозишь руки, когда протираешь такие цветы, да и поливать их не надо…
Профессор взглянул на часы.
– Ну, всё, Фатихаттай, сеанс окончен. Спасибо за ужин и за лекцию.
– На здоровье. – Фатихаттай начала собирать посуду, продолжая бормотать: – Был бы начальник порядочный, обязательно прислал бы своего Юзмухаммеда…






