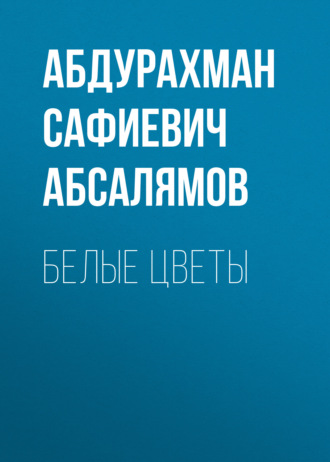
Абдурахман Абсалямов
Избранные произведения. Том 1
Больной не проронил ни слова, только неприятно усмехнулся.
– У вас нервное истощение. Это и отразилось на сердце. Полечим – и спазмы пройдут. И печень вам надо лечить.
Обход закончился. Больной остался лежать молча, не двигаясь, безучастно глядя своим тяжёлым взглядом в потолок.
Эта неожиданная встреча, надо признаться, взволновала Абузара Гиреевича, и у себя в кабинете он не сразу успокоился. Да, судьба его в сравнении с другими судьбами оказалась гораздо легче в те тяжёлые времена. В своё время он объяснял это тем, что другие были виновны, а за ним не нашлось никакой вины перед народом, перед страной. Должно быть, на него пало какое-то ошибочное подозрение, но власти разобрались – и его оставили в покое. Значительно позже, когда были преданы широкой гласности факты грубого нарушения законности, он и сам перестал понимать свою судьбу. Каким образом беда миновала его? Дело счастливого случая?.. Он так и не мог найти ответа. И решил больше не думать над этим.
В кабинет вошёл необычайно расстроенный главный врач больницы Алексей Лукич Михальчук.
– Я не вынесу этого! – пожаловался он. – Эта Султанмуратова сведёт меня с ума. Наседают со всех сторон… Расстроили мою жену, плачет… Давайте положим хоть в коридор, Абузар Гиреевич.
Бедняга Михальчук даже похудел, небрит, в глазах беспокойство.
– Я не могу этого сделать, Алексей Лукич, – спокойно возразил профессор.
– Но ведь я тоже человек! – вырвалось у Алексея Лукича. – У меня тоже есть нервы!.. С утра до вечера не дают покоя. Скажу – пусть привезут эту старуху.
– Если вы положите в больницу человека, не нуждающегося в лечении, я немедленно уйду отсюда! – стоял на своём Абузар Гиреевич. – Моё призвание – лечить действительно больных, а не потворствовать капризам.
Несчастный Алексей Лукич обхватил руками голову.
7
Когда Абузар Гиреевич закончил очередную лекцию, кто-то из врачей, приехавших на курсы усовершенствования, задал вопрос:
– Скажите, пожалуйста, чем больна девушка из восьмой палаты? Почему вы не показываете её нам?
Профессор, нахмурив брови, несколько минут молчал. Он не любил вопросов неуместных или вызванных простым любопытством. Затем поднял голову, окинул живыми чёрными глазами зал, снял очки, положил на кафедру. Только после этого ответил:
– Среди медиков бытует изречение: noli nocere![3] Никогда не забывайте этих двух слов. Больной не бездушная машина, привезённая для ремонта. Больной – это целый мир, и притом очень сложный, очень тонкий мир. Обратил ли кто-нибудь из вас внимание на глаза этой девушки? Ведь в глазах её был огонь, а душа трепетала, как лань перед ружьём охотника. Имел ли я право обрекать её на излишние переживания? Нет и нет! Наносить ей без нужды дополнительную душевную травму – преступление. Если бы все вы, особенно мужчины, стали подходить и осматривать её, думаете, она позволила бы вам это? Она тут же ушла бы, а потом весь день плакала от обиды… – Профессор, собираясь с мыслями, промолчал с минуту, переложил очки с одного места на другое. – Догматизм в любом деле вреден, а в медицине – особенно. Мы часто имеем дело с неповторимыми, не похожими на других, не отвечающими общим законам индивидуумами. Если с первой встречи больной почувствует неприязнь к врачу, весьма сомнительно, что лечение даст положительный результат. У больного, кроме болезни, есть ещё душа! Душа! – подняв руку, повторил профессор. – Сократ две тысячи лет тому назад говорил: «Не излечив душу, нельзя излечить тело». Теперь каждому из вас хорошо известно, что душа есть не что-то неземное, божественное, а реальное физиологическое явление – высшая деятельность нервной системы, психика человека. Великие учёные прошлого – Сергей Петрович Боткин, Григорий Антонович Захарьин, Владимир Михайлович Бехтерев и другие известные клиницисты – показали на практике, что комплексное лечение тела и души является единственно правильным методом, и завещали нам идти этим путём. Никогда не забывайте слов великого Ивана Петровича Павлова: «Радость укрепляет тело». Мы лечим человека! Человека, а не болезнь. Бесспорно, в наши дни медицина развивается не по годам, а по месяцам, по дням. Но и жизнь не стоит на месте. Больные наши во многих случаях – люди высокой культуры, сложной психологии. Чтобы лечить их, надо не уступать им ни в общем культурном уровне, ни в тонкости мышления…
Когда Гульшагида слушала профессора, перед глазами её вставал родной Акъяр. У себя в акъярской больнице она старалась относиться к каждому больному как можно внимательней. Не всем её коллегам нравилось это. Находились врачи, подозревавшие её в карьеризме, в желании противопоставить себя коллективу, что несовместимо с врачебной этикой. Особенно трудно было в первые годы по приезде в Акъяр. Гульшагиде ставили подножку то узкие ремесленники, с головой погружённые в свои личные интересы, не имевшие ни времени, ни призвания по-настоящему заниматься больными, то заведующий райздравом, плясавший под дудку ремесленников. Этот человек, работавший раньше помощником прокурора, потом заврайфином, и, наконец, «переброшенный» для «укрепления аппарата» в райздрав, всякий раз, когда Гульшагида заходила к нему по делам больницы, поучал:
– Врач должен быть не только авторитетным, но и грозным. Завидев его, больные должны тушеваться, а не лезть на глаза. Если в больнице будет чисто и тепло, как в хорошей гостинице, да ещё ласковое обращение, найдётся слишком много желающих зря есть больничный хлеб… – В заключение он любил энергично добавлять: – Вы тут мне клинику не разводите! Ближе к жизни! Вот вам координаты: посевная, уборочная, – действуйте!..
После лекции профессора, как всегда, окружили слушатели. Гульшагида стояла чуть в стороне. Он увидел её, подошёл с лёгкой улыбкой.
– Я перед вами оказался вроде бы обманщиком… – начал он.
– Не беспокойтесь, пожалуйста, Абузар Гиреевич, – заторопилась смущённая Гульшагида, ещё не зная, что он имеет в виду.
Профессор продолжал уже вполголоса:
– Кто-то пустил слух, будто приехал Мансур… – На лицо Абузара Гиреевича легла тень. – К сожалению, это неверно. Последнее время от Мансура даже писем нет… Я приглашал вас зайти без всякой связи с приездом Мансура. И это приглашение остаётся в силе.
Гульшагида покраснела ещё больше. Ей казалось, что профессор знает не только о её разговоре с Верой Павловной, но и о том, как она, глупая, ходила на Федосеевскую дамбу.
Она поблагодарила профессора за внимание и, воспользовавшись тем, что слушатели обратились к нему с вопросами, отошла в сторону.
Гульшагиде было очень грустно. Захотелось побыть одной. Она спустилась вниз и долго сидела в больничном саду. За последние два-три дня деревья оголились ещё больше. На земле, куда ни глянь, всюду опавшие листья. Всё печально до слёз… «Значит, Мансур, не приехал… Откуда же тогда слухи?.. А ведь в Акъяре скоро начнутся свадьбы», – почему-то вдруг подумала Гульшагида. И в эту минуту ярко-жёлтый лист упал ей на колени. Она с минуту глядела на этот одинокий лист и по странной ассоциации вдруг вспомнила об Асие. Вскочила со скамьи и побежала в больницу.
Не так-то легко было завоевать расположение Асии. Девушка дала почувствовать, что не имеет ни малейшего желания разговаривать.
– Вы не обижайтесь, – мягко говорила Гульшагида, – что я долго не навещала вас, других дел было много…
– Что вам нужно?! – перебила девушка. – Хотите расспрашивать о моей болезни? А я не желаю с утра до вечера твердить об одном и том же!
– Почему же только о болезни, можно и о жизни поговорить, о настроении вашем.
– Да кто вы такая, чтобы я откровенничала с вами?
– Всего лишь врач, Асия. Деревенский врач, приехавший сюда для повышения квалификации.
– А-а… Значит, вас интересует городская больная? Вы желаете повысить квалификацию?.. А мне совсем неинтересно выворачивать себя наизнанку перед всеми, – нервно проговорила Асия и отвернулась. – Пожалуйста, не морочьте мне голову. Я хочу побыть одна. Понимаете, совершенно одна. Хочу плакать, хочу терзаться! Говорят, человек живёт своим будущим. А какое у меня будущее?..
– При таком настроении вам тем более нельзя оставаться одной, – не отступала Гульшагида и подвинулась ближе к девушке, всё ещё надеясь расположить её. – Я по себе знаю – одинокую душу пуще всего гложет тоска. Бывало, в деревне, в сумерках, я любила, облокотившись, смотреть из открытого окна. Справа – ржаное поле, слева – широкие луга. Чуть ветерок повеет из полей, по лугам начинают катиться зелёные волны, – набегает волна за волной, кажется, они готовы затопить всю деревню. А на лугу растут на длинных стеблях какие-то жёлтые цветы. На закате они выглядят очень печальными, – стоят, склонив головки… Слушайте, Асия, от одиноких дум грустят не только люди, но и цветы. Даже цвет их меняется от грусти – они кажутся уже не жёлтыми, а какими-то тёмно-красными, словно окрашенными тоской… Вот ведь до чего доводило меня одиночество… Бывало, тётка Сахипджамал увидит меня… – Гульшагида тихо засмеялась, – увидит меня в таком настроении да как ткнёт меж лопаток концом скалки и скажет: «Не нагоняй тоску в дом, пусть враги от тоски сохнут». И сейчас же выгонит меня на улицу, к людям, чтоб развеять печаль…
Зачем она заговорила о жёлтых цветах, о закате, о тоске? Ведь это для Асии – соль на рану. И верно, девушка, не помня себя, крикнула:
– Уходите, уходите! Я никого не хочу видеть… Разве счастливчики могут понять меня…
– Асия…
– Замолчите! Вам дано всё, а мне ничего! Я в девятнадцать лет прикована к постели. Передо мной раскрыта чёрная могила… – И девушка в отчаянии зарыдала. – Есть же на свете жестокие люди, им доставляет удовольствие мучить меня…
– Простите, – огорчённо сказала Гульшагида, поднимаясь с места. Она была очень удручена, – до сих пор верила, что любого человека сможет вызвать на откровенный разговор и облегчить ему душу, а оказывается, не дано ей это. В Акъяре она пользовалась полным доверием и расположением больных. И теперь, должно быть, лишнего возомнила о себе. Здесь, в городе, люди сложнее. У неё не хватает ни сил, ни способностей завоевать авторитет у них. Вот перед этой девушкой она оказалась совсем бессильной.
Гульшагида поделилась своим огорчением с Магирой Хабировной.
– Успокойтесь, – мягко сказала Магира-ханум. – Ведь врач – как свеча: сам сгорает, а свет отдаёт больным. О том, что он сгорает, больные не должны знать. От него ждут только света… А потом, Гульшагида, скажу вам по секрету, – со смущённой улыбкой продолжала она, – у вас, как у врача, наряду с хорошими, есть и невыгодные свойства. Не рассердитесь на меня, если скажу откровенно?.. Ну, так слушайте. Вы молоды, красивы. Возбуждаете зависть у некоторых женщин, особенно у больных женщин. Им кажется, что вам просто хочется провести время, поболтать. Вы не обижайтесь на больных, ладно?.. Ведь на то они и больные.
Дня через два-три вечером, когда другие врачи разошлись по домам и дневное оживление в больнице утихло, Гульшагида снова зашла в палату, где лежала Асия, остановилась около двери. Девушка, опершись локтем о подоконник, смотрела в окно и тихо, только для себя, что-то напевала. Голос у неё мягкий, приятный. На светлом фоне окна хорошо вырисовывался её профиль: длинная красивая шея, узел волос на затылке, нежно очерченный нос и красивый подбородок.
Около Гульшагиды незаметно собирались больные, прислушивались. Асия, ничего не видя вокруг, всё пела и пела, устремив взгляд в окно. Чтобы не смущать её, Гульшагида подала знак больным, чтобы не толпились. А сама прошла вглубь палаты, подсела к девушке, обняла за плечи.
– Довольно грустить, Асенька.
Девушка вздрогнула, покосилась, – взгляд её нельзя было назвать приветливым. Всё же она не сбросила руку с плеча, не нагрубила Гульшагиде.
– Какой грустный вечер, – тихо промолвила Асия, – солнце заходит, тени… горизонт меркнет, всё замирает… И человек так же… Если бы у меня здесь были краски и мольберт, я бы нарисовала больную девушку на этом фоне…
– Чтобы и другие загрустили? – мягко спросила Гульшагида. – Если у вас есть талант, лучше рисуйте картины на радость людям.
Асия, слегка пожав плечами, усмехнулась.
– Вы или слишком простодушны, или очень хитры. Прошлый раз растравили меня своим рассказом о грустящих жёлтых цветах, а сегодня говорите совершенно обратное. Зачем?
– В прошлый раз у меня получилось нечаянно, – призналась Гульшагида. – А вообще-то я люблю, чтоб людям было радостно, весело.
– Если бы одним только желанием можно было обрадовать людей! – вздохнула Асия.
– Вы любите читать? – спросила Гульшагида, чтобы не давать девушке задумываться. – Я могла бы приносить книги. Вы, наверно, особенно любите читать стихи?
– Разве стихи обязательно читают больные девушки?
– Я думаю, что поэзия более родственна людям с тонкой душой и глубокими чувствами, – сказала Гульшагида.
Асия промолчала. Она не могла понять, к чему клонит эта красивая женщина-врач, вернее – зачем она «тычет скалкой меж лопаток» ей. Впрочем, у неё не было особого желания досадить Гульшагиде. Теперь она начала понемногу общаться с людьми, острота первых впечатлений больничной жизни смягчилась. А когда Асия «приходила в себя», она уже не могла дерзить людям. К тому же она только что прочла бодрую и вместе с тем трогательную повесть Хайдара Зиннурова. Даже подходила украдкой к дверям «Сахалина», издали взглянула на больного писателя. А когда вернулась к себе в палату, облокотилась о подоконник и неожиданно для себя тихонько запела. Ведь Зиннуров писал о юных сердцах, стремящихся в будущее. Книга говорила о том, что молодость – это ещё неизведанный путь. Надо идти наперекор буйному ветру, пить воду из студёных ключей, никем до тебя не испробованных, на привалах у реки варить похлёбку над костром, встречать зарю в лесах, окутанных голубым туманом, закончив одну стройку, торопиться на вторую, на третью – вот что такое молодость! Крылатая романтика доступна лишь молодым, здоровым сердцам. Как была бы счастлива Асия, если бы в груди у неё билось такое сердце!.. И всё же она запела. Тут подошла Гульшагида, и песню пришлось оборвать.
Вдруг в больничном саду кто-то заиграл на гармонике. Асия даже вздрогнула.
– Можно мне выйти в сад? – нерешительно спросила она, обернувшись к Гульшагиде.
– Пойдёмте вместе, – предложила Гульшагида.
Они спустились вниз. У дверей остановились, послушали. Гармонист был неумелый, играл очень плохо, и Асия недовольно поморщилась. Шурша опавшими листьями, она решительно направилась к группе выздоравливающих, сидевших на садовой скамейке. Гульшагида последовала за ней. Узнав врача, мужчина средних лет сейчас же заговорил:
– Товарищ доктор, пригласили бы как-нибудь в больницу Файзи Биккинина, – лучше него нет гармониста в Татарии. Развлекли бы нас немного. Я помню, в военном госпитале к нам приходили артисты. А мы тут слушаем Галкея – у него гармошка мяучит, как кошка.
Гульшагида не успела ответить.
– Можно мне попробовать? – спросила Асия гармониста.
Девушка взяла гармонь, привычно растянула меха. И полилась ровная, мягкая, грустная мелодия. Асия играла с чувством, слегка склонив голову набок. Сама забывшись, она вместе с песней увела слушателей на цветущие луга и в зелёные перелески Сармана. Ах, Сарман, поистине ты один из красивейших районов Татарии! Не зря народ сложил о тебе замечательную песню…
С этого дня Асия неузнаваемо оживилась. Она скрашивала больным их однообразную жизнь, – если позволяли условия, играла на гармонике, пела, а когда почувствовала себя окрепшей, даже… плясала «цыганочку».
И вот между Асиёй и Гульшагидой постепенно начала устанавливаться дружба. Настал час, когда девушка, не утерпев, открыла Гульшагиде свою сокровенную и трагическую тайну.
– Не знаю, как начать… – заговорила она, кусая губы, – стыдно… Один врач сказал мне, что с таким сердцем… нельзя выходить замуж. – Асия закрыла лицо руками и долго так сидела молча. – Это ведь ужасно, Гульшагида-апа!.. Откроюсь вам – у меня есть любимый человек. Что я должна говорить ему в ответ на его признания? Ведь он всё равно не поверит. Подумает – не люблю. А самой-то что остаётся? Хочешь не хочешь – живи монашенкой… Иной раз до того плохо на душе, что подумаешь: а не выпить ли яду?.. Смерти я не боюсь. Но уж если умирать, так со славой, как горьковский Сокол! Он пал в борьбе за свободу. А я?.. Какая у меня цель? Почему я так обижена судьбой? Почему мне не дано даже самое простое счастье, которое даётся всем людям? Я ведь тоже хочу жить, стремиться к лучшему… Жить, жить хочу, как все люди!
8
При первом же удобном случае Гульшагида поведала об этом разговоре сначала Магире Хабировне, затем и профессору.
Абузар Гиреевич разволновался.
– Внимание, такт, осторожность – вот лучшие лекарства для больного. Не уважаю, не признаю врачей, не умеющих лечить добрым, ободряющим словом. Да, да, я не оговорился! Цену и силу слова должны знать не только поэты, писатели, но и врачи! Ибо объект у них один – человек, его душа. Чтобы убить человека, бывает достаточно одного неосторожного слова, а вылечить… – профессор покачал головой. – Да-с! Тут и тысячи слов мало! Да ещё сколько всяких снадобий потребуется. Помните, как страдал больной Гафуров? А из-за чего? Только из-за того, что наша уважаемая Полина Николаевна сказала ему, что ей не нравится его сердце. Это же выстрел по больному! Если хотите, даже отравленной пулей. А как роптал на нашу любезную Тамару Ивановну больной Хазиев за то, что она сказала: «Рука у вас навсегда останется искалеченной». Ведь больной рассуждал так: у Тихонова парализованная рука начала работать через год, у Рыжова – через два года, а почему только у него, у Хазиева, рука не должна поправиться? Заметьте – больной не говорит о сроке, он сам знает, что положение серьёзное. Он готов ждать. В любом случае нельзя, – понимаете, нельзя! – лишать больного надежды! Надежда – великое дело! Вот Асия… Она и замуж выйдет, и детей народит. Вы ей так и скажите… – Профессор, заложив руки за спину, несколько раз прошёлся по кабинету, вдруг остановился посредине, покачал головой, улыбнулся. – Знаете, если подумать, что неприступная Асия раскрылась перед нами, то это уже неплохо. Значит, она в какой-то мере стала доверять нам. Это ваша заслуга, Гульшагида. Да, да! И Магиры-ханум тоже. Но впереди более серьёзные задачи. Если мы взялись лечить девушку, то должны будем лечить не только её больное сердце, но и весь организм, ибо у неё болен весь организм. Мы обязаны лечить всю её нервную систему, – профессор поднял палец, – душу! Вы случайно не знаете, где сейчас этот парень… ну, который любит её? Он в Казани?
– Он моряк, – ответила Гульшагида. – Значит, где-то в плавании.
– Вот как! Выходит, она живёт только его письмами. А у писем иногда путь очень долгий… Девушка вечно в тревоге, в неизвестности. – Профессор ещё раз прошёлся по кабинету, посмотрел на часы. – Мы ещё вернёмся к этому разговору. А теперь я должен уйти. В три часа у меня заседание Комитета защиты мира. Сегодня я ещё должен написать статью для газеты…
– Вы очень много работаете, Абузар Гиреевич. Вам надо тоже беречь себя, – не утерпела Магира-ханум.
– Э, у меня душа ещё молодая! – профессор молодцевато повёл бровью. – Да, вот что, – завтра у нас должен быть Фазылджан Джангирович. Покажем ему Асию и Исмагила. Ещё кто есть?.. Подготовьте, пожалуйста.
Идя по улице, слегка опираясь на палку, профессор, вспомнив предостережение Магиры-ханум, покачал головой. Он не мог рассердиться на эту женщину, хотя не любил тех врачей, жизнь которых проходит только в своей квартире да в больнице или в амбулатории. Эти узкие формалисты ничего другого не желали, заботились только о соблюдении служебной проформы да о своём благополучии и незаметно превращались в мещан. Профессию врача Тагиров считал самой беспокойной и самой народной профессией. Врач всегда должен быть с народом. Недаром великие медики, говоря о профессии врача, подчёркивали три момента: знание, честность и понимание общественного долга.
Профессор Тагиров оставался верен этим принципам и на практике. Хотя в последние годы из-за преклонного возраста он вынужден был отойти от многих общественных обязанностей, однако работу в Комитете защиты мира не прекратил, это дело, как и медицину, он считал своим жизненным долгом. Он пришёл к этому убеждению не только потому, что на себе испытал муки минувшей войны, и не только потому даже, что в послевоенные годы ежедневно видел, наблюдал неимоверные страдания её жертв, – он всеми силами боролся против войны прежде всего потому, что, как медик, очень глубоко понимал, какими ужасами угрожает человечеству атомная война. Он часто выступал и много писал в защиту мира.
Вот и сегодня слушатели, переполнившие большой зал, с огромным интересом внимали его взволнованной речи. Ожившие воспоминания о военных годах в связи с приездом тёти Аксюши и думами о судьбе Галины Петровны наполнили его слова особым чувством.
– Мы верим в светлое будущее человечества, поэтому и боремся за мир! – говорил он. – Идти к будущему путём войны, добиваться благополучия для немногих за счёт гибели миллионов – это дело безумцев. Я люблю людей и не хочу, чтобы они сгорели в огне атома. Безумные замыслы атомщиков должны быть осуждены и преданы позору всем человечеством! – закончил он под бурные овации.
А вечером он сел писать для областной газеты статью «Обратим достижения медицины против религии и знахарства». Написал первое предложение и задумался. Не понравилось, зачеркнул, – хотелось начать по-новому, более энергично…
Абузар Гиреевич ещё до революции неоднократно выступал в печати против религии. Какие только проклятия не обрушивали на него ишаны и муллы, какие мучения ада не сулили ему. Не останавливались они и перед прямыми угрозами. Вспоминая сейчас об этом, профессор улыбается, однако тут же лицо его становится серьёзным: хотя могилы проклинавших его святош давно уже сравнялись с землёй, посеянные ими ядовитые семена до сих пор кое-где прорастают в тёмных углах. Живучесть и служителей религии, и знахарей ещё в том, что они скрытно ходят из дома в дом, ловко используя несчастья людей, их религиозные чувства и предрассудки, наличие в медицине ещё не познанных и не объяснённых фактов. Эти лицемеры исподтишка делают своё чёрное дело. Абузар Гиреевич никак не мог примириться с тем, что за последние годы антирелигиозная работа в ряде районов республики ослабела или была передоверена недостаточно образованным людям, которые ограничиваются высмеиванием служителей Аллаха.
А статья-то не двигается… В кабинете горит только настольная лампа с зелёным абажуром, люстра на потолке погашена. За окном, на улице, темным-темно. Абузар Гиреевич встал, прошёлся по комнате. Взгляд его упал на тускло освещённый бюст Пушкина на шкафу. Лицо Александра Сергеевича кажется сегодня особенно задумчивым.
Большие часы в зале певуче пробили восемь. В доме довольно прохладно; на улице беспрестанно льёт дождь, и сквозь оконные рамы тянет сыростью. Профессор накинул поверх пижамы меховую безрукавку, чувяки без пяток переменил на тёплые туфли. Вернулся к столу и стоя пробежал глазами начатую статью. Вдруг, вспомнив что-то, быстро подошёл к телефону, позвонил в больницу. Расспросил о состоянии больных, уточнил, всё ли в порядке. Именно этого и не хватало ему. Теперь на душе спокойно, можно опять взяться за перо.
В каждом творческом деле есть своя изначальная критическая минута. Трудно сказать определённо, в чём её значение: то ли в осознании идеи, то ли в обретённом спокойствии и собранности мысли, теперь свободной от посторонних внешних впечатлений, – одно бесспорно: если найдена, если наступила эта драгоценная минута, дело пойдёт на лад. Так случилось и с Абузаром Гиреевичем: он дождался, нашёл свою минуту и принялся писать. Работал не отрываясь, пока не закончил статьи, только тогда встал с места. Он с удовольствием потянулся, расправил затёкшую спину. В доме вдруг стало теплее, комната вроде посветлела, и лицо Александра Сергеевича как-то оживилось.
* * *
Фазылджан Янгура точно в назначенную минуту прибыл в больницу. Как и у большинства хирургов, у Фазылджана Джангировича солидная фигура, располагающее лицо, на щеках играет здоровый румянец. Немножко начало расти брюшко, но под длинным, в меру просторным больничным халатом оно почти незаметно. Трудно определить точно, сколько ему лет. Бывают ведь мужчины, которым можно дать и сорок, и пятьдесят. Янгура был одним из таких счастливчиков. Прядь седых волос над широким, выступающим вперёд лбом нисколько не старила Фазылджана, казалось, она придавала лицу его больше благородства.
Они давненько не встречались с профессором, поэтому вначале обменялись новостями. Больше говорил Янгура, – вряд ли нашлось бы в городе чем-то примечательное событие, о котором он не знал бы.
Послушав собеседника, Абузар Гиреевич вынул из жилетного кармана часы. Это означало – пора приступить к делу. Янгура в ответ с достоинством наклонил голову:
– Я в вашем распоряжении.
Заведующий кафедрой хирургии в одной из городских клиник, доцент Фазылджан Янгура не только среди людей, равных ему по положению, но и в кругу более высоко стоящих коллег умел держать себя. На пустячные вызовы откликаться не станет, в любое место, к малоизвестному человеку, не побежит, но важного случая не упустит, туда, где надо быть, явится вовремя. Его имя часто упоминается в отчётах о научных конференциях – в республике и в центре он нередко выступает на страницах печати и, можно сказать, всегда на виду у общественности. Без него редко обходятся ответственные консилиумы. О нём привыкли говорить как о смелом хирурге, новаторе. Его научные доклады вызывают повышенный интерес у медицинских работников, всегда привлекают слушателей. Большинство молодых медиков даже влюблены в него. Ведь никто так не преклоняется перед смелостью и уверенностью в себе, как молодёжь.
С папкой историй болезней в кабинет вошла Магира-ханум. Янгура шагнул навстречу ей, протянул руку. Магира Хабировна в свою очередь справилась о его здоровье.
– Вашими молитвами, – пошутил Янгура. – А вы всё молодеете, Магира-ханум. От встречи к встрече хорошеете.
Магира Хабировна слегка зарделась. В молодости Янгура ухаживал за ней, даже писал ей письма. Чёрные и густые, как грозовая туча, волосы Магиры не давали ему покоя. Даже после того, как девушка вышла замуж, Янгура не скоро забыл её. Теперь всё это в далёком прошлом. А всё же как-то волнует…
– Дайте историю Асии, Магира-ханум, – обратился профессор.
Отогнав нахлынувшие воспоминания, Магира-ханум медленно открыла папку, передала профессору жёлтые листы.
Абузар Гиреевич рассказал о характере и настроениях больной, сообщил диагноз. Янгура слушал внимательно, глядя прямо в лицо профессору и кивая время от времени головой, как бы говоря: «Ясно», «Понимаю», – в глазах у него зажглись искорки.
– Довольно любопытный случай, – заметил он. – Какая степень, по вашему предположению?
– Вторая, ближе к третьей.
– А что показывают анализы?
– Пока идёт активный процесс… Магира-ханум, позовите, пожалуйста, Асию.
Девушка вошла в кабинет и, увидев незнакомого представительного мужчину, сразу спряталась за спину Магиры-ханум.
– Асия, подойдите ближе, сядьте вот здесь, – мягко сказал профессор. – Вот доцент Фазылджан Джангирович хочет поговорить с вами.
– Кто это? – переспросила девушка шёпотом у Магиры-ханум и, получив ответ, осторожно села на указанную профессором койку. – Я на операцию не согласна! – вдруг возбуждённо заговорила она. – Лучше умру сразу, чем ложиться под нож.
– Со старшими сначала здороваются, – сухо заметил Янгура, будто не услышав её слов. – Что у вас болит?
– Абузар Гиреевич знает, – непримиримо ответила Асия.
– И мне расскажите.
Помолчав, Асия неохотно начала рассказывать. Потом Янгура велел ей пройти за ширму, снять халат. Асия начала кусать губы, хотела было уйти, но профессор задержал её, успокоил. Опустив голову, Асия пошла за ширму. Лицо её пылало, глаза были полны слёз.
Всё же осмотр прошёл без осложнений.
– Ну вот, не съел же я вас, – укоризненно сказал Янгура. – Идите в свою палату.
Асия, не глядя ни на кого, вышла.
Янгура вымыл руки и, вытирая по отдельности каждый палец, с лёгкой усмешкой проговорил:
– Эта девушка, должно быть, в глухом лесу росла? Я думал, что она откусит мне руку… Всё-таки жаль её… Самое позднее – двадцати пяти лет она умрёт от кислородного голодания. Тяжелейшая форма порока. Её может спасти только самая радикальная мера – операция.
И профессор, и Магира-ханум выслушали это заключение понурясь, словно на плечи им лёг тяжёлый груз. Стряхнув задумчивость, Абузар Гиреевич спросил:
– Это ваше последнее заключение, Фазылджан?
– Да, Абузар Гиреевич, последнее и единственное.
Профессор снова погрузился в раздумье. Янгура аккуратно повесил полотенце, сел на стул.
– Фазылджан, – осторожно начал профессор, – вы обратили внимание – ведь общее состояние девушки не очень плохое. И состав крови тоже. Вот посмотрите. Результаты ангиокардиографии и электрокардиографии удовлетворительны, – профессор поднёс ленту к свету, начал показывать мелкие зубцы.
– И всё же аномалия налицо, Абузар Гиреевич, – стоял на своём Янгура. – Зондировали?
– Да. Вот рентгеновский снимок движения зонда, – профессор включил негатоскоп.
Янгура внимательно вгляделся в снимок, принялся ходить по кабинету.
– Данные не так уж плохи, – продолжал развивать свою мысль профессор. – Конечно, нельзя сказать, что мы изучили все тайны её сердца.
– В том-то и дело, – подхватил Янгура. – Это изучение – дело будущего. А девушка нуждается в помощи сегодня. Она и так запустила болезнь. Оперировать надо было ещё в раннем детстве. В своём печальном прогнозе я могу ошибиться лишь в сроке. Допустим, она протянет до тридцати-тридцати пяти. Но на какие страдания будет обречена! А роковой исход неизбежен… Вы уж, пожалуйста, извините меня, Абузар Гиреевич, но, по-моему, большинство терапевтов, несмотря на то, что изменились времена, изменилась техника хирургии, всё ещё думают по старинке, как Бильрот, – к сердцу, мол, нельзя и близко подходить с ножом.
Профессор рассмеялся.
– Как же это получается, Фазылджан? До сих пор история медицины считала Бильрота выдающимся, смелым хирургом. Считается, что Рен первый дерзнул зашить рану на сердце. Но ведь не так уж велика дистанция между тем и другим.
Янгура молча улыбнулся в ответ.
– Вы согласились бы сделать операцию Асие? – спросил профессор, переводя разговор от истории к действительности.
– Если пациентка согласится, я не против, – смело ответил Янгура.






