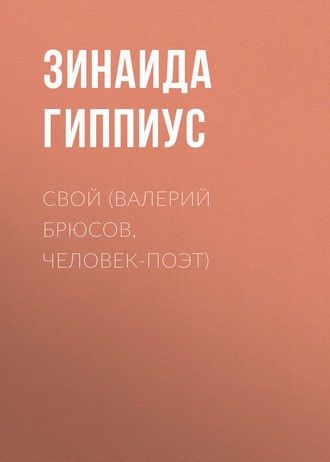
Зинаида Гиппиус
Свой (Валерий Брюсов, человек-поэт)
Мне приходилось слышать, что Брюсова упрекают в неподвижности. Как поэт, он, конечно, развивается, этого не отрицает никто, и все-таки зовут его неподвижным.
…Вес моря, все пристани
Люблю, Люблю равно…
Не значит ли это, говорят, что Брюсов ничего не любит? ничему не изменяя, ничему не бывает вереи? не ошибается, не падает, потому что никуда не двигается, никуда не идет?
О, да, значит. Но какое у нас право, да и какой смысл требовать от дерева магнолии вишен, от горькой волны океана – прозрачности и быстроты горного потока? Движение – это мелодия и ритм, это время; для гармонии не нужно время, а потому не нужно и движение.
У Брюсова есть такая строка:
Я был, я есмь – мне вечности не надо…
В этой строке глубочайшее прикосновение к вечности. «Не надо», потому что «я был, я есмь» уже в вечности, потому что она уже была и есть тогда, когда «я был, я еемь». Пусть это неподвижность; пусть запертый, – но полный круг; велик ли, мал ли круг, что это меняет? Круг остается кругом; круг – совершенство в себе, – символ вечности.
III
На Брюсова-человека, так же, как на Брюсова-поэта, с величайшей легкостью надеваются всякие маски. Кто каким Брюсова хотел, таким его и имел. Роковой гений, загадочный волшебник, трагический художник, эгоистический позер, холодный и хитрый литературный честолюбец, таинственный герой, маг, спирит, Дон-Жуан, Наполеон, анархист, черносотенник, космополит, скептик, сплетник, ницшеанец, солипсист, кружковист, брезгливый москвич, скрытный, острый и рассудочный, – как только его не определяли, кем для себя не делали! И Брюсов со всеми был действительно тем, кем его желали видеть. Не то чтобы он сознательно играл роль, нет, но все эти личины, равно, были ему так чужды, что он, не замечая, носил их с одинаковой легкостью. Каждый подходил к Брюсову со своим требованием, а так как всякое требование, предъявленное к Брюсову, совершенно бесполезно и безнадежно, то он, по-видимости, исполнял их все, – не исполняя ни одного. Оставался собой, оставался своим, то есть простым в себе, добрым и ясным человеком, чуждым всем до такой степени, что за этой чуждостью легко было просмотреть простоту его человечности и его поэзию.
Однако, если все это так, – какое, в конце концов, нам дело до Брюсова и до его поэзии? Если это исключительный феномен, чудо и в своем роде совершенство, то единственное возможное к нему отношение – пройти мимо, не оглядываясь. Известно, что чудес нужных на свете нет; а если и бывают ненужные, то на что они нужны? Что с ними делать?







