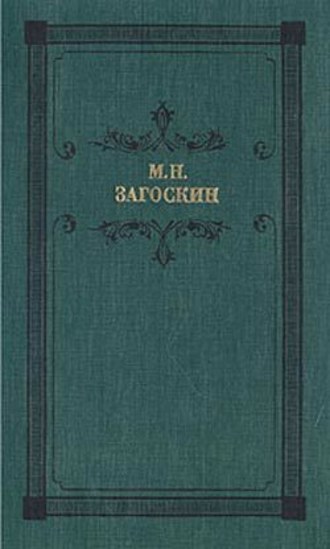
Михаил Загоскин
Искуситель
– Эх, перестань, барон, – прервал я, – твои шутки несносны. Да знаешь ли ты, холодная душа, как я люблю мою невесту? Знаешь ли ты, что эта любовь – жизнь моя? От одной мысли, что Машенька может принадлежать другому, кровь леденеет в моих жилах! Нет, нет! Называй меня жестоким, неблагодарным, бездушным, чем хочешь, а я не покину моей невесты. Пусть Надина требует от меня возможного: я готов умереть, чтоб спасти ее, но остаться жить без Машеньки, отказаться навсегда от этого ангела… Нет, нет! Это невозможно!
– Послушай, Александр, – сказал барон, – ты мне жалок и смешон. Да разве ты не видишь, что для тебя нет средины? Исполнишь ли ты долг честного человека или оставишь бедную Надину на произвол судьбы, во всяком случае тебе должно навсегда отказаться от твоей невесты. Неужели ты думаешь, что тебе можно будет жениться на Машеньке, когда Днепровский подаст просьбу о разводе, когда этот постыдный процесс сделается известным всей России, когда твой опекун и твоя невеста прочтут решение суда, в котором, со всей беспощадной подробностью судейского приговора, будет сказано, что, по просьбе мужа, статская советница Надежда Днепровская, за непозволительную и законопреступную связь с таким-то…
– Перестань, бога ради, перестань! – вскричал я с ужасом. – И это будет напечатано?
– Разумеется.
– И мой опекун прочтет это?.. О, ты говоришь правду, барон! Все для меня кончено! Машенька, Машенька!
Я упал почти без чувств на канапе, грудь моя разрывалась от рыданий, слезы текли рекою. Мне все представилось в эту ужасную минуту: презренье старика, которого я привык любить как отца родного, горесть жены его, моей второй матери, а Машенька, подруга моего детства, моя первая любовь, невеста, сестра моя!.. Боже мой, боже мой!..
Барон вынул свои часы и, смотря на них с насмешливой улыбкою, не говорил ни слова.
– Ну! – сказал он наконец. – Вот ровно четверть часа, как ты каешься в своих тяжких прегрешениях. Да полно, уймись, Александр! И женщины за один прием не плачут долее этого. Бедная Надина! Если б она знала, на кого полагает всю свою надежду! Хорош покровитель! Да неужели ты хочешь, чтоб я поехал сказать Днепровской, что ее прелестный идеал, вместо того чтоб лететь к ней на помощь, валяется на канапе и ревет как школьник, которого сбираются высечь? Стыдись, Александр! Ну, какой ты мужчина? Я не верю, чтоб ты не мог стать выше этой смешной детской привязанности к какой-то деревенской барышне, но если в самом деле ты до такой степени малодушен, так будь, по крайней мере, мужчиною: раздроби себе череп, а не плачь как женщина или пятилетний ребенок.
– Да, ты прав, мой друг! – вскричал я с отчаянием. – Я должен быть мужчиною, я спасу Надину, а там – а там я знаю, что делать!
– Насилу-то мы решились, – сказал барон, – а я уж думал, что этому и конца не будет. Ну, если бы я был на твоем месте, если б это прелестное создание… Да что тут говорить!
– Но почему ты думаешь, – прервал я, – что Надина решится бежать со мною за границу?
– Потому что ей не осталось ничего другого делать, потому что она гораздо решительнее тебя и наконец потому, что с тобой она готова на край света. Но мы так далеко не поедем.
– Все это одни предположения.
– Потрудись прочесть эту записку, и ты увидишь, что за Надиной дело не станет.
Барон подал мне клочок бумаги, на котором было написано несколько строк карандашом. Я узнал руку Днепровской, но с трудом мог разобрать следующие слова:
«Мы погибли, Александр!.. Муж мой все знает… Я не скажу, что ты остался у меня один в целом мире – нет! У нас есть истинный, бесценный друг. Следуй во всем его советам: он один может спасти нас!.. О, Александр! Сердце мое перестает биться, когда я думаю… но нет, нет! Ты не покинешь своей Надины».
– Ну! – сказал барон шутя. – Кажется, на основании этого верющего письма я имею полное право отвечать за Надину?
Я должен был еще раз прочесть эту записку, чтоб понять ее. Голова моя кружилась, в ней не было ни одной ясной мысли. Эта внезапная перемена моего положения, побег за границу, вечная разлука с Машенькою – все это походило на какой-то тяжкий, зловещий сон.
– Но когда же мы должны бежать? – спросил я наконец робким голосом барона.
– Чем скорей, тем лучше.
– Да неужели сегодня?
– И почему нет?
Сегодня!.. Меня обдало с головы до ног морозом. Представьте себе человека, который надеялся прожить еще несколько дней и которому скажут, что он должен умереть через минуту.
– Сегодня! – вскричал я. – Да разве это возможно?
– А почему же нет? – повторил барон.
– Я совсем без денег.
– Сколько тебе надобно?
– По крайней мере, десять тысяч.
– Я привезу тебе двадцать.
– Но мне нужна подорожная.
– На что? Плати везде двойные прогоны, и тебя повезут в лучше всякого курьера.
– Но разве я могу отправиться в чужие края, не имея заграничного паспорта? Меня могут везде остановить.
– Да, это правда, паспорт тебе необходим.
– Ну вот видишь! А можно ли его получить прежде двух недель?
– Нет, не можно.
Я вздохнул свободно.
– А меж тем Днепровский подаст просьбу, – продолжал барон, – тебя потребуют к суду, и тогда, разумеется, полиция не выпустит тебя из города. Впрочем, не только через две недели, это может случиться завтра, и потому-то именно вам должно сегодня же отправиться за границу.
– Как сегодня?
– Да, мой друг! Вот изволишь видеть: князь Двинский хотел ехать во Францию, я взял для него паспорт, но, кажется, он раздумал, он сбирается в дальнюю дорогу, да только не туда… Постой!..
В эту минуту на моих стенных часах пробило пять часов, барон как будто бы к чему-то прислушивался, вдруг глаза его засверкали, какая-то неистовая радость разлилась по всему лицу, он захохотал… Боже мой!.. Я вскрикнул от ужаса, я до сих пор не могу вспомнить без замирания сердца об этом отвратительном хохоте, в котором не было у ничего человеческого.
– Как можно так страшно смеяться! – сказал я. – Да и у чему ты смеешься?
– Отправился! – прошептал барон. – Счастливый путь!
– О ком ты говоришь?
– О моем приятеле Двинском. Он сказал мне, что если в пять часов я не буду у него, так непременно уедет.
– Что ж тут смешного?
– Долго рассказывать.
– Да куда он поехал?
– Я знаю куда, только не скажу, это наша тайна. Теперь ему заграничный паспорт не нужен. Вот он, возьми, Александр. Ты можешь с ним доехать до самого Парижа.
– Как, барон? Под чужим именем?
– А разве лучше, если б паспорт был на твое имя? Я думаю, нетрудно будет догадаться, что Днепровская убежала с тобою, тебя могут догнать, остановить на своей границе, а теперь кому придет в голову гнаться за князем Двинским. Я через неделю отправлюсь за вами, вы можете подождать меня в Варшаве. Вот адрес гостиницы, в которой советую вам остановиться, хозяин ее француз, прелюбезный и преумный человек. Прошлого года он щеголял в красном колпаке, а теперь надел опять пудреный парик и называет себя эмигрантом. Вели меж тем приготовить твою коляску, а я заеду к Днепровской, потом найму лошадей, в десять часов они непременно будут у тебя на дворе. Прощай!
Есть пословица, что утопающий хватается за соломинку…
– Постой, барон! – закричал я. – Мы одно совершенно забыли: ведь я в службе.
– Так что ж?
– Мне должно иметь отпуск.
– Ты с ума сошел, Александр! – прервал барон. – Ты решился увезти чужую жену, а не хочешь ехать без отпуска!.. А впрочем, что ты думаешь? В самом деле! Тебя хватятся, это наделает шуму… Садись и пиши просьбу. Когда будут думать, что ты поехал в деревню к своей невесте, так это всех собьет с толку.
– Но помилуй, барон! Теперь уж поздно.
– Это не твое дело, садись и пиши!.. Да полно же, решайся на что-нибудь! – продолжал барон, замечая, что я не слишком тороплюсь исполнить его приказание.
– О, мой друг! Я не могу подумать о Машеньке! Она всю жизнь будет несчастлива.
– Положим, что так, да разве тебе будет легче, когда ты сделаешь несчастье не одной, а двух женщин разом? Уж я, кажется, доказал тебе, что Машенька не может быть твоей женою, что же ты хочешь?
– Ах, я и сам не знаю! Я потерял весь рассудок. Бедная голова моя!
– И, полно! – прервал барон с улыбкою. – Оставь свою голову в покое: она тут ни при чем. Садись и пиши!
Я машинально повиновался. Барон взял мою просьбу, призвал Егора, велел ему укладываться и уехал.
– Да разве мы, сударь, едем, – спросил Егор, глядя на меня с удивлением.
– Да!
– В деревню?
– Нет.
– Куда же, Александр Михайлович?
– Пошел вон и делай, что тебе приказано!
Егор покачал головою и вышел вон.
Не могу описать, что я чувствовал в продолжение целого вечера. Я не мог присесть ни на минуту, нигде не находил места, мне было душно: потолок давил меня, кровь то кипела, то застывала в моих жилах. Иногда казалось мне, что я в горячке, что все это один только бред, и в самом деле, мне променять Машеньку на женщину прелестную, это правда, но к которой я чувствовал одно только сожаление! Бежать с этой женщиной за границу, быть может, отказаться навсегда от моего отечества – и все это сегодня!.. Пробило десять часов, ворота заскрипели, и на дворе раздался звон колокольчика.
– Лошадей привели, – сказал Егор, войдя в комнату. – Прикажете закладывать коляску?
– Да, закладывать!.. Скорей, скорей!..
Итак, через час все будет кончено!.. Через час!.. Но что думать о том, что неизбежно? Я махнул рукой и сделал то, что делает робкий путешественник, когда проводник тащит его за собою по дощечке, перекинутой через глубокую пропасть: я зажмурил глаза и решился предаться совершенно в волю барона.
Он приехал ко мне ровно в одиннадцать часов.
– Вот твой отпуск, – сказал барон, подавая мне бумагу, подписанную моим начальником. – Ну, видишь, Александр, я все уладил, через полчаса мы отправимся. Ты знаешь переулок позади дома Алексея Семеновича, по обеим сторонам заборы? Тут и днем почти никто не ходит. В этот переулок есть калитка из сада Днепровских, мы остановимся от нее шагах в десяти, Надина к нам выйдет, и я уверен, что прежде, чем ее хватятся, вы будете уже на первой станции. Ах, мой друг! – продолжал барон. – Как ты счастлив! Ты не можешь себе представить, как любит тебя эта женщина! Это не любовь, а какое-то безумие, сумасшествие. Когда она о тебе говорит, то я желал бы срисовать ее: это просто олицетворенная страсть, она мыслит, живет, дышит тобою. Если бы меня так любила женщина самая обыкновенная, то, клянусь честию, я сошел бы от нее с ума, а твоя Надина… Да знаешь ли, что я в жизнь мою не видывал ничего прелестнее. Это какое-то чудное собрание всего, чем пленяют нас женщины целого мира: умна, ловка и любезна, как француженка, прекрасна, как англичанка, стройна, как юная дева Андалузии, и точно так же беспредельно любит. Нет, мой друг, воля твоя, а ты не стоишь этой женщины.
– О, конечно, она очаровательна, прелестна! – сказал я увлекаясь словами барона. – Но мои прежние обязанности…
– Долой эти кандалы, Александр! Что за обязанности! Я знаю только одну обязанность: стараться быть счастливым и, если можно, наслаждаться жизнью до последней минуты. Все остальное пустяки, мой друг! Поживи несколько времени в Париже, и ты поймешь меня. Здесь в России вы не имеете никакого понятия о том, что мы называем наслаждением: это несносное однообразие, эта безжизненность преследует вас повсюду; вам скучно в Петербурге, скучно в Москве, скучно в деревне; вы женитесь для того, чтоб, умирая со скуки, вам можно было сказать: «На людях и смерть красна». Так чему же дивиться, если вы так уважаете все эти обязанности? Исполняя их, вы только разнообразите вашу скуку. Погоди, Александр, ты скоро узнаешь, что такое жизнь, когда мы живем, а не прозябаем. У Надины тысяч на двести бриллиантов, твое имение стоит вдвое: следовательно, у вас будет почти тридцать тысяч в год доходу… Тридцать тысяч! Да с этим в Италии вы будете жить в мраморных палатах, а мы начнем с Италии – не правда ли?
– Для меня все равно, Италия, Швейцария, Франция…
– О, нет, Александр! Если ты прямо из Москвы попадешь в Париж, то, быть может, он тебе не понравится, – этот быстрый переход от мертвого сна к кипучей жизни, нет, нет! тебя надобно будить понемногу, а то ты испугаешься. Мы проживем сначала недели три в Вене, а там отправимся в Венецию. Она еще прекрасна, эта падшая царица Адриатического моря: ее патриции ходят, повесив головы, но веселые гондольеры все еще поют свою biondina in gondoletta[168], и черные глаза венецианских женщин, так же как и прежде, горят любовью и сладострастием. В Риме мы пробудем только несколько дней. Там скучно, мой друг! Это развалины великолепного здания, в котором некогда живали владыки мира и давались дивные пиры, а теперь живут нищие, воет ветер и все заглохло травою. В Неаполе проведем мы осень и всю зиму. Там, под этим прозрачным небом, на этой огненной земле, ты познакомишься с благословенным югом. О, мой друг! Сколько новых для тебя наслаждений! Вообрази, Александр! В то время, как здесь, в Москве, трещат стены от мороза, ты будешь искать прохлады в какой-нибудь померанцевой роще или нежиться под тенью миртовых деревьев. Мы наймем роскошную виллу у подошвы Везувия. Представь себе, вдали перед нами огромный голубой ковер, по которому разбросаны корзины с яркой зеленью и цветами: это Неаполитанский залив с своими островами. У наших ног великолепный город, который, опускаясь амфитеатром к морю, как будто бы тонет в его голубых волнах. Представь себе, что ты без шляпы и галстука сидишь под тенью зеленого лавра, прислушиваешься к отдаленному говору бесчисленной толпы, дышишь этим благовонным воздухом, о котором ваши оранжереи не могут дать никакого понятия, что подле тебя, рука с рукою, сидит твоя Надина, что ее прелестные черные кудри тихо взвевает теплый осенний ветерок, и все это, мой друг, в январе месяце, все это в то время, как у вас в России дыханье замерзает в воздухе.
– Да, это земной рай, – вскричал я невольно.
Барон нахмурился.
– Что за рай! – сказал он. – Это просто земля, в которой живут люди, а не белые медведи. Но вот конец и вашей русской зиме! – продолжал барон. – Апрель месяц. Мы скачем в Париж – в Париж, это средоточие всех земных наслаждений, эту столицу наук, ума и просвещения. Париж описывать нельзя: его надобно видеть. Может быть, тебе сначала не очень понравится нечистота, грязь и вонь парижских улиц, но ты скоро к этому привыкнешь, ты даже полюбишь эту парижскую грязь, точно так же, как мы любим какой-нибудь физический недостаток в женщине, которую боготворим. Я завидую тебе, Александр! Ты еще подносишь только к устам своим эту чашу, которую я давно осушил до дна. Сколько новых ощущений, какой разнообразный мир забав, радостей, удовольствий ожидают тебя в этом роскошном, обольстительном Париже! Представь себе…
Вдруг барон замолчал, он поглядел робко вокруг себя и, схватив меня за руку, проговорил торопливо:
– Едем, мой друг! Едем! Пора!
– Егор! – закричал я. – Шляпу и шинель! Мы едем.
– Извозчики перепрягают коренных лошадей, сударь! – сказал Егор, высунув к нам свою голову.
– Пошел, торопи!
– Скорей, скорей! – повторял барон, бегая по комнате.
– Что ты вдруг так заторопился? – спросил я с удивлением. – Посмотри, еще нет одиннадцати часов.
– Все равно! – вскричал барон, таща меня за руку. – Пойдем пешком, коляска нас догонит.
– Погоди, дай хоть шинель надеть. Да что с тобой сделалось?
В самом деле, с бароном происходило что-то чудное: глаза его помутились, посиневшие губы дрожали, и он в ужасной тоске метался из стороны в сторону, повторяя каким-то странным голосом:
– Чу!.. Слышишь?.. Он идет.
– Да кто? О ком ты говоришь? – спросил я с нетерпением.
– Дома, сударь! – раздался в передней голос моего слуги.
Барон бросился к дверям, хотел их притворить, но вдруг отскочил и прижался к стене в самом темном углу комнаты.
– Пожалуйте сюда! – сказал Егор.
Двери растворились и к нам вошел Яков Сергеевич Луцкий.
VI. РАЗВЯЗКА
– Не грех ли тебе, Александр Михайлович? – сказал Луцкий, протягивая ко мне руку. – Совсем было уехал, не простясь со мною! У тебя уж и лошади готовы?
– Да, Яков Сергеевич, я сейчас еду.
– В деревню, к своей невесте, об этом и спрашивать нечего. Кажется, сегодня минет ровно три года… Но мне сказали, что ты не один, – продолжал Луцкий, осматриваясь кругом.
– Позвольте мне рекомендовать вам, – сказал я, указывая на барона, – это приятель мой, барон Брокен.
– Твой приятель! – повторил Луцкий, устремив испытующий взгляд на барона, который как прикованный стоял неподвижно в своем темном углу.
– Извините, Яков Сергеевич, – продолжал я, – нам некогда: мы едем.
– Ты поедешь, Александр Михайлович, – сказал твердым голосом Луцкий, – но только не с ним.
Я посмотрел с удивлением на Якова Сергеевича, в первый раз я видел на этом кротком и спокойном лице выражение душевной неприязни, блестящий, но неподвижный взор его был устремлен на барона, который дрожал как преступник, подавленный строгим взглядом своего судьи.
– И вот тот, кто был с тобою неразлучно! – проговорил Луцкий, не спуская глаз с барона. – И с этим клеймом на челе, с этим ядом на устах он явился перед тобою, и ты назвал его своим приятелем!.. Ах, Александр Михайлович! Ты не отгадал его под этой полупрозрачной маскою!.. Так взгляни же на него теперь!..
Я окаменел от ужаса. Боже мой! Что сделалось с бароном?.. Страшно было смотреть на помертвевшее лицо его. Все, что порок имеет в себе отвратительного, все гнусные страсти, убивающие душу: гордость, злоба, ненависть, разврат, – все отражалось как в зеркале на этом безобразном, едва человеческом лице.
– В его присутствии и воздух заразителен, – продолжал Луцкий, взяв меня за руку. – Ты стоишь на краю пропасти, мой друг, но без собственной твоей воли я не могу спасти тебя, и горе тебе, если этот искуситель до того завладел тобою, что ты не желаешь с ним расстаться! Смотри, Александр Михайлович! Вот он, во всей отвратительной наготе своей, говори теперь: желаешь ли ты по-прежнему остаться его другом?
– О, нет, нет! – вскричал я с неописанным ужасом.
Лицо Луцкого просветлело радостью.
– Ты слышал свой приговор? – сказал он, обращаясь к барону. – Кто видит твое безобразие и гнушается им, тот не может тебе принадлежать.
Барон молчал. Заметно было, что он напрягал всю свою волю, чтоб победить это неизъяснимое чувство боязни, которое овладело им при появлении Луцкого, несколько раз на посиневших губах его появлялась как будто бы насмешливая улыбка, и вдруг бледное лицо его вспыхнуло, глаза налились кровью и засверкали как у тигра, он устремил их на Луцкого, но лишь только этот бешеный взор встретился с кротким и спокойным взором старика, барон заскрежетал зубами, закрыл рукою глаза и с воплем отчаяния бросился вон из комнаты. Во всем доме двери распахнулись сами собою, на дворе шарахнулись лошади, завыла цепная собака, и мимо окон дома что-то похожее на вихрь с визгом промчалось по улице.
Прошло несколько минут, прежде чем я опомнился от удивления.
– Что ж это все значит? – спросил я у Якова Сергеевича.
– Если ты не понимаешь, Александр Михайлович, – ответил Луцкий, – так мне и толковать нечего.
– Но кто дал вам такую неограниченную власть над этим человеком? И отчего барон, который вовсе не трус, до такой степени вас боится? Верно, вы знаете о нем что-нибудь ужасное?
– Да, мой друг! Я знаю, кто он, но оставим его. Я надеюсь, что при помощи божьей ты никогда уже с ним не встретишься. Теперь сядем, Александр Михайлович, мне нужно поговорить с тобой – да не беспокойся, – продолжал Луцкий, – время еще не ушло: тебя никто не дожидается, и ты едешь не за границу.
– За границу! – повторил я с удивлением. – Да кто вам сказал…
– Я знаю все, – прервал Луцкий.
– Все? Но каким образом…
– Я расскажу тебе. Сегодня Днепровский приехал ко мне часу в двенадцатом утра, я испугался, когда взглянул на этого несчастного мужа, убитого горестию. Не говоря ни слова, он подал мне твои письма. Ах, Александр Михайлович! Я не хотел верить, что они писаны тобою, но, к сожалению, должен был наконец убедиться в этой горькой истине. «Боже мой, – думал я, – к чему же служат нам доброе сердце, хорошие правила и то, что в свете называют честию? Да разве тот не злодей, кто решится уморить с горя свою невесту, обесчестить приятеля, заплатить ему величайшим злом и погубить навсегда легкомысленную женщину, которую он даже не любит?..» Да, Александр Михайлович! Любовь тут дело вовсе постороннее, одно мелкое самолюбие, минутная прихоть… И вот как от ничтожной искры бывают часто гибельные пожары. Правда, раздуть эту искру и подложить огоньку было кому: я видел твоего наставника.
– Думайте что угодно обо мне, Яков Сергеевич, – прервал я, – но клянусь вам честью, Днепровская невинна!
– То есть ваша связь могла бы быть еще преступнее? О, в этом я уверен! И если б я одним часом приехал позже к Надежде Васильевне…
– А вы у нее были?
– Да, я приезжал к ней от мужа, и в каком положении нашел я эту бедную женщину! Она решилась бежать с тобою за границу, но я убежден теперь в душе моей, что Днепровская не пережила бы своего стыда… да, Александр Михайлович, ты был бы убийцею этой женщины!
– Но что оставалось мне делать, Яков Сергеевич? – вскричал я. – Чтоб спасти ее, я готов был на все решиться.
– Спасти?..
– Да разве вы не знаете, что Днепровский будет требовать развода, представит в суде мои письма…
– Твои письма? Вот они, Александр Михайлович!
– Возможно ли! Так он не хочет обесславить и запереть в монастыре свою жену?
– Обесславить!.. Так и тебе то же говорил этот… прости, господи!.. чуть-чуть не назвал его человеком, этот барон? И ты ему поверил, Александр Михайлович?.. Да знаешь ли, что Днепровский умер бы с радостию, если б мог думать, что составит этим счастье своей Надежды Васильевны? Знаешь ли, что его письмо, которое я отдал Днепровской, до того ее растрогало, что она поклялась забыть тебя и прилепиться всей душой к этому доброму и благородному человеку? Он отдавал ей все свое именье и не ее хотел запереть в монастырь, а сам решился покинуть свет, чтоб сделать ее свободною, и это были не одни фразы – нет, мой друг! Он точно бы это сделал, потому что истинно ее любит, потому что для него видеть Надину счастливой все то же, что быть счастливу самому. Что если б эта бедная женщина не поняла, какое неоцененное сокровище такая чистая, бескорыстная любовь, если б она променяла ее на эту безумную неистовую страсть, в которой все противно богу и нашей совести, – о, мой друг! Как жестоко вы были бы наказаны оба! Но, к счастью, искуситель был далеко, и господь бог дал силу убеждения простым словам моим. Днепровская очнулась, она увидела эту бездонную пропасть, прикрытую цветами, и, чтоб спасти себя, бросилась в объятия к своему мужу. Теперь ты знаешь все. Лошади готовы – ступай с богом! Тебя ждет твоя невеста, меня также кое-кто поджидает. Да, Александр Михайлович! И мне придется скоро ехать в дальний путь…
– Что вы хотите сказать? – прервал я.
– Эх, мой друг! – продолжал Луцкий. – Плох становлюсь, дряхлею!.. Да господь бог милостив: не встретимся здесь, так авось свидимся в другом месте. Прощай, Александр Михайлович! Как женишься, так не забудь написать ко мне: я порадуюсь твоему счастью, помолюсь за вас богу и, может быть, пришлю к вам свадебный подарок.
Луцкий обнял меня. Я сел в коляску и закричал ямщику:
– Пошел в Владимирскую заставу.
– Как, сударь? – сказал Егор. – Да куда же мы едем?
– В Тужиловку.
– В Тужиловку? – повторил Егор, перекрестясь. – Слава тебе господи! Ну, брат, смотри! – продолжал он, обращаясь к ямщику. – Чур, не дремать! Барин добрый – прокати, так на водку будет.
– Да нас нанимали по Смоленской дороге, сударь, – сказал ямщик, приподнимая шляпу.
– Я заплачу вдвое – ступай!
– Вдвое, – повторил ямщик, почесывая затылок. – Маленько, сударь, будет.
– Да разве станция-то больше? – прервал Егор.
– Больше не больше, а, власть ваша, за двойные не подъедем.
– Так отпрягай лошадей! – закричал Егор, слезая с козел.
– Да уж прибавьте полтинничек, сударь!
– Хорошо, ступай!
– В Рогожскую! – крикнул ямщик форейтору. – Ну! Трогай! С богом!
Мы выехали в заставу. Я все еще был в каком-то чаду. Этот быстрый переход от одного положения к другому смешал совершенно все мои понятия. Я походил на человека, который только что избавился от величайшей опасности, в первую минуту он не может дать себе отчета, как это случилось, и даже не чувствует – сгоряча, – что он был на один шажок от смерти. Мало-помалу мысли, которые без всякой связи и порядка роились в голове моей, начали получать свою последственность, стали яснее, определеннее, и вдруг все прошедшее, в целом, представилось моему воображению. Боже мой, как я испугался!.. Что, если б в самом деле Луцкий одним часом позже приехал к Надине?.. Ведь я скакал бы теперь по Смоленской дороге, под чужим именем, с женою другого и завтра же об этом
Ордынка, Поварская,
Никитская, Тверская,
Пречистенка, Арбат,
И, словом, вся Москва ударила б в набат!
Через несколько дней известие об этом побеге дошло бы до Белозерских и Машеньки, которую я люблю более моей жизни… Какой ужас!.. Вся кровь застыла в моих жилах, мне казалось, что я никогда не уеду из этой Москвы, что за мною гонятся, что меня хотят остановить, разлучить на всегда с Машенькою…
– Пошел! – закричал я как бешеный. – Пошел! – Егор обернулся и поглядел на меня с удивлением. – Пошел! – повторил я, толкая в спину ямщика.
– Что вы, сударь? – закричал Егор. – Разве не видите, какая круть? Да тут дай бог и шагом спустить благополучно – извольте-ка взглянуть!
В самом деле, мы съезжали с крутой горы, и ямщик едва мог сдерживать лошадей.
Я нигде не торговался, сыпал деньгами, следовательно, ехал очень скоро, но если б меня везли с такою же точно быстротою, с какою возят теперь по чугунным дорогам, то и тогда я стал бы жаловаться на медленность. Мне все казалось, что Москва у меня за плечами. Я считал версты, присчитывал, старался сам себя обманывать и не видел конца моему путешествию. Но вот уж мы отъехали четыреста верст – Москва далеко. Еще одни сутки, и я дома, подле моей Машеньки… Она, верно, выросла, похорошела!.. Ах, как стало мне легко!.. Как весело расстилаются передо мною эти беспредельные поля наших низовых губерний… Последние три года моей жизни как будто бы не бывали, я опять живу в деревне, я снова тот же веселый, добродушный малый, который, бывало, не пропустит воскресного дня, чтоб не побывать у обедни, и готов после целый день проказить и резвиться как дитя – летом бродить с ружьем по лесу, бегать в горелки, зимой ходить за тенетами, кататься с гор, а в метель сидеть дома, читать вслух «Всемирного путешественника» или играть по гривне в лото. Шумная столица, блестящие праздники, гулянья, минутные друзья, бальные связи, и даже Надина Днепровская, – все это какой-то смутный сон, неясный рассказ. Москва!.. Да полно, был ли я в Москве? Не сплю ли я и теперь?.. Я был знаком с каким-то демоном, насмехался, злословил, любезничал с женщинами, забывал по целым дням мою Машеньку, и даже готов был навсегда с нею расстаться… Да как же это можно? Нет, нет!.. Это точно был сон!.. И какой скверный сон!..
На четвертый день рано поутру я остановился переменить лошадей в С…ке, уездном городе нашей губернии. Мне оставалось еще ехать с небольшим сто верст. С…к – уездный город с большими претензиями, в нем есть несколько каменных домов, красивый собор, ряды, гостиница, и даже бывает годовая ярмарка, на которую съезжались в старину карточные игроки из всех окружных губерний – одним словом, в этом знаменитом уездном городе я мог найти все, кроме того, что было для меня необходимо: мне нужны были лошади, а их-то именно и не было.
– Да поищи где-нибудь! – сказал я моему слуге. – Ну, может ли быть, чтоб в целом городе не было лошадей, ни почтовых, ни вольных?
– Ни одной тройки, сударь.
– Да отчего ж?
– Оттого, что губернатор уезды объезжает: он перед нами только изволил выехать из города, а за ним все здешние так гурьбой и повалили! Сам капитан-исправник насилу отыскал три клячонки, сейчас продрал по улице. Жарит сердечных так, что и, господи!
– Да этак, пожалуй, мы прождем здесь часов шесть?
– Почтовые лошади и прежде воротятся, Александр Михайлович, да вряд ли нам дадут: к ночи ждут губернаторшу, а, говорят, она едет на двух осьмериках, да под кухнею тройка. Вот если б вернулись вольные, так может быть…
– Эх, братец, да поищи где-нибудь!
– Пытал уж искать, сударь, весь город обегал – нет как нет!
– Ты, верно, торгуешься? Заплати все, что попросят.
– Да хоть что хочешь давай! Вот разве, сударь, знаете ли что? Я сейчас видел Сидорыча, приказчика нашего соседа, Ивана Федоровича Мутовкина…
– Ну, что, здоровы ли все наши?
– Все, слава богу! Сидорыч их третьего дня видел. Он здесь на паре и, пожалуй, довезет вас до Тужиловки, а я останусь с коляскою да подожду лошадей.
– А как он думает приехать?..
– Он поедет проселком: верст сорок выкинет. Кони добрые, так авось завтра доставит вас к обеду.
– Завтра к обеду! – вскричал я с ужасом.
– Да ведь у него не переменные, сударь, все раза три придется покормить.
– Завтра к обеду! Когда я надеялся, что сегодня вечером …
– Еще хорошо, что проселком, сударь, а по столбовой-то дороге и к вечерням не поспеешь. Ведь отсюда до Тужиловки мерных сто двадцать верст.
– Нет, я лучше подожду здесь лошадей.
– Власть ваша, а смотрите, если Сидорыч не прежде нашего будет в Тужиловке.
Егор отгадал, мы выехали из С…ка ночью. Что я вытерпел в продолжение пятнадцати часов, которые должен был просидеть в гостинице, этого рассказать не можно. Не помню, в каком русском романе я читал: «Что для влюбленного жениха, который спешит увидеться с своей невестою, всякая остановка есть истинно наказание небесное. Ничто не может сравниться с этою пыткою: он нигде не найдет места, горит как на огне, ему везде душно: ему кажется, что каждая пролетевшая минута уносит с собою целый век блаженства, что он состарелся в два часа и не доживет до конца своего путешествия». Хотя я и не думал, что успею в несколько часов поседеть, но, право, сошел бы с ума, если б мне пришлось пробыть еще суток двое в этой проклятой гостинице. Когда лошадей привели, я до того обрадовался, что обнял и расцеловал трактирщика, который пришел ко мне с этим известием. Это так растрогало хозяина гостиницы, что он попросил с меня за то, что я съел кусок говядины и выпил стакан квасу, только рубль серебром. Я дал ему синенькую и побежал торопить ямщиков. Наконец мы отправились.







