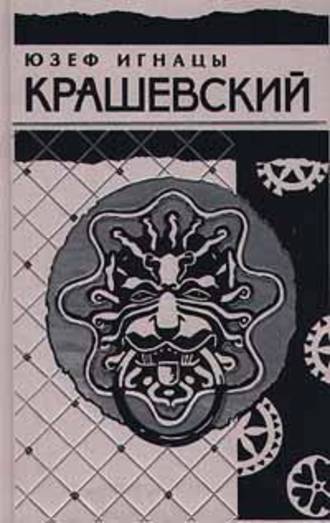
Юзеф Игнаций Крашевский
Гетманские грехи
– Я и даю тебе совет, как могу: заботься больше о душе, чем о мошне. Говоря это, он повернулся к чирикавшим воробьям.
– Вот эти негодники, – сказал он, – стоит только бросить им зерно, как они сейчас же в драку. Взгляни-ка, сударь. Это совсем как у людей! Кунасевичу вовсе не хотелось смотреть на воробьев; он только теперь начинал понимать, почему настоятель называл старца чудаком.
– Признаюсь вам, ваше преподобие, – заговорил он, потеребив себя за чуприну, – что я шел к вашему преподобию с приятной надеждой, как к духовному лицу святой жизни, что вы во имя Христа помирите нас, а вы…
– Да, ты хотел, чтобы я во имя Христа велел вам поцеловаться, чтобы тебе удобнее было укусить! Эге!
Кунасевич жалобно простонал: – Весь мир осуждает меня!
– Покажи же всему миру, что они неправильно судят, – сказал отец Елисей. – Ты пришел ко мне, считая меня добродушным простаком, погруженным в мысли о небесном, пришел за тем, чтобы с моею помощью опутать невинных. Разве так хорошо делать? Ведь мы же знаем тебя!
– Ну, это уж слишком! – выговорил подкоморий, пятясь от него.
– Нет, этого еще мало, – разгорячившись, сказал отец Елисей. – Господь Бог научил меня читать в людских сердцах: дела твои свидетельствуют о беспокойстве, которое тебя привело ко мне, и о том, что ты грешен, несправедлив в том, что делаешь, а хочешь, чтобы слуга Божий помогал тебе и загораживал собой!
Ступай в конфессионал, на исповедь, на покаяние, старый, закоренелый грешник! Бог с тобой! Я лучше останусь с воробьями.
И, указав ему на двери, отвернулся к окну.
Подкоморий смутился до такой степени, что не нашел ответа; пробормотав что-то, он хотел объясниться, потом махнул рукой, оглядел келью и, не прощаясь, вышел вон.
Очутившись за порогом, он отер со лба холодный пот, а отец Целестин весело приветствовал его.
– Ну, что же, старичок? Как он вас принял?
– Как принял? Как? – рассердился подкоморий. – Очень хорошо, нечего сказать!
И он пошел к выходу.
– Не принимай этого слишком к сердцу, – прибавил настоятель, – это чудак, но святой человек.
Кунасевич уже не слушал утешений и выбежал из монастыря до того взбешенный, что когда на постоялом дворе слуги стали спрашивать его, останется ли он ночевать или хочет ехать дальше, он не знал, что ответить, и послал всех к черту.
Спал он плохо и всю ночь обдумывал план мести. На рассвете он вскочил и приказал запрягать лошадей, чтобы как можно скорее возвращаться домой. Благодаря хорошему санному пути, он очень быстро проехал расстояние, отделявшее его от дома. По дороге он успел все обдумать и успокоиться, а когда жена, не ожидавшая его так скоро, вышла к нему навстречу, расспрашивая, что случилось, он спокойно отвечал, что с этими упрямцами ничего нельзя было поделать.
Отдохнув один день дома, подкоморий снова собрался в дорогу и пропадал целую неделю. А вернувшись, объявил жене, что завещание недействительно, потому что написано стариком под чужим влиянием и в болезненном состоянии, и потому он уж начал хлопоты о том, чтобы отменить его.
Никогда, может быть, в жизни подкоморий не обнаруживал большей энергии и не применял всех средств, необходимых для успеха дела. Прежде всего, он отправился к одному из предводителей партии, стоявшей на стороне фамилии, и предложил ему свои услуги взамен поддержки его процесса по делу о наследстве. Подкомория знали здесь и ценили его ловкость, поэтому перебежчик был встречен радушно, как ценный союзник.
Был вынесен приговор: признать завещание недействительным, а тем временем подкоморий, собрав у себя и подготовив шляхту, напал однажды ночью на Божишки и занял их, а попутно и другие фольварки.
Прежде чем Теодор успел выбраться из дома в Божишки, ему дали знать, что понадобилось бы несколько сот вооруженных людей, чтобы отобрать их у Кунасевича.
Князь-канцлер, к которому он обратился с просьбой о помощи, приказал ответить ему, что надо переждать; он хорошо знал о состоявшемся соглашении, девизом которого было: рука руку моет – но его гораздо больше интересовали депутаты и исход сеймиков, чем судьба фаворита, которому он приказал возвращаться в канцелярию.
Подкоморий имел перед Паклевскими еще то преимущество, что он мог щедро сыпать деньгами, тогда как они не имели лишнего гроша для ведения дела. Правда, юристы, с которыми они советовались, уверяли их, что в конце концов завещание будет признано, и они выиграют дело; но процесс мог затянуться на многие годы, а тем временем подкоморий сидел бы себе в Божишках и извлекал бы из имения все выгоды.
Так рассеялись великие и блестящие надежды егермейстерши, которые вернули ее к жизни, а теперь она снова погрузилась в уныние, близкое к отчаянию… Теодор, не решаясь оставить ее одну в таком состоянии, писал князю-канцлеру, извиняясь и прося продлить ему отпуск. Ему приходилось ходить к юристам, собирать документы, делать выписки из актов и расходовать последние гроши на то, чтобы получить дедовское наследство.
В таком положении находилось это несчастное дело, о котором уже говорили повсюду, когда в Борку неожиданно появился давно туда не заглядывавший доктор Клемент.
Он только случайно был в Белостоке, откуда намеревался вскоре вернуться в Варшаву.
Теодор, который ездил в поле взглянуть на озимые, как они выходят из земли, встретил его по дороге.
– А я еду к вам, – сказал Клемент, – я слышал, что вы с высоты снова упали в бездну. Я еду не для того, чтобы выразить сожаление, но с предложением помочь. От вас зависит принять его или отклонить.
Теодор вопросительно взглянул на него.
– Я уверен, что гетман охотно поможет вам вернуть захваченное у вас имение и переговорить с этим разбойником…
– Поговорите с моей матерью, – сказал Теодор, – я не решусь ничего делать без нее.
Когда они приехали в усадьбу, Клемент поздоровался со вдовой и тотчас же сказал ей, что приехал ее навестить, потому что слышал, что она чувствовала себя нездоровою.
– От моей болезни, – отвечала вдова, – меня вылечит только смерть! Оставьте меня в покое с вашими лекарствами.
– Может быть, вам помогла бы и уверенность в будущем вашего сына, не правда ли? – прибавил Клемент.
Она не ответила на это.
– Этот несчастный процесс мучает вас, – говорил француз. – А есть простой способ закончить его.
Егермейстерша бросила на него быстрый взгляд.
– Какой?
– Принять помощь гетмана! – закончил Клемент.
– Гетмана? Нам? Мне? – отвечала Беата, гордо подняв голову. – Ни за что на свете! Скорее погибну! Принять помощь от этого человека – это все равно, что получить пощечину!
Она вскочила с места и, не прощаясь с доктором, вышла из комнаты. Доктор не решился настаивать на своем предложении; он вышел на крыльцо и уехал опечаленный.
Теодор крепко пожал ему руку на прощание.
– Я был в этом уверен! – тихо сказал он.
Для Теодора настали тяжелые дни; на его неопытные плечи свалилась тяжесть, которую трудно было нести, даже обладая большим мужеством. Мать молилась, плакала, и, желая помочь ему советом, выдумывала всевозможные проекты, невыполнимые на практике, чего она не могла понять, и с нетерпением требовала осуществления их в жизни.
Надо было с одной стороны следить за процессом с непримиримым Кунасевичем, который умел пользоваться всякими случайностями, а с другой стороны позаботиться о том, чтобы не утратить своего места и расположения у князя-канцлера, и в то же время успокаивать и утешать мать.
Так как от канцлера постоянно приходили письма с требованием возвращения, а на ответные письма Теодора с просьбами о продлении отпуска там, по-видимому, не обращали никакого внимания, то егермейстерша решительно заявила сыну, что ему необходимо хоть на несколько дней съездить в Варшаву и лично сообщить канцлеру о своем положении.
Теодор, видя увеличивающуюся слабость матери, под различными предлогами откладывал свой отъезд, но, наконец, подчиняясь ее настояниям, решил ехать, чтобы вернуться в самом непродолжительном времени. Как раз в это время началась отвратительная осенняя распутица, и Теодору пришлось ехать верхом в сопровождении только одного мальчика-слуги и с небольшим багажом. Он рассчитал заранее место и время остановок и выбрал кратчайший путь.
Несмотря на плохие дороги, размытые дождями, и на горячее время, привязывавшее шляхту к своим домам, на проезжей дороге было большое оживление. Уже по внешнему виду страны видно было, что она переживает период напряжения всех сил и борьбы. Некоторые шляхтичи ехали в столицу, другие – на сеймиковые предвыборные собрания в города своих округов. С одной стороны собирались сторонники гетмана и Радзивилла, с другой –приверженцы фамилии. Нередко на проезжей дороге или на постоялых дворах встречались представители двух неприятельских лагерей, часто находившиеся в родстве между собой, но расходившиеся в своих политических воззрениях, начинались горячие споры, и дело доходило иногда до сабель…
Теодор всячески старался избегать этих шумных собраний, чтобы не быть втянутым в спор. С первого же взгляда ему стало очевидно, что сила была на стороне фамилии, а друзья гетмана были не уверены в себе и держались недружно.
Приехав в Варшаву, он тотчас же явился во дворец к канцлеру, которому дали знать о возвращении беглеца. Князь думал, что он вернулся окончательно, приказал позвать его к себе и прежде всего начал с выговоров.
– Что же вы там, сударь, застряли? Хорошо amanuensis, нечего сказать! Поехал на две недели, а сидит два месяца! Двум богам служить нельзя; а такой службы не понимаю… И не допускаю.
– Ваше сиятельство, – отвечал Теодор, – со мной случилось то, чего я не мог предвидеть. Мать моя опасно больна, а я не могу ее оставить. Дед мой умер недавно, и хотя он оставил самое легальное завещание, мое имение взяли захватом.
– Кто? Где? – воскликнул канцлер.
– Я уже писал об этом вашему сиятельству: подкоморий Кунасевич, –сказал Теодор.
– А! Этот мне нужен! – прервал его канцлер. – И я не могу пожертвовать общественным интересом для вашего частного дела.
– Но мне нанесли обиду, которая требует отмщения. Произошло превышение власти…
– Но ведь все это только временное, – сказал канцлер, – в свое время справедливость возьмет верх, а пока вы должны потерпеть. Наследство в руках подкомория…
– Но моя мать! Моя мать, – с тоской выговорил Теодор.
– Да будьте же благоразумны! – крикнул канцлер, – нельзя же достигнуть всего сразу…
Паклевский по старому патриархальному обычаю склонился до самых колен князя канцлера.
– Сжальтесь же, ваше сиятельство, не надо мной, а над моей бедной, больной матерью.
Князь вскочил с места и крикнул с раздражением:
– А я прошу вас, сударь, запастись разумом и терпением! Придет время, разберем и твое дело.
– А я между тем терплю убытки и потери, которых никто не в состоянии мне возместить, – вскричал Теодор.
Канцлер вздернул плечами.
– Оставь меня в покое. Теперь не время думать об этом… Иди в канцелярию и займись просмотром корреспонденции.
Паклевский не двигался с места.
– Я приехал только с поклоном к вашему сиятельству и с просьбой продолжить мой отпуск; моя мать больна.
Услышав это, князь с раздражением бросил на стол бумаги, которые он держал в руках, отвернулся и крикнул повелительно и гневно:
– Даю тебе, сударь, не только отпуск, но и полную отставку. Прошу оставить меня.
Теодор, пораженный таким результатом разговора, означавшим утрату княжеской милости, с минуту стоял, как окаменелый: канцлер сердито и нетерпеливо перелистывал бумаги, из которых несколько упало на пол; Паклевский инстинктивно нагнулся, поднял их и положил на стол. Князь повернул к нему свое лицо, пылавшее гневом.
– Жаль мне вас, сударь, – порывисто воскликнул он, – но двум богам нельзя служить. Это невозможно!
– Ваше сиятельство, – отвечал Паклевский, которому придала смелость безвыходность его положения, – как бы я ни был предан вашему сиятельству, но не могу принести в жертву службе мою мать. Пусть Бог будет мне судьей. Князю взглянул на него и смягчился.
– Ну, так поезжай к матери, – сказал он, – а когда она поправиться, чего я ей желаю и на что надеюсь, возвращайся, не теряя времени, сюда ко мне. Мать имеет более прав, чем я. Возьми из кассы пятьдесят дукатов, –прибавил он, – и не трать времени понапрасну.
Теодор, поцеловав князю руку, хотел уже уходить, но тот бросил ему на стол пачку писем и сказал:
– Хоть эти отправь мне сегодня, а потом поезжай к матери.
Таким образом, несмотря на всем известную суровость князя, Теодору удалось счастливо избегнуть его немилости. Весь остаток дня и часть ночи Паклевский посвятил на писание ответных писем, которые он снес князю и получил полное одобрение; а на другой день утром он уже ехал домой… Теодор проехал через всю многолюдную и шумную столицу, в которой не осталось ни одного свободного уголка, не замечая никого и ничего. Правда, ему очень хотелось узнать что-нибудь о старостине или генеральше и увидеть Лелю; но нельзя было медлить, надо было скорее ехать в Борок.
В течение этих немногих дней егермейстерша, предоставленная сама себе и своим тревожным мыслям, от слез и огорчения расхворалась еще больше, и когда сын вернулся, она лежала в постели с кашлем и лихорадкой. Его приезд заставил ее подняться, но под вечер она снова слегла.
Не будучи уверен в том, уехал ли доктор Клемент в Варшаву или остался еще в Белостоке, Теодор на другой же день поехал верхом в Хорощу узнать о нем и был очень обрадован, узнав, что он только что приехал недели на две. Он послал к нему еврейчика с просьбой навестить его больную мать.
Клемент приехал в тот же день, но в качестве гостя, приехавшего просто повидать своих друзей. Егермейстерша лежала в постели.
– А что же это вы, сударыня, хвораете? – с напускной веселостью заговорил француз, присаживаясь на кровать. – Что это с вами? Весенний катар?
Он выслушал ее, прописал тепло и отдых, а главное – хорошее настроение и, по возможности, удаление от всего, что тревожит. Лекарство, которое все доктора, словно в насмешку, прописывают пациентам.
Когда они вышли потом вместе с Паклевским на крыльцо, доктор нахмурился и на вопрос сына отвечал озабоченно:
– Опасности нет, нет даже болезни, но мало жизни, силы исчерпаны, а я тут ничего поделать не могу, разве Бог поможет… Это может тянуться долго, но облегчить положение трудно. Надо стараться оберегать ее от излишних волнений.
После этого доктор заговорил о делах гетмана и в первый раз признался, что желал бы для него примирения с фамилией, потому что нельзя рассчитывать на какой-либо успех.
– Но у вас есть для этой цели самый лучший в свете посредник в особе пани гетманши, – сказал Теодор. – Кому же, как не ей, удобнее всего поговорить с дядями, с двоюродными сестрами и даже со стольником?
– Да, это правда, – сказал доктор, – но я все же хотел бы, чтобы примирение это совершилось при мужском посредничестве. Женщины ничего не умеют делать наполовину, а тут уж в силу необходимости обе стороны должны будут пойти на половинные уступки.
– Я не могу судить об этом, – отвечал Паклевский, – но, насколько я могу заключить по известным мне фактам, фамилия не удовлетворится половинными уступками. Возможность соглашения уже запоздала, и теперь фамилия потребует от гетмана безусловного присоединения к партии…
Доктор взглянул на него.
– Неужели же наши дела так уж плохи? – спросил он.
– Я ничего не знаю; это мое личное и, может быть, неправильное суждение, – закончил Теодор. – Насколько я мог заключить, зная характер канцлера, который стоит во главе партии, от него нельзя ждать ни малейшей уступки.
– А русский воевода? – подхватил доктор.
– И воевода так же, как и вся семья, добровольно подчинился руководству канцлера: поэтому он сам от себя не начнет никаких действий. Клемент печально опустил голову.
Прекраснейшая весна протекала самым печальным образом для Паклевского: он сидел над актами процесса, или, посидев около матери, целые часы проводил на крыльце, смотря на лес или слушая воркование голубей.
Не с кем было перекинуться словом. Короткие визиты к отцу Елисею не приносили облегченья; старец за всеми преходящими радостями жизни видел всегда черную бездну печального конца всех вещей.
Среди этой пустоты жизни Теодор думал иногда о Леле, но воспоминание о ней приходило и уходило, как свет молнии.
Однажды, когда он сидел, по обыкновению, на крыльце и скучал, заглядевшись на лес, послышался конский топот, и у ворот показался всадник на коне, совершенно не знакомый Теодору. Шляхтич был очень худ, высок, слегка сгорблен, усы у него начинали уже седеть; он сидел на крепком гнедом коне с ременной сбруей и ехал совершенно один, даже без слуг. Заметив его нерешительность и думая, что он заблудился, Теодор подошел к воротам, а всадник, с большим любопытством приглядывавшийся к Теодору, тотчас же слез с коня. Прежде чем они заговорили, они уже почувствовали симпатию друг к другу. У приезжего шляхтича, несмотря на то, что он был уже стар и некрасив, было что-то очень привлекательное в выражении рта и во всем лице, исполненном доброты.
Когда Паклевский подошел к нему, он также сделал навстречу к нему несколько шагов и, не спуская с него взгляда, заговорил таким же ласковым голосом, как ласково было выражение его рта:
– Прости меня милостивый пан и брат, что я являюсь к тебе незванным гостем и беспокою тебя. Смешно признаться, но я – заблудился!!
Он выговорил это в такой добродушной простоте, что можно было поверить ему, если бы слабый румянец, выступивший на его лице, не выдал в нем какого-то беспокойства, возбуждавшего сомнение.
– Меня зовут Макарий Шустак, бывший ротмистр, – с улыбкой говорил старик. – Я приехал в Хорощу, чтобы навестить пана Порфирия Пенчковского, старого товарища по оружию; мне указали дорогу в Ставы, а я, сам не знаю каким образом, заехал сюда.
– Это еще не так в сторону, – сказал Теодор, – но от нас из Борка ведет туда такая запутанная дорога, что лучше всего я дам пану ротмистру проводника.
Говоря это, Паклевский начал, по шляхетскому обычаю, перебирать в уме всех Шустаков, о каких только он когда-либо слышал в жизни, и вдруг ему пришло в голову, что старостина и генеральша были из рода Шустаков.
– А, может быть, пан ротмистр дал бы отдохнуть коню, – приветливо сказал он. – До Ставов порядочный путь, но к вечеру можно поспеть. Правда, у меня здесь убого, и мать моя больна, так что я не могу принять вас роскошно, но если не взыщете, то я всем сердцем готов служить вам. Ротмистр протянул ему обе руки.
– От всей души буду рад отдохнуть у вас, а если вы дадите мне стакан молока, то это будет самое лучшее угощение.
Теодор крикнул работнику, чтобы он взял коня, и пошел вместе с ротмистром к крыльцу. Старик с любопытством осматривался кругом.
– Здесь у меня не на что смотреть, – сказал Паклевский, – окрестности как везде на Подлесье – плоские и печальные.
– Ах, государь мой, – весело заговорил ротмистр, – я там не знаю, как другие, но мне, в какой бы, хотя самый пустой угол на нашей земле не завели меня, – мне все кажется красивым и приятным. Это, может быть, оттого происходит, что я долгие годы из конца в конец странствовал по этой земле, и мне кажется, что у нас всего красивее. Для нас Господь Бог сотворил эти равнины и леса, которых мы не ценим, и эти поля, эти болота так подходят к нашему настроению, к нашим мыслям, что, вероятно, нигде больше мы не чувствовали бы себя лучше…
Хозяин и гость уселись на крыльце.
– Но я еще не представился пану ротмистру, – сказал Паклевский, – я Теодор Паклевский, а имение называется Борок.
Ротмистр пристально смотрел на него.
– И что же, так вы смолоду и хозяйничаете здесь?
– О, нет! Я, к сожалению, ничего не понимаю ни в землепашестве, ни в хозяйстве, – печально смеясь, сказал Теодор, – я служу в канцелярии князя-канцлера, но Бог наказал меня болезнью матери и – процессом. Я временно должен переждать в деревне. А могу я спросить пана ротмистра, не находится ли он в родстве со старостиной Кутской и генеральшей?
– В родстве! – с громким смехом воскликнул ротмистр. – Эта чудачка, сентиментальная старостина, и прекрасная генеральша – мои родные сестры! Теодор даже привскочил с лавки при этих словах.
– Да не может быть! – воскликнул он обрадованный.
– Это самая настоящая правда! – сказал ротмистр. – Но постой, сударь, я что-то припоминаю. Паклевский! Старостина все время рассказывает о каком-то прекрасном юноше, носящем эту фамилию, который спас ее от смерти. Теодор рассмеялся и покраснел.
– Ну, смерть ей не угрожала, и даже не было ни малейшей опасности, если не считать холодного купанья.
– Так это вы, сударь, ее спаситель? – начал Шустак. – Значит, я вам обязан за сестру – наверное, никто другой не пошел бы ради нее в воду, хоть в свое время – трудно даже поверить этому теперь – она была хороша, как ангел.
Паклевский, взволнованный этой встречей, решил принять гостя как можно радушнее, и когда тот принялся пить принесенное ему молоко, Теодор поспешил рассказать матери о неожиданном госте.
Для нее гость этот был более чем безразличен, но надо было принять его.
Теодор предложил ему кофе и попросил позволения отвести коня в конюшню и накормить там: Шустак на все охотно согласился. Он казался удивительно добрым и общительным человеком, и так как он, по обычаю своего времени, знал всю шляхту, все ее дела, симпатии и отношения – то с ним было легко разговориться.
Когда он в разговоре опять упомянул о старостине и генеральше, Теодор решился спросить: не выходит ли замуж дочь генеральши.
– Она бы давно вышла, если бы хотела, – отвечал Шустак, – но это –упрямый козленок, и это так у нее засело в голове – один Бог про это знает! У матери и старостины множество планов относительно нее, но с Лелей нелегко справиться! Ей нельзя силою навязать мужа. И признаюсь, – прибавил ротмистр, – что я не хотел бы быть ей навязанным в мужья – это хищное созданье.
Теодор не спрашивал больше. Между тем подали кофе.
– Вот вы, сударь, упоминали о процессе, – заговорил ротмистр. – Я старый лентяй и бродяга слышу обо всем понемножку: не из-за Божишек ли вы ведете тяжбу с Кунасевичем?
– Значит, пан ротмистр слышал об этом?
– Да, слышал; Кунасевич – изворотливая шельма и без совести – я его знаю! Знаю давно! И мне приходилось иметь с ним дело!
– Он захватил у меня Божишки! – вздохнул Теодор.
Ротмистр, чрезвычайно заинтересованный предметом разговора, приглядывался к своему собеседнику с большим любопытством и внимательно прислушивался к его словам.
– А князь-канцлер? – спросил он. – Разве не мог бы он помочь вам отобрать их у захватчика?
– Мне обещана помощь, но пока солнце взойдет, роса глаза выест, –вздохнул Паклевский, – а между тем мать моя все слабеет, а князь щадит подкомория, потому что он нужен ему для сеймиков…
– Что за черт! – горячо воскликнул ротмистр. – Да неужели же у вас не нашлось бы друзей, которые помогли бы вам отвоевать Божишки?
– У меня? Друзей? – крикнул Теодор. – Quo tutulo?
– Да уж хотя бы по той причине, что подкомория ненавидит полокруга –он всем успел насолить. Ему льстят только те, которые его боятся.
Ротмистр задумался.
– А почему бы вам, сударь, не воспользоваться тем, что вы вытащили старостину из воды? Для старостины генеральша сделает все, потому что она любит старостину и нуждается в ней; а для генеральши сделает все, что она прикажет, ее муж, потому что он у нее под башмаком, ну вот, если бы вы только заикнулись, генерал дал бы людей из своей команды, хотя бы пришлось переодеть их; собралась бы шляхта, и ночью можно было бы напасть на Божишки!
Паклевский слушал равнодушно и недоверчиво.
– Это только мечты, пан ротмистр, – сказал он, – и не стоит об этом говорить.
Старик взглянул на него и, помолчав, сказал:
– А я вам говорю, что это не мечты.
При этих словах он встал и протянул Паклевскому руку.
– Это не мечты и не роман, – сказал он, – а вот вы, сударь, задали мне задачу своим романом. Что мы там будем в прятки играть? Я вовсе не заблудился и совсем не ехал в Ставы, а прямо в Борок. Скажу прямо: вы очаровали мою прелестную племянницу – не краснейте и не стыдитесь. Я люблю это дитя, как свое собственное, и жаль мне ее от всего сердца; годы уходят – вас надо поженить!
Теодор бросился через стол обнимать и благодарить его.
Ротмистр сел с таким видом, как будто с души его спала тяжесть.
– Давайте потолкуем, – сказал он. – Чтобы генерал и генеральша приняли вас зятем, надо отвоевать Божишки. Я обещал Леле помочь вам в этом. Мы должны собрать людей…
– Если бы мы даже захватили Божишки, мой милостивый покровитель, –заговорил Теодор, которому надежда вернула юношескую энергию, – допустим даже, что мы нападем на них врасплох – но как мы удержимся там? У Кунасевича там свои люди. Это будет война без конца.
– Никогда этого не будет! – возразил ротмистр. – Я все это беру на себя; захватом закончим все дело. За это я отвечаю.
– Но как?
– О! Как? Этого я не скажу, – отвечал Шустак, – вы меня, сударь, не знаете, но даю слово, можете на меня положиться… Кончим дело –по-шляхетски.
– Что делать, – прибавил он, – в какой стране живешь, таких обычаев и придерживаешься.
Теодор поцеловал его в плечо.
– Но как же это будет? – повторил он.
Ротмистр обнял его в свою очередь.
– Не скажу! – решительно заявил он. – Достаточно того, что по шляхетскому обычаю.
Шустак закрутил усы.
– Ну, теперь, слава Богу, первый лед сломан, пусть же расседлают моего коня, и пока подойдут мои люди, прикажи набросить на него попону и засыпать овса… Мы должны подробно все обсудить, поэтому я останусь ночевать. А матери скажи, что хочешь, чтобы не тревожить ее…
Ротмистр чувствовал себя как дома; отправив Теодора к матери, он сам пошел в конюшню, не сомневаясь, что его приказания будут выполнены.
Когда Теодор появился в дверях материнской комнаты, егермейстерша, обеспокоенная долгим визитом незнакомца, бросила на сына тревожный взгляд и удивилась еще больше, заметив, что он выглядел таким веселым, каким она давно его не видала. В первую минуту ей показалось это признаком легкомыслия и эгоизма.
Он, весь дрожа от волнения, подошел к ней и стал целовать ее руки.
– Ни о чем, мамочка, не спрашивай, только верь мне, что явилась надежда получить Божишки. Этот незнакомец, о котором мне нельзя рассказывать тебе, просто ангел, посланный нам с неба!
Паклевская испугалась и, как это часто бывает с больными и ослабевшими людьми, приняла это известие с тревогой.
Сын успокоил ее. Она хотела еще расспросить его, но он только повторил еще раз, что нашел союзника для того, чтобы вернуть себе Божишки, и что все это должно до поры до времени остаться тайной.
Когда Теодор вышел из спальни, вдова схватила четки и принялась с лихорадочной набожностью молиться за сына и благодарить Бога за помощь ему.
Шустак, вернувшись из конюшни, где он сам распорядился отправить мальчика в Хорощу за своими людьми, даже не спросив на то разрешения у хозяина, пошел с ним в его комнату и, запершись там, принялся обсуждать с ним задуманное дело.
Из различных намеков и недомолвок ротмистра, Паклевский догадался, что все это было делом рук прекрасной Лели. Она перетянула дядю на свою сторону, она через него убедила отца дать своих людей на помощь Паклевскому, она же в конце концов отправила старого Шустака в Борок, чтобы он вытащил оттуда Теодора и уговорил его действовать. Ротмистр был в полном подчинении у нее.
Добрый старик так принял к сердцу все это дело, что не отказался даже разыграть вначале маленькую комедию, правда, не долго продолжавшуюся, но очень его тяготившую.
Решено было, что Теодор поедет вместе с ротмистром в Пшевалки, куда понемногу будут съезжаться и остальные заговорщики из тех шляхтичей, которых им удалось уговорить участвовать в этом деле.
В Божишках, по уверению ротмистра, было не более двадцати людей, вооруженных скверными ружьями, заржавленными саблями и дубинками с металлическими наконечниками. Была там и одна старая пушка, но она могла принести больше вреда тем, кто вздумал бы стрелять из нее, чем предполагаемым врагам.
Обитатели Божишек жили в полной беспечности, не ожидая ниоткуда нападения. В усадьбе находился сам подкоморий, его супруга, двое старших сыновей и слуга. Ротмистр для успокоения Теодора, который боялся, как бы не произошло кровопролития, давал ему клятву, что Кунасевичи сдадутся при первом же выстреле, а слуги тоже не будут сопротивляться, и самое большее, что может случиться, несколько человек набьют себе шишки.
Шустак был так уверен в правоте своего мнения, что не слушал никаких возражений и беспрестанно повторял:
– Положись во всем на меня, мне уже случалось участвовать в наезде на Речицу, а другой раз на Городище. Я был ротмистром и беру командование на себя…
На другой день егермейстерша, несмотря на свою слабость, встала с постели, потому что ей непременно хотелось увидеть этого спасителя, в которого она с трудом верила. Ротмистр легко завоевал ее расположение, но не выдал своих планов и твердил ей только одно, что он от всей души сочувствует Теодору и непременно поможет ему. Шустак так торопил с отъездом, что они в тот же день выехали в Пшевалки, деревеньку, которую ротмистр уже много лет арендовал у князя-воеводы, несмотря на то, что был в плохих отношениях с Несвижем из-за Богуша, виленского подвоеводы.
В Пшевалке, расположенной среди лесов, был огромный фольварк, в свое время построенный для гетмана Радзивилла в стиле охотничьего домика; ротмистр, сделавшись здесь хозяином, все переиначил по-своему.
Всех своих слуг он вырядил в полувоенное одеяние, все шло здесь, как на полковой службе, все подчинялись строгой дисциплине, но старого пана любили крепко. К обеду и ужину собирались под звуки труб, охотой занимались с увлечением, оружия было много, псы великолепные, в погребах множество всевозможных вин и во всем полный достаток; жизнь была здесь широкая и обильная, но простая и скромная. Баб тоже было немало и, может быть, слишком много для усадьбы старого холостяка, но все они были по большей части стары и непривлекательны. Не успел хозяин со своим гостем приехать в Пшевалки, как во все стороны поскакали гонцы с приглашениями принять участие в охоте.
Разослали гонцов и к таким соседям, которые никогда не брали ружья в руки, но так как у ротмистра было всегда весело и кормили хорошо, то каждый охотно ехал для компании. В назначенный день, как начали съезжаться кареты, тарантасы, брички, дрынды и даже телеги, так до самого полудня, казалось, и конца этому не будет. Завтрак с утра стоял на столе, а об охоте не было и речи. В полдень подали обед, который продолжался до позднего вечера, хотя блюда давно стояли пустые, и беседа велась за бутылками и рюмками. Так досидели до ужина. Здесь очень искусно inter pocula и как бы случайно, разговор коснулся Кунасевича. Хорошо подобранные гости не знали какими словами назвать его. Ротмистр заметил тогда, что шляхта осрамит себя, если позволит ему обижать сироту-племянника. Все согласились с этим. Тут только Шустак представил им Паклевского в качестве обиженного и нуждавшегося в их поддержке, потихоньку прибавив, что генерал согласился дать несколько десятков вооруженных людей.






