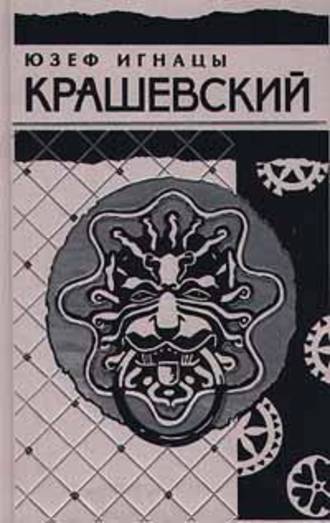
Юзеф Игнаций Крашевский
Гетманские грехи
Браницкий с явным неудовольствием выслушал эти слова.
– Что мне за дело! – сказал он. – Я не хотел бы и не могу уехать с такой тяжестью на совести, как судьба этой несчастной. Знаешь ли, сударь? Она послала сына в распоряжение Чарторыйских! Его! Понимаешь ты это? Доктор опустил голову.
– И сделала это умышленно, – пробормотал гетман. – Для меня все это не может иметь никакого значения, но очень меня расстраивает…
Говоря это, гетман рукою показал доктору на дверь комнаты Беаты, давая понять, чтобы он вошел к ней.
Клемент решился не сразу, но, когда он уже почти приблизился к ним, двери с шумом закрылись изнутри. Несколько минут оба стояли, не зная, на что решиться; доктор опять стал уговаривать гетмана уезжать.
Было уже поздно. Прогулка гетмана, наверное, была уже замечена и вызвала комментарии и самые разнородные толки.
Француз почти силою увлек его за собой и заставил сесть на коня. Браницкий, нахмуренный и задумчивый, с усилием влез в седло и взял поводья в руки. Кабриолет Клемента издали следовал за ним.
Когда они были уже далеко, перепуганная всем происшедшим Барщевская постучалась в дверь спальни и, не услышав изнутри ни малейшего движения, побежала позвать слуг. Вынули окно и в углу комнаты нашли лежавшую в обмороке егермейстершу.
Прошло немало времени, прежде чем удалось привести ее в чувство и успокоить. Ее уложили в постель и сделали все, что подсказал инстинкт; устав от слез и рыданий, Беата уснула поздно тревожным и чутким сном. Жизнь только чудом держалась в этом хрупком теле; через несколько дней она встала и снова засела за свои книги с описаниями жизни святых мучеников.
Среди этого чтения пришло письмо от Теодора, написанное из Волчина после возвращения из Божишек. Разумеется, в нем даже не упоминалось ни о какой другой поездке, кроме путешествия в Вильну.
Теодор застал в Волчине большое оживление, лихорадочную деятельность и беспрерывные совещания, происходившие не только днем, но и ночью. Пока партия Браницкого и Радзивилла шумела, кричала и угрожала, почти уверенная в победе, пока он собирал войско, вербовал шляхту и спешил в столицу –фамилия делала таинственные приготовления к тому, чтобы нанести им смертельный удар.
Князь-канцлер, который прекрасно знал характер страны, в которой ему приходилось действовать, знал и то, что в пустословии, манифестациях и криках потеряет силы для энергичного действия. Он сберегал силы и приготовлялся втихомолку.
Теодор писал матери, что ему дано было секретное поручение, и он снова должен был ехать. Должно быть, он хорошо выполнил свою первую миссию и скромно и толково отдал в ней отчет князю-канцлеру; было оценено и то, что он умеет молчать. И потому, несмотря на молодость и неопытность, ему опять было поручено передать несколько слов (а, может быть, и не только слов) ксендзу Млодзеевскому, любимцу старого примаса Лубенского…
Об этом он не писал матери и только в общих чертах распространился о снисходительности и благосклонном отношении к нему князя-канцлера, за что он чувствовал к нему глубокую признательность.
Вернувшись из Божишек, он застал в Волчине такое волнение – все были так заняты политическими делами – что привезенное им письмо воеводича несколько дней лежало нераспечатанным. Князь-канцлер случайно взял его в руки, распечатал, посмеялся над его стилем и над самим автором; не слишком деликатно выражался о нем, пожал плечами – и забыл о нем.
На этот раз Теодор в сопровождении нескольких слуг направился по дороге в Скерневицы.
Есть люди на свете, как бы с рождения предназначенные для известных целей; но прежде чем они попадут на свой настоящий путь, они долго пребывают в неизвестности и ждут своего часа; когда же судьба укажет им путь, на который они должны вступить, они начинают с каждым днем вырастать в своем значении и становятся до неузнаваемости непохожими на то, чем были раньше. Но есть такие, которые никогда не дождутся своего часа в жизни, завянув и погибнув никем не узнанные, потому что замкнулись в самом себе. Одни носят в себе сознание своего предназначения, другие – узнают о нем только в решительную минуту.
Пан Теодор Паклевский принадлежал к числу тех счастливых людей, которым не приходится долго ждать, пока откроется ожидающая их судьба. Воспитание у пиаров было просто подготовительной школой жизни без определенного назначения в ней; он только знал, что должен служить и работать, чтобы выбиться наверх и быть признанным.
Странное и счастливое для него стечение обстоятельств в самом начале карьеры открыло ему двери канцелярии одного из умнейших сановников Речи Посполитой; орлиный взгляд князя тотчас же подметил в этом служащем отличное орудие для своих планов, и он, не обращая внимания на завистников и недоброжелателей, забрал его в свои руки. Этого было довольно для Теодора, чтобы в солнечном тепле надежды развернуться с неслыханной быстротой и поразительным талантом. Из робкого юноши он сразу стал осторожным дипломатом и сам почувствовал, что, строго следуя указаниям своего принципала, он может надеяться играть впоследствии более деятельную и значительную роль, чем он предполагал раньше.
Он поставил себе за правило – слепое послушание своему руководителю, буквальное выполнение его указаний и такой образ действий для достижения своей цели, который, в случае неуспеха, не затруднял бы дальнейших планов. Князь-канцлер, который как раз в это время особенно нуждался в толковых, но не выдающихся своей инициативой людях, способных, но не слишком всем известных, а главное, безусловно преданных ему и не поддающихся чужим влияниям, – сразу оценил юношу и ухватился за него.
Действительно, Теодор за несколько месяцев своего пребывания в Волчине стал совсем непохожим на неловкого, мало подвижного и ненаходчивого мальчика, каким мы его видели в Борку и по дороге в Варшаву. Наблюдая за пробуждением в нем сил, которые до этого времени не подавали признаков жизни, каждый, кто видел его, должен был бы прийти к невольному заключению, что кровь и род заключают в себе какое-то наследство и сразу ставят потомка на той высоте, которой достигли его предки.
Правда, Паклевские никогда не отличались дипломатическими или политическими способностями, но кто знает – может быть, мать передала Теодору находчивость и самообладание, мало того, знание, и как бы предчувствие многого, что было доступно для других.
Иначе трудно было бы объяснить ту необыкновенную легкость, с которой Тодя умел разобраться в каждом положении и занять именно ту роль, которая ему в данном случае соответствовала.
Князь-канцлер, боясь разбудить в нем тщеславие и самомнение, никогда не хвалил его, иногда даже выговаривал ему то за то, то за другое; давал ему самые трудные поручения и к своему удивлению не мог поймать его ни на одной слабости. Не в его обычае было выказывать кому-либо большую милость; но зато в его обращении с Теодором совершенно исчез оттенок высокомерного пренебрежения, какой был раньше. Князь, через руки которого прошло много людей, подававших надежды, но не оправдавших их в жизни, хорошо знал эту загадку человеческой натуры, состоящую в том, что первый расцвет молодости заключает в себе иногда высшее напряжение сил данного существа, что не всегда из гениальных юношей выходят герои и министры, и часто блестящая жизненная прелюдия кончается отупением и полной непригодностью к чему-либо.
И канцлер решил использовать эту силу, не входя в то, какая будущность ждет ее.
Теодор, посылаемый то туда, то сюда по самым разнообразным делам, часто не имеющим серьезного значения, но трудным по выполнению, с честью выходил из всех испытаний.
Все это раздражало его сотоварищей по канцелярии, которые всячески старались, но никогда не могли повредить ему.
Пребывание в Волчине не только выработало из скромного воспитанника пиаров в высшей степени изящного, с прекрасными манерами, придворного, но и придало ему уверенность в себе и неустрашимую смелость.
И понемногу даже те, которые ненавидели его, стали относиться к нему с невольным уважением.
В канцелярии он занимал второстепенное место и совершенно не заботился о повышении; сидел в конце стола; ни в чем не противоречил панам секретарям, и всякие мелкие работы, которые ему поручали, исполнял без тени неудовольствия, но не проходило дня без того, чтобы какой-нибудь лакей или придворный служащий не приходил за ним:
– Пан Паклевский, пожалуйте к его превосходительству.
Все, находившиеся в это время в канцелярии, переглядывались между собой и пожимали плечами. Случалось, что Паклевский, отозванный к канцлеру, день и два не возвращался в канцелярию, а когда приходил снова, никто не мог добиться от него, где он был, и что делал.
Не во вред пану Теодору было и то, что он отличался чрезвычайной красотой лица и сложения, что во всей его фигуре было какое-то особое породистое достоинство, и что он нигде не чувствовал себя оробевшим. Этой красоте его предсказывали при дворе блестящие успехи в свете; она привлекала к нему ласковые взгляды всей женской половины двора; но пан Теодор вовсе не оказался легкомысленным. Он был очень вежлив с женщинами; по-видимому, охотно бывал в их обществе, но ни к одной из них не подходил ближе, хоть его всячески поощряли к тому и завлекали.
– Я вам говорю, – отзывался о нем Вызимирский, – это такая штучка, подобной которой нет ни в Польше, ни в Литве! Он задумал продать как можно дороже свой ум и красивое личико! Никто его не поймает, ни старая Бочковская своими локонами и мушками, ни князь-канцлер – обещаниями… Он ввинчивается потихоньку, осторожно, но когда-нибудь мы все почувствуем его на своих боках!
Прежде чем князь-канцлер и русский воевода добрались до Варшавы, Паклевский с секретной миссией выехал в Скерневицы. Цель его поездки была тайной для всех.
Переговоры с князем-примасом Лубенским казались фамилии очень трудными, потому что Inter-Rex был обязан всей своей карьерой саксонскому двору и в прошлом принадлежал к противной партии; все отдавали справедливость его характеру, набожности, скромности, учености; и потому-то казалось невероятным привлечь на свою сторону человека, который достиг вершины власти и ничего больше не мог уже желать – так что ничем нельзя было купить его.
Но без примаса фамилии трудно было достигнуть своей цели; в истории бывали случаи, когда события разыгрывались без его участия; но в данных обстоятельствах это могло грозить осложнениями внутренней войны, которая была нежелательна.
В то время, как никому неизвестный человек выезжал из Волчина по направлению к Скерневицам, двор примаса переехал в Варшаву, чтобы там стать на страже безопасности и покоя Речи Посполитой. Друзья примаса хотели, чтобы он был не только по имени, но и в действительности Inter-Rex'ом, который стоял бы выше партий и союзов, не позволяя им броситься друг на друга.
С самого начала пройденного им длинного пути и теперь в первой столице Речи Посполитой примас оставался всегда одинаковым: тихим, трудолюбивым человеком без всякой суетности, прямым по характеру, но охотно позволявшим руководить собою в мирских делах, которые не казались ему особенно важными.
Там, где завязывались политические интриги и составлялись открытые заговоры, как это было в царствование саксонцев, Лубенский охотно отстранялся, уступая свое место другим. Он не умел во всем этом отчетливо разобраться, а, может быть, и не придавал такого значения роли отдельных личностей в истории мира, как другие; спокойный и рассудительный, неторопливый в решениях примас был скорее пассивным зрителем, чем деятельным участником событий. Эту черту его характера, еще выпуклее обозначавшуюся с возрастом, отлично подметили Чарторыйские и знали, что сумеют воспользоваться тем, что они назвали слабостью примаса. Также хорошо изучили они чрезвычайно подвижного, способного, честолюбивого, стремившегося возвыситься и каким бы то ни было способом усилить свое значение Млодзеевского, который с каждым днем приобретал все большую власть над стареющим примасом.
Млодзеевский был из числа тех, для которых одежда служит только орудием, прикрытием или паспортом для проталкивания в толпе. С одной стороны, он старался усердием, предупредительностью, смирением, находчивостью и уступчивостью снискать доверие и расположение Лубенского, а с другой – ловкий auditor примаса изучал край и его политическое положение, чтобы извлечь из этого пользу для себя.
Человек новый, без прошлого и без связей, которые заставили бы его примкнуть к одному из лагерей, Млодзеевский мог смело обещать свою помощь тому, кто больше даст, или, по крайней мере, больше пообещает. Наблюдательность и сообразительность позволяли ему заранее предвидеть будущее. Лагерь, в котором главными вождями были веселый и надменный "пане-коханку", сильно поживший и ко всему охладевший гетман Браницкий, неловкий, но самонадеянный воевода киевский, и за которым стояла бессильная Саксония и мифическая Франция, не имел будущего! Чем шумнее и на вид оживленнее было в нем сегодня, тем яснее становилось, что тихо ступающие Салтыков и фамилия сметут его без всякой борьбы. Заблуждаться могли только те, кто был в центре гетманской партии, но не те, которые находились вне ее рамок. Кандидатура саксонского королевича казалась неосуществимой даже тем, которые ее выдвигали; в том же самом лагере другие провозглашали гетмана, и тут же шептались о приказаниях Огинского и Потоцкого, не говоря уже о других…
В противном же лагере фамилия отказалась от всяких притязаний и единственным своим кандидатом выставила молодого стольника литовского. Поддержка же, которая была ему обеспечена, превышала все несбыточные надежды на Францию и Саксонию.
Млодзеевский ясно видел все это: притом это не был человек, способный принести в жертву действительность ради излюбленных фантазий, тем более, что единственной его фантазией было занять поскорее более видное положение. Но в начале ни он, ни кто другой не вдавались в разгадыванье будущего; старались постепенно, осторожно и рассудительно, по способу примаса, подготовить его.
Приехав в Варшаву, пан Теодор узнал здесь, что примас со всем своим двором только что прибыл сюда и расположился, по-видимому, надолго. Отовсюду съезжались сюда наиболее деятельные и влиятельные государственные люди Речи Посполитой. Приехал гетман из Белостока, Потоцкий из Кристинополя, поджидали русского воеводу и еще многих других.
Пребывание при дворе в Волчине, а, может быть, слова матери и, в конце концов, незаметное для него самого влияние окружающей атмосферы воспитали в Паклевском особенную неприязнь и презрение к гетману. Он смеялся над его чванством, считал его изменником по отношению к фамилии и бессильным гордецом. А в душе он желал одного – чтобы Чарторыйские столкнули его, как хотели, с той высоты, на которой он бездеятельно блистал.
Таким образом, Теодору не для чего было ехать в Скерцевицы, а в Варшаве – хоть он и мог проскользнуть к примасу незамеченным – выполнение инструкций князя-канцлера представляло гораздо больше затруднений, чем если бы это было в Ловиче или другой резиденции примаса.
Здесь уж надо было проталкиваться сквозь толпы народа, заполнившего все улицы.
Теодор решил передохнуть здесь и первый день своего пребывания в Варшаве употребить на то, чтобы оглядеться и разобраться…
Ему дали адреса некоторых людей, между прочим адрес старого Теппера, отца того, который потом заслужил такую громкую известность и так бесславно погиб; но он предпочел прислушиваться и разбираться во всем без помощи других. Город заполнялся магнатами, съезжавшимися сюда из провинции вместе со своими придворными; движение на улицах было так велико, что между рядами экипажей трудно было протискаться пешеходу. Теодор переходил площадь Краковских ворот, когда карета, запряженная четверкой лошадей, так близко наехала на него, что он едва спас от ее колес полы своего кунтуша. Он бросил в окно гневный взгляд, и в ту же минуту внутри кареты послышался женский крик.
Не успел еще Теодор разглядеть лиц пассажиров, как кучеру был отдан приказ остановиться, и пани старостина, высунувшись из окна, приветствовала своего избавителя. Но крик, услышанный Теодором, принадлежал не ей, а панне Леле, дочке генеральши, которая раньше всех заметила его. Все, не исключая генеральши, сердечно поздоровались с юношей. Леля не столько словами, сколько взглядом старалась показать ему, что она его не забыла.
– Что вы тут делаете, сударь? – спросила старостина, подозвав его к дверям и протягивая ему для поцелуя свою худую руку.
Раньше чем Паклевский успел ответить, живо вступилась Леля:
– Ах, тетя, тетя! Разве можно разговаривать на улице? Слышите, как кричат, чтобы мы проезжали. Еще задавят пана Теодора! Пусть он придет к нам обедать!
– Придите к обеду, – обратилась она к нему от имени тетки, – в дом на Старом Месте, через час… Только поскорее, потому что мы сейчас вернемся…
Старостина подтвердила это приглашение самой любезной гримасой, какую только могла изобразить на своем лице; карета тронулась, а Паклевский остался на месте, размышляя, что ему делать?
Ему не надо было долго убеждать себя отправиться к старостине; это отвечало и его собственным интересам, и пользе дела. В этом доме он надеялся получить кое-какие справки, и знал, что там жили сторонницы фамилии.
Побродив еще по городу и зайдя к старому Тепперу, которому он отдал записочку князя-канцлера, Теодор поспешил к указанному дому.
Он принадлежал генеральше и первый этаж его, не отданный внаем, служил постоянной квартирой этих дам, часто наведывавшихся в столицу. Здесь нельзя было делать большие приемы, потому что дом был невелик, но обе сестры, привыкшие к великолепию саксонского двора, умели скрасить изящным убранством темные и невысокие комнаты старого дома.
В самой большой комнате, салоне, стояла изысканная мебель, виднелись повсюду зеркала, гобелены, ковры, фарфоровые безделушки, и все это было насквозь пропитано дорогими духами, запахом пудры, курениями и ароматом цветов. Генеральша особенно заботилась о том, чтобы ей не стыдно было принимать у себя своих знатных гостей, и чтобы они не стыдились за нее. Старостина тоже очень любила красивую обстановку, а Леля постоянно подавала им благие советы, так что все комнаты были завалены всякими безделушками и украшениями.
Здесь был полумрак даже в полдень; но старостина была как раз в таком возрасте, когда любят полутень, а Леля, хотя ей было здесь тесно, душно, скучно и темно, находила в этой темноте оправдание своей легкомысленной веселости, которая оживляла эти угрюмые, похожие на монастырские, стены. Генеральше, которая была менее богата и более требовательна, было очень выгодно пребывание у нее сестры, помогавшей ей поддерживать дом на должной высоте.
Здесь было все, чего требовали обычаи того времени от зажиточной семьи хорошего тона во время пребывания ее в городе: прекрасная ливрея, хорошая кухня и множество хорошо вымуштрованных слуг.
Здесь, как и у других, прислуги этой было гораздо больше, чем требовалось. У старших слуг – тоже были свои слуги, а у тех – служанки. Когда Теодор в назначенный час подходил к дому, карета старостины только что подъехала к нему, и все дамы карабкались по довольно темной и неудобной лестнице наверх. Старостине необходимо было перед обедом сменить туалет и поправить прическу, так как этот избавитель, постоянно направляемый к ней судьбой, сильно интересовал пожилую даму. Генеральша также пошла переодеться, и когда Паклевский вошел в темную залу, он нашел в ней одну только Лелю, которую удержало какое-то предчувствие. Стоя перед трюмо и подняв руки кверху, она поправляла ленты и банты, вплетенные в ее локоны и немного измявшиеся во время прогулки.
Она увидела в зеркале входившего Теодора и с плутовской улыбкой сказала ему:
– Подождите, пожалуйста, не подходите близко и не смотрите на меня! Должна же я нарядиться для вас, если уж тетя и мама дали мне хороший пример… Я хочу быть сегодня очень красивой, вот вы увидите…
– Мне кажется, – с поклоном отвечал Теодор, – что вам не надо ни желать этого, ни стараться об этом…
– Я не люблю комплиментов! – отвечала кокетка, топая маленькими ножками и принимая перед зеркалом всевозможные позы, как будто она танцевала менуэт. Но все это так шло к ней, что Тодя мог бы долго простоять так, любуясь изящными движениями и грациозными позами, которые принимала для него паненка, если бы ей самой не надоело смотреться в зеркало и не захотелось взглянуть на поклонника. Она повернулась к нему неожиданным движением и, взяв в обе ручки растянутую на кринолине юбку, проделала перед гостем медленный и торжественный реверанс.
Но тотчас же рассмеялась и подошла к нему.
– Поиграем в колечко, – сказала она, – ну, покажите мне колечко!
Теодор быстро снял перчатку; колечко блестело на пальце, поглядывая светлым глазком на свою бывшую госпожу…
– Ваше счастье! – заметила она, грозя ему розовым пальчиком.
– Если это игра, – сказал Теодор, – то надо, чтобы она была равная. Я показал колечко, а что вы мне покажете?
– Скажите, пожалуйста, какой дерзкий, – засмеялась девушка, – я могла бы показать на это кончик моей туфельки, который, как вы видите, сударь… – Я могу поцеловать его? – прервал ее Теодор.
Девушка бросилась от него в сторону, шелестя платьем, как куропатка, которая срывается с кустов…
– Если бы старостина увидела это, она упала бы в обморок! – шутливо заговорила она. – А мама назначила бы мне покаяние, а вас, сударь, отправила бы в изгнание. Я позволяю вам любоваться моей красотой только издали, осторожно и по секрету!!!
Теодор поклонился. Тон разговора позволил ему ответить на эти слова прижатием руки к сердцу.
– Что вы тут делаете? – живо спросила Леля. – Я ни за что не поверю, чтобы вы приехали сюда за старостиной. Теперь уж вам трудно будет еще раз спасти ее, потому что она с тех пор так боится воды!!!
– Кто знает, а, может быть, из огня! – сказал Теодор. Леля засмеялась.
– А давно вы здесь?
– Со вчерашнего дня.
– Знали, что мы здесь?
– Совершенно не знал!
– И даже не предчувствовали?
Теодор опустил голову.
В эту минуту в комнату вошла старостина.
– Драгоценная тетечка! – защебетала девушка, подбегая к ней. – Пан Паклевский даже не предчувствовал, что вы здесь. Ведь между спасителем и спасенной должна быть какая-нибудь связь, по которой передается чувство и…
– Да полно тебе болтать, сорока! – прервала старостина, слегка ударив племянницу веером, который она держала в руке.
И, обратившись к Теодору, прибавила:
– Я очень рада видеть вас, сударь, – и подала ему руку для поцелуя.
Леля, стоявшая позади тетки, снова торжественно присела, но в это время появилась генеральша и удержала ее от дальнейших шалостей. Теодору пришлось усесться на диван вместе с дамами и вести с ними серьезный разговор.
Обстоятельства действительно сделали его более серьезным, чем обычное щебетанье этих дам. Даже и они поддались впечатлению событий, которые сопутствовали им.
Говорили о красавце литовском стольнике, о Мстиславской и ее сопернице; о калеке-королевиче, о гетмане и о фамилии.
Дамы, только что вернувшиеся из города, привезли с собой целую массу сплетен и рассказывали, перебивая друг друга.
Теодор слушал с интересом.
И старостина, и ее сестра, не стесняясь, высказывали свои симпатии к фамилии перед служащим князя-канцлера.
Генеральша было особенно очарована стольником и намекала, что и он был к ней не совсем равнодушен.
– Все, что говорят о Мстиславской и о княжне, – тихо сказала она, –все это преувеличено и просто выдумано. Стольник еще не сделал выбора, а когда сделает, то, поверьте, у него окажется больше вкуса, чем ему приписывают.
Старостина, которая уже отреклась от всех видов на будущее, ограничившись одною нежностью к своему спасителю, хотела играть роль в политике и уверяла, что будет стараться привлекать союзников для Чарторыйских, отбивая их у противной партии.
– Вот вы увидите, сударь, что в конце концов при гетмане останется один староста Браньский; все от него сбегут!! Надо только умеючи за это взяться.
Я и не подумаю уехать в деревню, мы с генеральшей тоже будем принимать участие в сеймиках!!
Сказав это, старостина с торжественным видом наклонилась к своему спасителю, может быть для того, чтобы быть к нему поближе, и начала шептать:
– Первое условие – даю вам слово, что это так – надо употребить все усилия, чтобы перетянуть на свою сторону примаса. А для этого есть средство…
Она сделала при этом плутовскую гримаску, которая рассмешила Лелю, очевидно придававшую разговору другой смысл…
– Какое средство? – спросил Теодор.
– О! Я не скажу! Это мой secret d'Etat.
– Неужели вы и мне не откроете его, – заговорил юноша, – ведь я не выдам вас…
Старостина опустила глаза на кончики своих пальцев, некрасиво высовывавшихся из черных митенок, и покачала головой.
– Я знаю одного человека, – тихо вымолвила она.
Теодор покраснел от радости, и это было так явно, что Леля, видя этот румянец и перешептыванья с теткой, которая тоже как-то странно переглядывалась с ним, почувствовала некоторое беспокойство.
– Может быть, окажется по счастливой случайности, что мысли моего патрона совпадут с мнением пани старостины, – сказал Теодор. – Я признаюсь вам под секретом, что я (тут он еще понизил голос) имею поручение от князя к Млодзеевскому…
Старостина всплеснула руками и даже подскочила на диване, чем возбудила живейшее любопытство в Леле и генеральше; обе дамы подошли к ним поближе.
– Пожалуйста, прошу вас не подслушивать нашего разговора, мне нужно переговорить наедине с моим спасителем об очень важном и секретном деле… Леля и мать ее, не зная, что тут и думать, отошли в сторону, а Теодор быстро прибавил:
– Я рассчитываю на то, что пани старостина поможет мне… Встреча здесь, на нейтральной почве…
– Ах, плут! Ах, какой плут! – громко сказала старостина. – Прошу покорно, кто бы мог ожидать этого, глядя на его скромную и смиренную физиономию.
– Уверяю вас, тетя, – издали отозвалась Леля, – я всегда считала этого пана страшным плутом.
Между тем Теодор, целуя руку старостины, чтобы еще более умилостивить ее, тихо сказал:
– Я рассчитываю на вас, пани старостина!
Подали к столу, и счастливая вдова подала руку своему спасителю, потому что никого больше в этот день не было. Пока они шли в столовую, она подумала немного и шепнула ему что-то на ухо.
Лелю смешило кокетство тетки, но генеральша начинала не на шутку беспокоится.
– Кто знает? – рассуждала она про себя. – Может быть, юноша рассчитал, какие доходы приносит сестрице ее имение, и собирается вскружить ей голову? Что же? Разве не бывало таких браков?
Для генеральши страшнее всего была мысль, что кто-нибудь может отнять у нее ее дорогую сестрицу и лишить ее права на наследство.
Она мерила Теодора суровым взглядом, а у того было такое счастливое, веселое, сияющее лицо, что, действительно, можно было испугаться. Судьба была к нему чрезвычайно милостива.
Леля тоже смотрела на них, силясь отгадать: какая таинственная причина могла связать общей радостью тетку и Теодора. Для нее это было необъяснимой тайной, потому что не могла же она допустить, что Теодор объяснился тетке и получил согласие.
За обедом шел разговор о том, кто приехал, где остановился, из кого состоял двор примаса, кто из кастелянов играл при нем роль маршала, какие вести шли из Дрездена и т.д. Как только обед кончился, бедная генеральша тотчас же отвела сестру в сторону для секретного разговора, а Леля воспользовалась этим, чтобы подойти к Теодору.
– Можно вас поздравить? – спросила она.
– Не знаю, с чем!
Леля подошла еще ближе.
– Вы объяснились старостине? Она согласна? А когда обручение? С удовольствием потанцевала бы на свадьбе.
Теодор улыбнулся.
– Благодарю вас за счастливую мысль и за участие ко мне.
И он серьезно поклонился ей. Леля смутилась.
– Но ведь так всегда бывает, – прибавила она. – Во всех романах, которые вы читали, и которых вы не читали, – всегда тот, кто спасает героиню из воды, или огня, или над берегом пропасти, непременно должен жениться на ней. Значит, и вы обязаны это сделать!!
– А если бы я спас генеральшу, у которой есть муж? – спросил Теодор. – Тогда вы должны были бы, по крайней мере, влюбиться в нее и умереть от любви, – отвечала Леля. – Другого выхода нет. Значит, вы видите, сударь, что я права.
– Вижу, – весело сказал Теодор, – но клянусь вам, что, спасая вашу уважаемую тетушку, я сделал это для вас; значит, исходя из того, что…
– Ровно ничего из этого не следует, – вскричала Леля, – все это отговорка, а правды вы все-таки не говорите…
– Вы хотите, чтобы я вам все сказал? – сказал Теодор тоном неустрашимой уверенности в себе.
– И вовсе нет! Я и сама сумею отгадать правду, и никто меня не обманет…
Только скажите мне, потому что я страшно любопытна, о чем вы так таинственно шептались с тетей?
– Я могу торжественно заверить вас, что это не касается ни тети, ни вас, ни меня!!
– А кого же? Султана турецкого? – спросила Леля.
Теодор засмеялся, и на этом кончился разговор, потому что старостина подозвала к себе гостя, чтобы шепнуть ему на ухо, что скоро он получит от нее одно известие.
В чрезвычайно веселом настроении вышел Паклевский из дома на Старом Месте: судьба, очевидно, благоприятствовала ему. Он был уверен в том, что старостина, желая играть роль, устроит ему свидание с Млодзеевским, а, кроме того, и генеральская дочка очаровывала его своей веселостью, болтливостью и грацией беззаботной пташки. Теодор не мог бы сказать, что он влюбился в нее, но она не выходила у него из ума, и при одной мысли о ней сердце его билось учащенно, но слишком велико было расстояние между дочкой генерала и бедным шляхтичем Паклевским. Он мог болтать и смеяться с нею, мог без памяти влюбиться в нее, но просить ее руки – это уж было совершенно невозможно… Он вздохнул; девушка была прелестна, но самая ее ничем не омраченная веселость доказывала, что в сердце Лели не могло ужиться серьезное чувство.
Нечего было и думать об этом…
На следующий день вечером, вернувшись из города, он нашел у себя записочку старостины, пахнувшую ее духами. В записочке некрасивым почерком и с сомнительной орфографией было изложено краткое приглашение на обед –на завтра.
О Млодзеевском даже не упоминалось.
В назначенный час Паклевский явился к дамам, и хотя в обычное время он мало заботился о свое костюме, но теперь, сам не зная зачем, он несколько раз взглянул на себя в зеркало, поправил волосы, подтянул пояс и обчистил сапоги. Очень ему хотелось иметь изящный вид.






