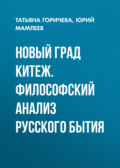Юрий Мамлеев
Мир и хохот
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта А. Шувалова
Художник А. Бондаренко
Арт-директор Ю. Буга
Корректоры О. Петрова, С. Чупахина
Компьютерная верстка М. Поташкин
В оформлении обложки использован фрагмент работы художника В. Пятницкого «Символ чистоты», 1973 г.
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Мамлеев Ю., 2003
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2021
* * *

Часть
первая
Глава 1
Сначала Алле снилась тьма. Потом она услышала во сне свой голос, точнее крик: что будет?! какими станут люди?!
Она проснулась и ощутила около себя странную пустоту. Мужа в кровати не было. «А кажется, он как будто говорил, что выйдет рано утром за молоком», – подумала она.
Комната казалась опустевшей без её Стасика. Но она сладко потянулась. Заглянула в окно, в спокойное до ужаса небо. «Туда идти далеко, там нас нет и не будет», – мелькнуло в её уме. И блаженство собственного тела захватило её. Глаза светились, и было ей двадцать девять лет от роду. Утробное счастье растекалось по всем клеточкам её тела, по самым уголкам, нежным и мягким. Ей захотелось вдруг завыть от радости самобытия. И она, не стесняясь, завыла. Но в этом вое были оттенки ужаса. Ужас от того, что блаженство тела – временно и смерть где-то здесь, как всегда. И её торжествующий крик обрывался порой в бездну и в страх. И тайная угроза смерти превращала блаженство в огненное существование тела, в безумие. Всё рушилось, и всё было на месте.
Вспомнив о разуме, она внезапно затихла. Вой перешёл в мёртвую тишину. Алла чувствовала, что её дух помещён в оболочку, называемую плотью, но там тепло и уютно, и в этой оболочке – её защита от незримых демонов, блуждающих в невидимом. Алла погладила свою ножку. В конце концов, она счастлива, оттого что жива. Чего ещё надо? Нет, надо много, много. Чего? Жизни – огромной, всё заполняющей, полубессмертной. «Пока в небо не надо», – думала она.
Разум заставил её встать. «Утро, чёрт его побери! – подумалось ей. – Где же Стасик, куда он пропал? Наверное, ищет вкусненькое».
Накинув халат, Алла подошла к зеркалу – огромному, верному, висящему в гостиной. Квартира была не без антиквариата, в шестнадцатиэтажном доме в переулке за Зубовским бульваром около Садового кольца.
Зеркало светилось, настолько оно являлось чистым и вбирающим в себя.
Алла долго, долго всматривалась. И внезапно вздрогнула. В сиянии своих глаз она увидела мёртвую точку. Две мёртвые точки в каждом. Она стала пристально вглядываться в них. Алла часто смотрела на себя в зеркало, но никогда безумие не овладевало ею, даже когда она глядела внутрь себя подолгу, медленно и неподвижно, грезя о бессмертии. Но сейчас что-то ёкнуло в родимом сердце, слышать биение которого она тоже любила. Нет, не сумасшествие, а гораздо хуже, словно оборвалось привычное бытие. Хотя подумаешь: всего лишь две мёртвые точки. Но она не могла оторваться от своих глаз. Вдруг точки исчезли. И тут же она взвизгнула от ужаса: её волосы стали казаться ей золотистыми, шевелящимися змеями. Мгновенно видение (или прозрение, как угодно) исчезло, но в глазах опять возникли две мёртво-чёрные точки. И тогда в зеркале, где-то в углу, появилось отражение Станислава, её мужа. Она обернулась: Стасик! – и задрожала всем своим блаженным телом. Никакого Стасика в комнате не было. Не было даже половины Стасика. «Бред!» Она опять взглянула в зеркало, и опять в нём явственно плыло отражение мужа. «Я погибла», – мелькнуло в уме. Оглянулась и заметалась по квартире: где Стасик, где прячется, где? В конце концов, ему около сорока – это не возраст для игры в прятки.
Но Стасика нигде не оказалось. Наконец она наткнулась взглядом на лист бумаги на письменном столе. Там было крупно написано: «Меня не ищи. Живи себе спокойно. И не заглядывайся в зеркало. Был твой Стас».
Алла ошарашилась. Подумала: её окружение слегка странное. Одних необычных книг сколько в шкафах, но такого она не ожидала! Не только её друзья, но почти все люди чуть-чуть странноватые, но Стасик…
Растерянно она снова взглянула в зеркало и отпрянула, закричав, словно истерика вошла во всё её тело: в зеркале она увидела лохматое, небритое лицо Стасика, мужа. Он улыбался гнилостным, несвойственным ему образом. Впрочем, глаза уже были почти не его.
Алла бросилась к телефону, и одновременно ей показалось, что прекрасные волосы её, словно превратившиеся в змей, зашевелились на голове, точно желая увести её в ад. «И это мои волосы!» – завопила она в уме. Дрожащими изнеженными пальчиками набрала номер сестры.
– Ксюша, приходи ко мне! срочно! срочно! Жду тебя у подъезда! – ломано выговорила Алла.
И потусторонней пулей вылетела из квартиры, накинув на себя что попало, благо стояло лето.
Ксюша, Ксения, родная сестра, жила рядом, в десяти минутах бегом, и, перепуганная, пухленькая, она скоро явилась.
Алла бросилась ей на шею, надеясь на родство.
– Ксюшка, спаси, я сошла с ума, или, наоборот, мир спятил! – только и произнесла она.
– Чаю надо выпить, чаю, хорошего, крепкого, и всё пройдёт! – пробормотала, полуобомлев, Ксюшенька. Потом опомнилась:
– Скажи, что? что случилось? Кто? Что?
– Стасик ушёл!
– Как? Ни с того ни с сего? Он спятил?
– Хуже того! В зеркале он остался. Если не боишься, пойдём в квартиру.
Ксюшенька взглянула ей честно в глаза:
– Ты же знаешь, я многого боюсь! – воскликнула она, похолодев.
– Но всё-таки зайдём. Вдвоём не страшно. И тут же позвоним кому-нибудь из наших…
– Звонить надо Нил Палычу Кроткову. Без него в замогильщине не обойдёшься, – брякнула Ксюша, заходя в переднюю.
И тут же раздался телефонный звонок. Странно-скрипучий, неживой, но полный знания голос прокаркал, что морг пока пустует.
Алла бросила трубку и, забыв о смерти, ринулась в глубь квартиры. Ксюша, побродив по коридору, спохватилась и позвонила Нил Палычу Кроткову.
Алла, побледнев, вышла из гостиной и произнесла:
– Вещички-то уже не так стоят… Слоник на столе не туда повернулся, я точно помню – он в дверь смотрел, а теперь в окно. Часы, часы сдвинуты! – Её голос дрожал. – Оно не так, как было до того.
– Что оно?! Время, время-то сколько? – запричитала Ксюша.
– Какое время? Времени нет! – вскрикнула Алла. – Всё приостановлено!
– Да не всё, что ты бредишь? Давай-ка я взгляну в зеркало.
Ксюша подошла, чтобы посмотреть на себя, таинственно любимую, и тоненько взвыла, отбежав. Она увидела себя – да, да, это была она, Ксюша внутренне почувствовала это, – и на неё глядел толстый мальчик на игрушечном коне, с сумасшедше-изнеженным лицом.
– Смерть моя! – утробно отшатнулась Ксюша на диван.
Алла подскочила, стали разбираться – что, как, почему… и расплакались.
– Разум покидает мир, Ксения, – медленно проговорила Алла и поцеловала сестру в щёчку.
– Кошку, кошку сюда! – пробормотала в ответ Ксения. – Кошки всё поймут.
В это время в дверь осторожно постучали – Нил Палыч Кротков никогда не звонил в квартиру, а всегда стучал.
– На мой стук и мёртвые откликаются, – шамкая, говорил этот прозорливый, по слухам, старичок.
И он вошёл: болотный какой-то, потёртый, в шляпе, с седой копной волос и голубыми остановившимися глазками, какие были у него, наверное, ещё до рождения на свет.
– Нилушка, спаси! – бросилась к нему Ксюша.
И сёстры наперебой, Ксюша – подвизгивая и подвывая, Алла – вдруг холодно и интеллектуально, стали раскрывать происшедшее старичку.
Нил Палыч помолчал, только чмокнул и опустошённо поглядел на сестёр, как будто их не было. И осторожно стал осматривать квартиру; сёстры же смирно сидели на диване, как будто их прихлопнули неземным умом.
– Ох, горе, горе! – только приговаривала Ксюша машинально.
Откуда-то из углов доносился голос Нил Палыча:
– Всё понятно… Всё на месте… Ещё Парацельс говорил…
Но особенно Нил Палыч упирал на то, что ему всё понятно.
Подошёл к зеркалу, заглянул, крякнул, но не упал, устоял всё-таки на ногах. Пробормотал только по-чёрному:
– Ничего, ничего… Это всё я предвидел… Я так и думал… Альберт Великий в этих случаях…
И вышел, шаркая ножками, куда-то в сторону.
Сёстры, встряхнувшись, словно от высшей пыли, поползли за ним, но тут Алла весело-безумно вскрикнула:
– Тень, тень его! Тень Стасика моего!
И Ксюша увидела на стене за спиной Нил Палыча огромную тень зятя своего, мужа сестры.
Но самого Станислава Семёновича, увы, нигде не было, да и тень кралась непомерно огромная, словно отделившаяся от своего создателя и источника. И, сама по себе, она ползла по стене за Нил Палычем, точно готовясь обнять его – широко и навсегда.
На крик Нил Палыч обернулся, и дорождённые, голубые глаза, будто выскочившие из самих себя, говорили, что дело плохо.
– Где Стасик-то, где сам Стасик? – заметалась Алла, бегая из комнаты в комнату и заглядывая даже под кровать.
Ксюша же опустилась перед тенью на колени, словно каясь ей.
– Прости нас, Стася, прости, – вырвалось из её уст.
И тут Нил Палыч подпрыгнул. В жизни он никогда не прыгал, а тут подпрыгнул.
– Вот этого я не ожидал! Всё теперь непонятно! Какой же я дурак! – заголосил он резвым, не стариковским, а даже полубабьим голосом. – Всё сместилось!.. Боже мой! Боже мой! Как же я не понял непонятное! Боже мой!..
И он истерично заторопился к выходу.
– Какие тут тайные науки! Ни при чём тайна!.. Всё ушло, всё перевернулось!! Это же ясно было видно в зеркале!.. Ну и ну!
И, схватив себя за ухо, Нил Палыч выскочил из квартиры.
Сёстры обалдели. Вдруг наступила тишина. И они тоже замолкли.
Внезапно сёстры почувствовали, что тишина благосклонна. Они осторожно стали ходить по квартире; всё затихло, как после катастрофы. Заглянули в зеркало: там на удивление всё нормально, словно мир опять получил разрешение временно быть.
Сёстры облегчённо разрыдались.
– Я поняла, с каждым новым рождением я буду всё изнеженней и изнеженней, – сказала наконец Ксения. – Пока не растекусь по вселенной от нежности.
– Что ты говоришь, золотко, – сказала Алла, она была чуть постарше сестры и жалела её часто ни с того ни с сего. – От всё большей и большей изнеженности ты будешь, наоборот, сосредоточиваться, станешь бесконечным и нежным центром… И меня втянешь в своё нутро, – улыбнулась Алла своим мыслям.
– Так что же нам делать? – пискнула Ксения.
– Ничего. Продолжать жить. Разум уходит из мира. Ну и бог с ним!
Алла встала.
Ужас необъяснимого ушёл. Но где Стасик?! Что с ним?! Что?! Одна рана за другой…
Глава 2
Степан Милый (такова уж была его фамилия) лежал на траве. Вокруг на расстоянии тысячи километров суетились люди, летали взад и вперёд самолёты, не своим голосом кричали убитые, а он всё лежал и лежал, глядя на верхушки деревьев. Давно в небо не смотрел.
Если и видел он что-нибудь в небе, то только одних пауков. Таково было его видение. Ни жить, ни умирать не хотелось. Хотелось другого, невиданного. Впрочем, желание это было настолько смиренным, что даже не походило на желание.
И тогда Степанушка запел. И петь как раз он любил в далёкое небо, как будто там были – по ту сторону синевы и пауков – невидимые, но почтительные слушатели.
«Не надо так много мраку», – всегда думалось ему, когда он пел.
Пел он не песни, а несуразно дикое завывание, которое он поэтизировал.
Наконец привстал.
«Как разрослась Москва, однако», – мелькнула мысль.
Мысли Степанушка не любил. Да и Москва порой казалась ему до сих пор огромной, но загадочной деревней всего мира.
И всё-таки посмотрел на людей.
«Ну куда так торопятся, куда бегут? От смерти, что ли, прячутся, – зевнув, подумал он. – От смерти лучше всего спрятаться сиднем».
И угрюмо-весело пошёл вперёд во двор, приютившийся между полунебоскрёбами.
Под кустами, за деревянным столом, точно укрывшись от небосклона, пили пиво ребята лет двадцати.
Степан подошёл. Был он совершенно неопределённого возраста, кто дал бы ему сорок, кто тридцать, а кто и пятьдесят.
Ребята, увидев его, замерли, как во сне, сами не зная почему. Один из них квакнул. А Степан всего лишь подошёл и поцеловал одного из них, большого, в нос, выпил его пиво и пошёл себе дальше рассматривать пауков в небесах.
Но теперь он уже не пел.
Ребята переглянулись.
А Степан Милый быстренько себе юркнул в подземную пасть метро.
– Говорят, пол-Москвы под землёй прячется от грехов и бед, – зевнув, слегка толкнул толстую бабу. – Под землёй хорошо! Я люблю метро, – гаркнул он в ухо проходящей даме.
…В вагоне было удобно, душевно тепло от множества народу. Реяло всё-таки и что-то нездешнее. Милому тут же уступили место. Он сел и решил просто покататься взад и вперёд, благо линия метро была длинная – километров сорок-пятьдесят поди. Он много лет так и катался бы туда и обратно, если бы разрешили. Больше всего Милый не любил что-то совершать.
А вот на лица до боли родных людей вокруг, в вагонах, – это хлебом не корми, только дай ему их созерцать. Степан вспомнил тут же свою небывалую девочку-вещунью, лет тринадцати, с которой он обожал гулять по дворам или ездить в метро.
«Маленькая, а по глазам всё узнавала про каждого. Открывались ей глаза. И порой такое расскажет мне про них! Я после этого дня три отдыхал, никого не видя, – тихо вспоминал Степан в метро. – Такая уж дочка у меня была, суть вскрывала, как будто голову с человека срезала…»
Сам же Степан тоже кое-что понимал в людях. Но когда он сосредоточивался в метро на них, то лицо вдруг исчезало, и суть тоже, а вместо этого виделась ему глубокая тёмная яма, наполненная, однако, смыслом, далёким от человеков.
Так получилось и сейчас. Пространство, яма, бездна всё углублялась и углублялась, втягивая в себя глаза и лицо созерцаемого, не оставляя ничего желанного для поцелуя.
Но Степан мог возвратить. И когда опять для его квазибессмысленного взора выплывали какие-нибудь черты лица, то порой он не отказывал себе в желании поманить пальцем это лицо.
Так вышло и сейчас – с одинокой девушкой, бедной и похожей на живую ромашку. Только щёчки красненькие. И Степан поманил, и лицо девушки явственно выплыло из бездны. «Живая», – с умилением подумал Милый. Девушка улыбнулась ему и опять пропала.
«Слишком далёк я сегодня, потому всё и пропадает, – размышлял Степан. – Эх, горемычные все, горемычные. Но до чего же хороши, когда пусть из могилы, но живые! Живым быть неплохо, но для меня немного скучновато. С мёртвыми веселей мне, но тоже не то… Не туда я попал, наверное…»
На мгновение Степану показалось, что весь мир умер, но мгновенно воскрес как ни в чём не бывало. И таким образом мигал ещё некоторое время – сколько, трудно было ему сказать. Степан не считал время за реальность и не носил часы. А мир всё мигал и мигал: то умер, то воскрес.
– Хорошо мне в этом чёртовом теле человечьем, – облизнулся Степан. – Мигай себе, мигай, – обратился он к миру. – Домигаешься…
Девушка-ромашка вдруг дёрнула его за пиджак. Глаза её были чисты перед Богом.
– Дяденька, который час? – спросила она.
И тогда Милый захохотал. Еле сдерживаясь, трясясь всем телом, наклонился к большому уху этой маленькой девочки.
– Ты следишь за временем, дочка? – давясь, спросил он. – Живи так, как будто ты на том свете, тогда и времени никакого не надо будет…
Девушка опять улыбнулась и ответила, что всё поняла.
– Ишь какая ты прыткая. – Степану захотелось даже обнять девушку. – Всё даже Бог не знает. А тебе сколько лет?
– Шестнадцать.
Степан с грустью посмотрел на неё:
– А я вижу, что тебе уже исполнилось восемьдесят.
Девушка расширила глаза, но в это время раздался в вагоне не то крик, не то полувопль:
– Подайте, граждане, герою всех войн на пропитание!!!
За толпой людей было непонятно, кто это, но вокруг, как это ни странно, подавали.
Поезд остановился, и Степан выскочил и поехал в обратную сторону. В обратной стороне он обо всём забыл и не видел ничего, кроме своего сознания.
Тем не менее ему показалось, что все улыбаются ему. И он приветствовал всех – но где-то там, где они были ещё не рождённые, в белой тьме бездны…
«Хорошо бы и мне там сидеть», – время от времени мелькало в уходящем уме.
Какой-то старичок помахал ему шляпой. И Милый опять выскочил на поверхность, не думая о том, чтобы ехать куда-нибудь. Сел на скамейку и застыл. На душе было как в яме.
«Загадочный я всё-таки», – усмехнулся в лицо деревцам.
Часа через полтора подумал: «Куда же идтить?»
Вокруг толпами полубежали люди, кто с работы, кто на работу… «А кто и на луну, – подумалось Степану. – Все бегут и бегут. Помоги им, Господи! Но и наших среди них – много. Копни почти каждого – в глуби он наш…»
И тут же вспомнил: «Конечно, к Ксюше надо подъехать! У неё просторно – в душе прежде всего! Как это я о ней вдруг забыл!»
И небесно-болотные глаза его замутились.
«Ксюша – это хорошо. Она весь мир грудями понимает, не то что я. Пойду поскачу туда».
И в ушах Стёпушки зазвучало что-то раздольное.
«Но туда надо ещё добраться», – вспомнилось ему.
И тут же понёсся к непонятно-родной Ксюше.
Вбежал в автобус, удивился, что люди молчат там, не беседуют друг с другом. («Устали, наверное, бедные», – случайно подумалось ему.) Мимо автобуса тут и там пыхтели какие-то строительства, дым шёл в небо. («Неугомонные», – опять подумал он.)
И вдруг не удержался, увидев лужайку между домами. Оттолкнув погружённую в свои расчёты старушку, на ходу выскочил из автобуса.
А на лужайке как-то незабываемо стал кататься по траве. Степан любил траву, может быть, ещё больше, чем её любят коровы. И не прочь был вздохнуть могучей своей грудью, когда на глаза попадалась трава. Но превыше этого – Степан Милый любил кататься по траве, эдаким непостижимым порядку шаром, пузырём, перекати-полем. Мысли тогда в голове появлялись, хоть в обычном виде он не терпел мысль.
На сей раз окружающие, видимо, были так забиты жизнью или просто заняты, что никто не обратил на него внимания. Даже милиционер, сидевший на скамейке, заснул при нём, при катающемся Степане. Одна только старушка, бегущая от самой себя, шамкнула полунесуществующим ртом:
– Ишь, спортсмен!
Накатавшись кубарем, Милый встал. Огляделся, посмотрел в небо. На этот раз Белая Бездна – к небу она имела косвенное отношение – охватила его до ног. Сознание его слилось с этой Бездной, и в Ней ему было хорошо, хотя и страшновато немного. Потому что за Пустотой скрывалось такое, – а «что», он и не знал, но ему всегда в таких видениях или в случаях хотелось кричать, чтобы криком заглушить Первоначало.
И Милый хотел было и сейчас – крик дикой волной поднимался из нутра, – но сознание его, слившееся с Бездной, утихомирило всё. Он взглянул в пространство, увидел, что никого и ничего нет, махнул рукой и через минуту впал в обычное, человечное состояние. Сразу появились дома, окна, самолёты, автомобили и прочая чепуха.
Милому захотелось пивка. Его тянуло на пивко после Неописуемого. Подошёл к ларьку, бутылка как-то сама влезла в горло, он и не заметил, что слегка поддерживает её двумя пальцами. Продавщица, увидев его, охнула. «Далеко пойдёт», – подумал, глядя на неё, охающую, Милый.
Попив вволю, побежал к автобусу, к Ксюше. Он любил после встречи с Неописуемым устремиться к Ксюше. «Это потому, что она Россию любит», – решал он про неё.
В автобусе было тихо, словно там собрались гномы. Народа почти не было. А ведь Милый любил людей, да и гномов жаловал.
В окне было скучно, и Милому вдруг ни с того ни с сего вспомнился давний эпизод из его тогда ещё юной жизни. Он вспомнил, как на опушке лесочка пригрел незнакомую девку на пне. Девке нравилось, она визжала по-кошачьи, а Степан её утешал. Да ему и самому было тепло во всём теле. Но что в этом особенного, если даже на пне, – дело таилось в другом. Степан точно знал, что всё это произошло примерно пятьдесят лет назад, когда его ещё на свете не было. Например, помнил, что Сталин был ещё жив тогда и ещё газета в кармане была о вожде. Нелепица получается, несуразица. Ничего не сходится. Но чем несуразней, чем больше ничего никогда не сходилось во веки веков – тем более Степан знал, что это и есть правда. Потому он и не сомневался, что так было: случилось его соитие на пне с незнакомой девкой, когда его самого ещё на свете не было.
«Тут всё ясно», – улыбался сам себе Степан, когда уже подъезжал к знакомому полунебоскрёбу, где жила Ксюша.
Бодренько соскочил с сиденья – не пень это был на сей раз, не пень! А впрочем, почему бы в автобусах не сидеть на пнях, как в лесу? Удовольствия больше. Подходя к подъезду, Степан тихонько запел. В кармане его потрёпанного старого пиджака лежала бумага, в которой чёрным по белому было написано, что он, Степан Милый, представляет тайную ценность. Коротко и без всяких объяснений – почему. Стояла печать, даже мощный герб – но никому не известного государства. Даты не было. Степан и сам не знал, как эта бумага к нему попала. Но очень дорожил ею, пугая этим письмом пьяных милиционеров.