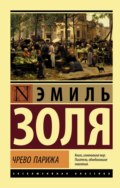Эмиль Золя
Пена. Дамское Счастье
– Я вложил в него триста тысяч франков! Мой архитектор уверял, что это очень выгодное предприятие. Так вот, нынче оно никак не окупается; вдобавок все мои дети устроились жить здесь, не платя при этом ни гроша за квартиру, и я никогда ничего не выручал бы, если бы сам лично не являлся пятнадцатого числа за квартирной платой… К счастью, работа – единственное мое утешение.
– Стало быть, вы по-прежнему много работаете? – осведомился Жоссеран.
– Увы, по-прежнему, по-прежнему! – ответил старик в порыве бессильного отчаяния. – В работе вся моя жизнь.
И он посвятил собеседника в свой великий проект. Вот уже десять лет, как он изучает официальный каталог ежегодного Салона живописи, занося в карточки с именами художников названия выставленных картин. Он говорил об этом с усталой, тоскливой гримасой: ему едва хватает времени на составление годичного каталога; этот напряженный труд отнимает у него все силы; взять, например, женщин-художниц: если какая-то из них выходит замуж, а потом выставляется под мужней фамилией, то как, скажите на милость, он может ее распознать?!
– О, моим трудам не видно конца, вот что меня убивает! – прошептал он.
– Вы, стало быть, интересуетесь искусством? – спросил Жоссеран, желая польстить старику.
Вабр взглянул на него с изумлением:
– Да нет же, мне вовсе не нужно смотреть на картины. Это чисто статистический труд… Ох, мне бы лучше пойти спать, чтобы завтра встать со свежими силами. Доброго вам вечера, сударь!
Он встал, опираясь на трость, с которой не расставался даже в гостях, и заковылял к выходу, согнувшись в три погибели, – ноги уже отказывали ему. А Жоссеран стоял в растерянности, так и не поняв причины ухода старика; он опасался, что не проявил к его картотеке должного интереса.
Возгласы, донесшиеся из большой гостиной, заставили Трюбло и Октава подойти к дверям. Они увидали входившую даму лет пятидесяти, пышнотелую, но все еще красивую; за ней следовал молодой человек, благопристойный и серьезный с виду.
– Вот как, они уже и визиты наносят вместе! – прошептал Трюбло. – Ну и ну, совсем стыд потеряли!
Это были мадам Дамбревиль и Леон Жоссеран. Она собиралась его женить, но пока что держала при себе; сейчас эта пара переживала медовый месяц и беззастенчиво выставляла свою связь на общее обозрение во всех светских гостиных. Матери девушек на выданье зашептались между собой. Однако Клотильда Дюверье встала и поспешила приветствовать гостью, которая поставляла ей молодых людей для домашних хоровых концертов. Госпожа Жоссеран тут же перехватила у нее мадам Дамбревиль и осыпала ее уверениями в дружеских чувствах, посчитав, что такое знакомство может оказаться полезным. Леон холодно поздоровался с матерью; тем не менее она с самого начала этой связи надеялась, что сын извлечет из нее хоть какую-то пользу.
– Берта еще не видела, что вы пришли, – сказала она мадам Дамбревиль. – Извините ее, она сейчас рассказывает господину Огюсту про одно лекарство, которое может быть для него полезно.
– Ну и прекрасно, оставим их в покое, им хорошо и без нас, – ответила дама, мгновенно оценив ситуацию.
И обе они с материнской заботой взглянули на Берту. Ей удалось загнать Огюста в оконную нишу и удерживать там; она говорила, изящно жестикулируя, а он явно оживлялся, хотя это грозило ему мигренью.
Тем временем группа солидных мужчин в малой гостиной беседовала о политике. Накануне в сенате состоялось бурное заседание по поводу ситуации в Риме; там обсуждалось письмо протеста, обращенного к правительству[3]. Доктор Жюйера, атеист и человек революционных взглядов, утверждал, что Рим нужно отдать под эгиду короля Италии; в отличие от него, аббат Модюи, один из вождей партии ультрамонтанов, пророчил самые что ни на есть ужасные события, если Франция не будет бороться до последней капли крови за папское правление.
– Хотелось бы надеяться, что обе стороны еще найдут какой-нибудь modus vivendi[4], – заключил подошедший к ним Леон Жоссеран.
В настоящее время Леон был секретарем знаменитого адвоката, депутата от левой партии. В течение двух лет этот юноша, не надеясь на помощь родителей, которых презирал за скудное существование, слонялся по улочкам Латинского квартала, произнося речи и щеголяя пылкой демагогией. Однако стоило ему попасть к Дамбревилям, как он тут же остепенился, притих и сделался самым что ни на есть умеренным республиканцем.
– Нет, – возразил священник, – на мирное соглашение и надеяться нечего. Церковь никогда на это не пойдет.
– Значит, она погибнет! – вскричал доктор.
Эти двое, даром что тесно связанные друг с другом – поскольку они встречались у изголовья всех умирающих в квартале Сен-Рош, – выглядели полными антиподами: врач был худым, раздражительным субъектом, викарий – дородным и покладистым. С его лица не сходила любезная улыбочка; даже в самых яростных словесных схватках он вел себя и как светский человек, философски относившийся к житейским бедствиям, и одновременно как убежденный католик, ни на йоту не уступавший собеседнику, когда дело касалось религиозных догматов.
– Но это немыслимо, Церковь не может погибнуть! – пылко воскликнул Кампардон, стремясь задобрить священника, от которого ждал заказов на церковные работы.
Впрочем, он был не одинок, так полагали все присутствующие господа: она не могла погибнуть. И только один-единственный человек – Теофиль Вабр, кашлявший, харкавший мокротой, трясущийся от лихорадки, – мечтал о всеобщем, универсальном счастье через создание подлинно гуманной республики; он был единственным, кто утверждал, что в этом случае и Церковь, может быть, преобразуется.
Священник же, помолчав, продолжал своим бархатным голосом:
– Империя изживает себя. Вы убедитесь в этом через год, на выборах.
– О, что касается Империи, мы охотно позволим вам избавить нас от нее, – решительно заявил врач. – Этим вы окажете обществу огромную услугу.
При этих словах Дюверье, внимательно слушавший этот диспут, покачал головой. Сам он родился в семье, приверженной Орлеанской ветви Бурбонов[5], однако своим благополучием был обязан Империи и посчитал необходимым встать на ее защиту.
– Поверьте мне, – твердо объявил он наконец, – подрывать основы общества крайне опасно, иначе рухнет все… Общественные потрясения в первую очередь неизбежно обрушиваются на нас самих.
– Весьма справедливо! – воскликнул Жоссеран; у него не было собственного мнения, но он прекрасно помнил наказ своей супруги.
И тут заговорили все разом. Никто из них не любил Империю. Доктор Жюйера осуждал Мексиканскую экспедицию[6], аббат Модюи не признавал королевский режим Италии. Однако Теофиль Вабр и даже сам Леон встревожились, когда Дюверье пригрозил им новым девяносто третьим годом. Ну к чему все эти постоянные революции?! Разве свобода не завоевана?! Ненависть к новым, смелым идеям и страх перед народом, желавшим получить свою долю благополучия, заставляли этих сытых господ умерить свой либерализм. Как бы то ни было, все объявили, что будут голосовать против императора, – он заслужил такой урок!
– Ох, до чего же они мне надоели! – сказал Трюбло, безуспешно пытавшийся вникнуть в суть диспута.
Тем временем Октав решил вернуться к дамам. Берта, в амбразуре окна, все еще обольщала Огюста своим серебристым смехом, и этот хилый долговязый малый забыл о своем страхе перед женщинами. Он залился густым румянцем, слушая переливчатый смех девушки, чье дыхание щекотало ему лицо. Тем не менее госпожа Жоссеран сочла, что процедура обольщения слишком уж затянулась; она пристально посмотрела на Ортанс, и та покорно отправилась на подмогу сестре.
– Надеюсь, вы уже хорошо себя чувствуете, мадам? – осмелился спросить Октав у Валери.
– Прекрасно, сударь, благодарю вас, – ответила она так невозмутимо, словно ничего не помнила.
Мадам Жюзер заговорила с Октавом о старинном кружеве, которое хотела ему показать, дабы узнать его мнение, и молодому человеку пришлось обещать зайти к ней ненадолго завтра же. Потом, увидев аббата Модюи, вернувшегося в большую гостиную, она подозвала его к себе и усадила рядом, взирая на него с восхищением.
Но общая беседа все еще продолжалась: теперь дамы обсуждали прислугу.
– Ах, боже мой, я, конечно, очень довольна нашей Клеманс! – объявила госпожа Дюверье. – Она такая опрятная девушка и к тому же расторопная.
– А что же ваш Ипполит? – спросила госпожа Жоссеран. – Вы ведь как будто собирались его рассчитать?
Как раз в этот момент Ипполит, камердинер хозяйки, высокий, сильный, цветущий молодой человек, начал разносить мороженое. Когда он отошел подальше, Клотильда ответила с легким смущением:
– Мы решили его оставить. Менять прислугу так хлопотно! Понимаете, слуги привыкают друг к другу, а я очень дорожу своей Клеманс…
Госпожа Жоссеран горячо одобрила такое решение – она почуяла, что затронула деликатную тему. Хозяева надеялись когда-нибудь поженить этих молодых людей, и аббат Модюи, с которым посоветовались супруги Дюверье, тихонько кивал, словно желая прикрыть ситуацию, уже известную всему дому, хотя вслух никто об этом не говорил. Теперь дамы без стеснения заговорили о других слугах: нынче утром Валери уволила свою горничную – это была уже третья за неделю; мадам Жюзер решилась взять в сиротском приюте пятнадцатилетнюю девочку, чтобы обучить ее прислуживать; что же касается госпожи Жоссеран, та не уставала бранить Адель – грязнулю, неумеху, – рассказывая о ней всякие ужасы.
И все они, разомлев в мягком сиянии свечей и в цветочных ароматах, перебирали истории своих слуг, рассказывали о жульнических записях в расходных книгах, возмущались наглостью кучеров или посудомоек.
– А вы видели Жюли? – неожиданно спросил Трюбло у Октава, состроив загадочную мину. И поскольку тот непонимающе смотрел на него, добавил: – Дорогой мой, это такая штучка!.. Сходите посмотрите на нее. Сделайте вид, будто вам что-то нужно, и загляните в кухню… Ну и штучка, скажу я вам!
Он говорил о кухарке четы Дюверье. Тем временем дамы уже сменили тему: госпожа Жоссеран с преувеличенным восторгом описывала имение Дюверье, расположенное в Вильнёв-Сен-Жорж, на самом деле довольно скромное; по правде говоря, она видела его лишь издали, из окна вагона, по дороге в Фонтенбло. Но Клотильда не любила деревню и наведывалась туда довольно редко, разве что во время каникул своего сына Гюстава, учившегося в предпоследнем классе лицея Бонапарта.
– Каролина хорошо делает, что не заводит детей! – объявила она, обращаясь к госпоже Эдуэн, сидевшей через два стула от нее. – Эти крошечные создания просто переворачивают всю вашу привычную жизнь!
Но та ответила, что очень любит детей. Просто она вечно занята: ее муж беспрестанно разъезжает по всей Франции, и все заботы по дому и магазину ложатся на нее.
Октав, стоявший за стулом своей хозяйки, исподтишка разглядывал иссиня-черные завитки волос на ее затылке и белоснежную грудь в низком декольте, терявшуюся в пене кружев. Она приводила его в крайнее смущение своим неизменным спокойствием, немногословием и постоянной прекрасной улыбкой; никогда еще он не встречал такой женщины, даже в Марселе. Нет, он готов вечно работать в ее магазине, лишь бы дождаться удачи!
– Дети так быстро старят женщин! – сказал он, наклонившись к госпоже Эдуэн; ему не терпелось заговорить с ней, и он не нашел никакой другой темы.
Она медленно подняла большие глаза, взглянула на него и ответила тем же будничным тоном, каким отдавала распоряжения в магазине:
– О нет, господин Октав, со мной дело обстоит иначе… Мне просто не хватает времени, вот и все.
Но тут в разговор вмешалась госпожа Дюверье. Когда Кампардон представил ей молодого человека, она поздоровалась с ним только легким кивком, зато сейчас пристально разглядывала его и слушала, не скрывая внезапного интереса к этому гостю. Услышав, как он болтает с ее подругой, она не удержалась от вопроса:
– Простите, сударь… Какой у вас голос?
Октав не сразу понял ее, затем, уразумев смысл, ответил, что у него тенор. Клотильда пришла в восторг:
– Неужто тенор?! Господи, какая удача, тенора нынче так редки! Взять хотя бы «Благословение кинжалов»[7], которое мы собираемся исполнить: среди знакомых нашлось всего три тенора, тогда как для этого произведения требуется не меньше пяти!
У нее заблестели глаза; она была взволнована до глубины души и, похоже, едва сдерживалась, чтобы тотчас же не сесть за рояль и не проверить его голос. Октаву пришлось обещать ей прийти как-нибудь вечером. Трюбло, стоявший позади, подталкивал его локтем, скрывая под внешним безразличием злорадное ликование.
– Ага, вот вы и попались! – шепнул он Октаву, когда хозяйка дома отошла от них. – У меня, мой дорогой, она сперва обнаружила баритон, затем, убедившись, что дело не идет, попробовала в амплуа тенора, но и тут ничего не вышло… в результате нынче вечером она использует меня в басовой партии… Я исполняю арию монаха.
Но тут ему пришлось покинуть Октава: Клотильда Дюверье подозвала его к себе, сейчас мужчины должны были спеть хором довольно большой фрагмент – главный номер вечера. Началась суматоха. Полтора десятка мужчин – все певцы-любители, набранные из числа друзей дома, – с трудом прокладывали себе дорогу между дамами, чтобы выстроиться у рояля. Они то и дело застревали в толпе, извинялись, хотя их было едва слышно в общем гомоне, а веера дам колыхались все быстрее в усиливающейся жаре. Наконец госпожа Дюверье сосчитала исполнителей: все были на месте, и она раздала им ноты, собственноручно ею переписанные. Кампардон исполнял партию графа Сен-Бри, молодому аудитору Государственного совета достался отрывок арии Невера; за ними шли партии восьми сеньоров, четырех старшин-эшевенов и трех монахов, в исполнении адвокатов, служащих и простых рантье.
Сама хозяйка дома должна была аккомпанировать певцам, а сверх того, оставила за собой партию Валентины, состоявшую из страстных воплей, которые она испускала под гром своих аккордов; ей не хотелось допускать других женщин-исполнительниц в этот мужской ансамбль, которым она управляла с властной строгостью дирижера.
Тем временем гости продолжали беседовать; особенно бесцеремонно они шумели в малой гостиной, где разгорелась ожесточенная политическая дискуссия. Наконец Клотильда вынула из кармана ключ и легонько постучала им по крышке рояля. По комнате пронесся шепоток, голоса стихли, в дверях снова появились черные фраки мужчин, а над их головами промелькнуло лицо самого Дюверье – тоскливое, в красных пятнах. Октав по-прежнему стоял за спиной госпожи Эдуэн, якобы потупившись, а на самом деле разглядывая нежную ложбинку ее груди, обрамленной кружевами. Внезапно в установившейся тишине прозвучал громкий смех, заставивший его поднять голову. Это хохотала Берта, которую позабавила шутка Огюста: ей все же удалось разгорячить его холодную кровь, да так, что он посмел сделать какой-то фамильярный жест. Взгляды гостей обратились на эту пару; матери поджали губы, родственники Огюста изумленно переглянулись.

– Ах, какая шалунья! – умиленно прошептала госпожа Жоссеран, достаточно громко, чтобы ее услышали.
Ортанс, стоявшая рядом с ними, вторила сестре с шутливым усердием, подталкивая ее к молодому человеку; свежий воздух, врывавшийся в приоткрытое окно за их спинами, легонько колыхал длинные красные шелковые занавеси.
Но тут раздался замогильный бас, и все головы повернулись к роялю. Кампардон, широко открыв рот, обрамленный взметнувшейся в порыве артистического вдохновения бородой, исполнил речитатив, открывающий сцену:
«Итак, мы здесь сошлись по воле королевы!»
В тот же миг Клотильда проиграла восходящую, затем нисходящую гамму, после чего, воздев глаза к потолку, испустила трагический вопль:
«О, я трепещу!»
И началась сцена, в которой восемь адвокатов, служащих и рантье, уткнувшись в свои партии, словно школьники, заучивающие страницу греческого текста, клялись, что готовы освободить Францию. К несчастью, этот дебют потерпел фиаско: под низким потолком квартиры голоса звучали глухо и вырождались в невнятный гул, напоминавший скрип нагруженных булыжниками повозок, от которого дрожали оконные стекла.
Однако, едва прозвучала мелодичная фраза Сен-Бри: «За это святое дело…» – вводящая главную тему произведения, дамы освоились с музыкой и понимающе закивали. Напряжение возрастало, сеньоры хором восклицали: «Клянемся!.. Мы пойдем за вами!» – и каждый такой взрыв голосов поражал гостей в самое сердце.
– Они поют слишком громко! – шепнул Октав на ухо госпоже Эдуэн.
Но она даже не шелохнулась. Тогда Октав, которому наскучил любовный дуэт Невера и Валентины (тем более что баритон – аудитор Государственного совета – пел фальшиво), завел разговор с Трюбло, который в ожидании выхода монахов показывал ему глазами на окно, где Берта продолжала очаровывать Огюста. Они остались там наедине, в легком сквознячке, проникавшем снаружи; Ортанс, которая бдительно прислушивалась к их беседе, выступила вперед, загораживая эту пару от остальных гостей и машинально теребя подхват красной занавеси. Никто больше не следил за ними; даже госпожа Жоссеран и мадам Дамбревиль, обменявшись быстрым, понимающим взглядом, отвели глаза.

Тем временем Клотильда аккомпанировала певцам; музыка целиком захватила ее: она пристально смотрела в ноты, вытянув шею, боясь отвлечься и адресуя пюпитру клятву, обращенную к Неверу:
«Отныне кровь моя лишь вам принадлежит!»
Здесь вступили эшевены – товарищ прокурора, двое поверенных и нотариус. Их квартет прозвучал яростно и вдохновенно; призыв «За это святое дело!» повторился уже куда громче, подхваченный с возрастающим воодушевлением половиной хора. Кампардон усердно разевал рот, отдавая боевые приказы утробным басом и свирепо отчеканивая каждый слог. Затем, внезапно, в дело вступили трое «монахов». Трюбло изо всех сил напрягал голос, стараясь достойно пропеть низкие ноты.
Октав, с любопытством следивший за его пением, страшно удивился, когда случайно взглянул на оконные портьеры. Ортанс, захваченная музыкой, развязала, сама того не заметив, подхват занавесей, и пунцовое шелковое полотнище надежно скрыло от посторонних глаз Огюста и Берту, прислонившихся к подоконнику. Теперь они оба были невидимы, и ни одно движение не выдавало их присутствия у окна. Октав даже отвлекся от Трюбло, который в этот миг благословлял кинжалы заговорщиков: «Благословляем вас, священные клинки!»
Чем это они заняты там, за портьерой? Вот уже началась стретта; в ответ на стенания монахов хор дружно отвечал: «Смерть им! Смерть! Смерть!» А там, за портьерой, не видно было никакого движения, – вероятно, молодые люди, разомлев от жары, просто загляделись в окно на проезжавшие фиакры… Но вот снова повторилась мелодия Сен-Бри, которую поочередно, во все горло, подхватывали другие голоса, все громче и громче подводя ее к мощному, оглушительному финальному аккорду. Это было похоже на свирепый ураган, ворвавшийся в глубину слишком тесной квартиры: от него колебались огоньки свечей, бледнели лица слушателей, болели ушные перепонки. Клотильда в яростном экстазе колотила по клавишам, прожигая взглядом певцов, но скоро их голоса приутихли, и они почти шепотом произнесли напоследок: «Итак, сойдемся в полночь! А пока – ни звука!» – после чего пианистка продолжила играть соло, постепенно сбавляя громкость и переходя к мерной поступи удалявшейся стражи.
И вот тут-то, внезапно, на фоне этих звуков, гости, уже вздохнувшие с облегчением после такого грохота, услышали жалобный голос:
– Вы делаете мне больно!
Публика снова встрепенулась, все головы дружно повернулись к окну. Мадам Дамбревиль первая решилась на благое дело: она подошла туда, отдернула портьеру, и гости увидели сконфуженного Огюста и Берту с пылающим лицом, прислонившихся к подоконнику.
– Что случилось, сокровище мое? – испуганно воскликнула госпожа Жоссеран.
– Ничего, мама… Просто мне стало жарко, Огюст решил отворить окно и нечаянно задел мое плечо…
И девушка залилась краской. Ее слова были встречены ехидными улыбками и презрительными гримасами, сулившими скандал. Госпожа Дюверье, которая вот уже целый месяц пыталась разлучить своего брата с Бертой, смертельно побледнела, тем более что этот инцидент испортил весь эффект от ее хора. Впрочем, после короткой паузы публика разразилась бурными аплодисментами, пианистку осыпа́ли похвалами, поздравляли с успехом, говорили комплименты мужчинам-исполнителям. Боже, как дивно они пели и сколько трудов госпожа Дюверье положила на то, чтобы добиться от ансамбля такого слаженного исполнения! Поистине, так не поют даже в профессиональном театре!.. Однако сквозь эту бурю комплиментов явственно пробивались шепотки, облетевшие всю гостиную: девушка слишком сильно скомпрометирована, теперь этот брак неизбежен.
– Ну, видал, как он попался, этот простачок? – шепнул Трюбло, подойдя к Октаву. – Как будто он не мог ее потискать, пока мы пели!.. Я-то думал, что он воспользуется удобным моментом: знаете, в тех гостиных, где поют, всегда можно потискать даму, а если она заверещит, наплевать – все равно никто не услышит.
Тем временем Берта, уже вполне спокойная, снова беззаботно смеялась, а Ортанс глядела на Огюста с едкой усмешкой опытной девицы; в торжестве обеих сестер чувствовались уроки их матери, нескрываемое презрение к мужчине. Гости заполонили салон, мужчины смешались с дамами, все говорили громко и оживленно. Жоссеран, перепуганный происшествием с Бертой, подошел к жене. Он с горечью слушал, как она благодарит мадам Дамбревиль, беззастенчиво перевирая факты, за доброту, с которой та относится к их сыну Леону. Его смятение усугубилось, когда госпожа Жоссеран заговорила о своих дочерях. Она делала вид, будто ведет приватную беседу с мадам Жюзер, однако все ее слова предназначались для ушей Валери и Клотильды, стоявших рядом.
– Ах, боже мой, совсем забыла: дядя Берты как раз сегодня прислал нам письмо; он обещает дать ей в приданое пятьдесят тысяч. Это, конечно, не так уж много, но зато реальные деньги!
Лживые измышления супруги возмутили Жоссерана, и он, не сдержавшись, робко тронул ее за плечо. Она обернулась и глянула на него так, что он съежился и опустил глаза, испугавшись ее злобной гримасы. Затем она обратилась к госпоже Дюверье и куда любезнее, с наигранным интересом, спросила, как себя чувствует ее отец.
– О, папа, наверно, уже лег спать, – ответила молодая женщина, покоренная ее сердечным тоном. – Он так много работает!
Жоссеран подтвердил: да, господин Вабр и в самом деле ушел к себе, чтобы назавтра встать со свежей головой. И продолжал беспомощно бормотать: такой острый ум… такие необыкновенные способности… – с ужасом размышляя, где он возьмет это приданое и как будет выглядеть в день подписания брачного контракта.
Тем временем в гостиной застучали отодвигаемые стулья: дамы переходили в столовую, где их ждал чай. Госпожа Жоссеран направилась туда же с победным видом в окружении дочерей и семейства Вабр. Вскоре в разоренной гостиной осталась только группа солидных господ. Кампардон взял в оборот аббата Модюи, толкуя ему о ремонте в капелле церкви Святого Роха: он утверждал, что готов приступить к работам хоть завтра, так как в приходе Эврё ему почти нечего делать: осталось всего лишь установить калорифер да новые печи в кухнях монсеньора, – для наблюдения за этими работами вполне достаточно одного бригадира.
Наконец священник обещал ему окончательно решить этот вопрос на ближайшем же заседании церковно-приходского совета. И оба подошли к группе гостей, которые хвалили Дюверье за текст некоего заключения, авторство которого он приписывал себе; председатель суда, с которым его связывала дружба, поручал ему несложные, но эффектные дела, чтобы дать возможность выдвинуться.
– А вы читали этот новый роман? – спросил Леон, листавший экземпляр «Ревю де дё монд», взятый со стола. – Прекрасно написано, только вот тема опять все та же – адюльтер; в конце концов, это приедается.
И беседа обратилась к супружеской морали.
– Некоторые женщины ведут себя безукоризненно! – объявил Кампардон.
Все согласились.
– Впрочем, – добавил архитектор, – даже в супружеской жизни можно кое-что позволять себе, если умело между собой договориться.
Теофиль Вабр заметил, что это зависит от жены, но не стал распространяться на данную тему. Решили спросить мнения доктора Жюйера; тот с улыбкой извинился, ограничившись общими словами: мол, добродетель зиждется на здоровье. Тем не менее Дюверье все еще не решался высказаться.
– Ах, боже мой, – прошептал он наконец, – все эти писатели преувеличивают: адюльтер крайне редок в высших слоях общества… Женщина, выросшая в добропорядочной семье, чиста, как цветок…
Он ратовал за благородные, высокие чувства и произносил слово «идеал» с волнением, увлажнявшим его глаза. Вот и сейчас он признал правоту аббата Модюи, когда этот последний заговорил о важности религиозных убеждений у жены и матери семейства. Таким образом, диспут о религии и политике продолжился с того места, на котором эти господа его прекратили. Церковь никогда не умрет, ибо она надежная основа семьи, какой всегда была для правительств.
– Наряду с полицией, но об этом я умолчу, – пробормотал доктор.
Впрочем, Дюверье не поощрял политические диспуты у себя в доме; он покосился на столовую, где Берта и Ортанс усердно потчевали Огюста бутербродами, и решительно заявил:
– Господа, я напомню вам один непреложный факт: религия облагораживает брак.
В тот же момент Трюбло, сидевший на диване подле Октава, шепнул ему на ухо:
– Кстати, не желаете ли, чтобы я устроил вам приглашение к одной даме, у которой можно поразвлечься?

И когда его приятель пожелал узнать, какого рода эта особа, указал кивком на советника суда и шепнул:
– Его любовница.
– Не может быть! – изумленно воскликнул Октав.
Трюбло прижмурился и кивнул: да, именно так. Когда женишься на такой бездушной особе, которой противна мужняя немощь и которая с утра до вечера барабанит по клавишам, сводя с ума всех окрестных собак, поневоле приходится искать утехи на стороне!
– Защитим брак от скверны разврата, господа, защитим брак! – твердил Дюверье, с постным видом святоши и вдохновенным лицом праведника, на котором Октаву чудился теперь зловещий отсвет тайных пороков.
Но тут мужчин призвали в столовую сидевшие там дамы. Аббат Модюи, на минуту задержавшийся в опустевшем салоне, наблюдал издали за всей этой суетой. На его пухлом, хитроватом лице застыло выражение печали.
Уж он-то, исповедующий этих дам и девиц, изучил их так же досконально, как доктор Жюйера, и со временем научился заботиться только о внешних приличиях как пастырь, набрасывающий на эту развращенную буржуазию покров религии и со страхом ожидающий неизбежного финального скандала, когда эта скрытая язва выйдет на свет божий. Иногда этого священника, с его чистой, пламенной верой, одолевало искреннее возмущение их нравами. Но сейчас он заставил себя улыбнуться, принимая из рук Берты чашку чая, поболтал с ней, желая прикрыть своей святостью скандальное происшествие у окна, и снова превратился в светского человека, требующего от своих прихожанок лишь одного: чтобы эти грешницы вели себя пристойно хотя бы на публике и не позорили имя Господне.
– Ничего себе! – буркнул Октав, чье почтение к этому дому получило новый удар.
Заметив, что госпожа Эдуэн направилась в прихожую, он решил догнать ее и пошел следом за Трюбло, который также собрался уходить. Октав намеревался проводить свою хозяйку. Но она отказалась: часы только-только пробили полночь, а она жила близко отсюда. В этот момент из букетика, украшавшего ее корсаж, выпала одна роза; Октав с досады поднял ее и сделал вид, будто хочет сохранить на память.
Молодая женщина нахмурила красивые брови, потом, как всегда спокойно, сказала:
– Отворите же дверь, господин Октав… Благодарю.
И она спустилась по лестнице, а он, крайне раздосадованный, пошел искать Трюбло. Но Трюбло, как давеча у Жоссеранов, куда-то исчез. Вероятно, он сбежал через кухонный коридор. И приунывшему Октаву ничего не осталось, как идти спать с розой в руке. Наверху он столкнулся с Мари, которая ждала на том же месте, где он ее оставил: она смотрела вниз, перегнувшись через перила, вслушивалась в его шаги, подстерегала его, глядя, как он поднимается. И затащила к себе со словами:
– Жюль еще не вернулся… Ну как вы там развлекались? Много ли было нарядных дам?
Она забрасывала Октава вопросами, не дожидаясь ответа. И вдруг, заметив розу у него в руке, воскликнула с детской радостью:
– Это вы мне принесли цветок? Значит, вы там подумали обо мне?.. Ах, какой вы милый… какой милый!..
Она смотрела на Октава влажными глазами, смущенная, красная от волнения.
И Октав, внезапно растрогавшись, нежно поцеловал ее.
Около часа ночи Жоссераны тоже вернулись к себе. Адель, как всегда, оставила для них в передней на стуле подсвечник и спички. Когда члены семейства, не обменявшиеся на лестнице ни словом, оказались в столовой, откуда вечером выходили в полном отчаянии, на них внезапно напало какое-то безумное веселье: взявшись за руки, они пустились в дикарский пляс вокруг стола; даже отец и тот заразился этим неуемным ликованием, мать отбивала такт, хлопая в ладоши, девицы испускали бессвязные восклицания, а свеча на столе отбрасывала их огромные тени, метавшиеся по стенам.
– Ну наконец-то, дело сделано! – вскричала госпожа Жоссеран, рухнув на стул и шумно отдуваясь. Но тут же встала и, подбежав к Берте, наградила ее двумя смачными поцелуями в щеки. – Ах, как я довольна, я очень довольна тобой, душечка! Ты вознаградила меня за все мои усилия… Бедная доченька, бедная моя девочка, на сей раз это удалось!
Ее голос прерывался от волнения, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она задыхалась в своем огненно-красном платье от нахлынувшего глубокого, искреннего волнения в этот миг торжества, после трех зим изнурительной осады. Берте пришлось поклясться, что она хорошо себя чувствует, ибо мать, сочтя ее бледной, засуетилась и решила непременно приготовить ей чашку липового отвара. А когда Берта наконец легла спать, мать вошла в ее комнату и заботливо подоткнула одеяло дочери, как в далекие дни ее детства.
Тем временем Жоссеран поджидал супругу в постели. Она задула свечу, перебралась через него, чтобы лечь к стенке. А ее муж никак не мог заснуть, размышляя о случившемся, терзаясь сомнениями и угрызениями совести из-за ложного обещания пятидесяти тысяч франков приданого. И наконец решился высказаться вслух. К чему было давать такое обещание, если неизвестно, удастся ли его сдержать?! Ведь это нечестно!