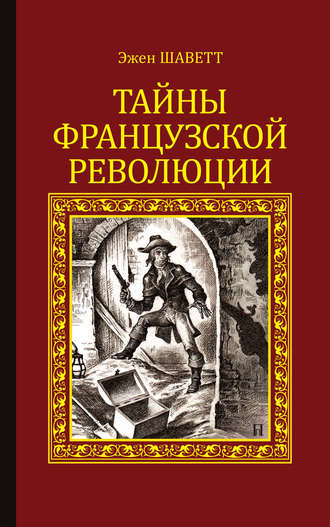
Эжен Шаветт
Тайны французской революции
© ООО «Издательство „Вече“», 2014
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016
Об авторе
Французский писатель Эжен Шаветт родился 28 июня 1827 года в семье знаменитого парижского ресторатора господина Жозефа Вашетта, чьи уютные кафе на Монмартре пользовались особой популярностью среди литераторов. Человек строгого нрава и железных принципов, господин Вашетт хотел, чтобы его сын Эжен стал нотариусом. Но молодой человек, с детства окруженный людьми оригинальными, творческими, увлекся театром и втайне от отца начал писать пьесу. Получился водевиль. После премьеры в театре «Бомарше» Вашетт-старший пришел в ярость, назвал сына «негодяем и висельником» и потребовал выбирать: либо наследство, либо отказ от высокой чести носить славную фамилию Вашетт. Юноша обладал живым умом и сообразительностью. Он моментально сделал свой выбор. Перетасовав буквы в родовом имени, новоявленный драматург придумал себе новую фамилию, Шаветт, и покинул отчий дом.
От драматургии молодой человек вскоре перешел к журналистике. Бойкое перо и остроумные диалоги привлекли внимание газетчиков, и Эжен начал печататься сначала в театральном еженедельнике «Тентамар», а затем и в престижной «Фигаро». Освещая культурную и общественную жизнь столицы, Шаветт щедро делился своей наблюдательностью с читателями. Его остроумные зарисовки о нравах и особенностях парижан впоследствии были собраны в сборниках «Маленькие комедии порока» и «Маленькие драмы добродетели». Два маленьких шедевра эксцентричности и неистощимого галльского юмора. Один из этих сборников веселый труженик пера Шаветт посвящает «своему лучшему другу – Эжену Вашетту». При всей своей легкости и жизнерадостности писатель никогда не забывал, как долгое время жил в полном одиночестве, без финансовой поддержки отца. Рассчитывать приходилось только на себя самого.
Успех на ниве журналистики не остановил творческую эволюцию неугомонного парижанина. Очередной его ипостасью стали романы: психологические, исторические, юмористические и даже детективные.
Именно Шаветту принадлежит скромная заслуга – «открытие» Эмиля Габорио, будущего «отца французского детектива». Первая публикация романа Габорио «Дело Леруж» (1865) прошла практически незамеченной. Однако Шаветт, прочитав текст, пришел в восторг и убедил издателя новой газеты в том, что этот роман интересен, оригинален и нуждается лишь в хорошей рекламе. В литературе уже были и разбойники, и мушкетеры, и мстители, но здесь главный герой – сыщик! А сюжет строится на головоломном расследовании и поимке преступника. Это свежо. Очень свежо. Возможно, имеет место быть новый жанр.
Перепечатка «Дела Леруж» в 1866-м в газете «Ле Солей» вызвала фурор. В этом же году в Англии был опубликован «Лунный камень» Уилки Коллинза. И хотя бодлеровские переводы рассказов Эдгара По уже имели хождение во Франции (с конца 1840-х), жанр детектива в Европе («юридические романы») еще только набирал силу. Читатели требовали еще и еще Габорио. Но Габорио – не Дюма, он не справляется. Он работает в одиночку и выдает лишь по роману в год. Издатели кинули клич, и Габорио начали подражать. В том числе и сам Шаветт. Среди его лучших работ в этом жанре стоит назвать роман «Комната преступления», построенный на загадке запертой комнаты. Умение сочетать юмор и детективную интригу стало визитной карточкой писателя. Его романы «Прокурор Брише», «Сбежавший нотариус», «Наследство блюдолиза» при жизни Шаветта пользовались большим успехом, были переведены на несколько языков, в том числе и на русский.
На заработанные исключительно литературной деятельностью деньги Эжен Шаветт смог купить себе уютный дом в Монфермейле, где тихо скончался 16 мая 1902 года, оставив читателям увлекательные книги, а друзьям – память о «человеке, который никогда не унывал».
В. Матющенко
Избранная библиография Эжена Шаветта:
«Прокурор Брише» (Défunt Brichet, 1872)
«Тайны французской революции» (Le Rémouleur, 1873)
«Наследство блюдолиза» (L'Héritage d'un pique-assiette, 1874)
«Куртизанка Шиффард» (La Chiffarde, 1874)
«Комната преступления» (La Chambre du crime, 1875)
«Под покровительством привратника» (Aimé de son concierge, 1877)
«Банда прекрасной Альетт» (La Bande à la belle Alliette, 1898)
Часть I. Дом Сюрко
I
Теперь, когда современный Париж приучил нас к красивым просторным бульварам, многие улицы, привычная ширина которых вполне удовлетворяла наших предков, кажутся уже тесными проулками. Для тех, кто знает улицу Пла-д’Этен, соединяющую улицу Бурдоне с Лавандьер-Сент-Оппортюн, она не что иное, как длинный узкий проход, шириной не более двух метров. Прохожий, только что свернувший с новых широких дорог, чувствует какое-то давление здесь, между двумя рядами высоких мрачных домов, фундамент которых омывается грязью, никогда не осушаемой солнцем – дневной свет не в силах проникнуть в глубины этой древней расщелины.
Все украсилось, расширилось и очистилось вокруг, но этот холодный сырой коридор, носящий название улицы Пла-д’Этен, остался таким же, как и был семьдесят лет тому назад, в эпоху нашего рассказа.
В одно прекрасное июньское утро 1798 года, то есть на VI год Республики, управляемой в то время Директорией[1], некий молодой человек, миновав улицу Бурдоне, приближался к Пла-д’Этен.
Перед поворотом он остановился справиться о названии переулка; но, похоже, это для него было не так уж важно, потому как, пока юноша возводил нос к табличке-указателю, его глаза смотрели украдкой в совсем ином направлении. Быстрый взгляд отмечал, не следует ли за ним по пятам какой-нибудь любопытный шпион.
Успокоенный, без сомнения, этим осмотром молодой человек смело вошел в переулок.
Дошедши до середины, он повернул к воротам, узким и низким, но довольно массивным, с решетчатым оконцем, которое находилось как раз вровень с головой путника.
Юноша поднял железный молоток и ударил три раза, помедлив между вторым и третьим ударом.
После этого стука, служившего, по всем признакам, условным сигналом, дощечка, закрывавшая решетку, бесшумно открылась и за ней показалось чье-то лицо.
– Шесть! – сказал посетитель.
– Четыре! – отвечали из-за ворот.
– Шесть и четыре составляют шестнадцать! – не задумываясь заявил пришедший.
Этот неверный способ сложения, должно быть, удовлетворил спрашивавшего, потому что послышался шум отодвигаемой задвижки. Дверь открылась как раз настолько, чтобы впустить незнакомца в темную сырую прихожую. Тотчас же она вновь затворилась таинственным сторожем, здоровенным парнем, который опять скрипнул задвижкой и повернулся к незнакомцу.
– Что вам угодно? – спросил парень, сунув руки в широкие карманы плаща, где, похоже, находилось оружие.
– Я желаю видеть господина Бурже.
– Он в деревне.
– Он вернулся оттуда для тех, кто приехал из Шан-Ружа, – возразил посетитель.
Эта фраза, без сомнения, служила последним паролем, потому что, как только она была произнесена, недоверие стража рассеялось и его грубый тон вдруг исчез.
– Хорошо, господин, – вежливо сказал он. – Потрудитесь подождать минуту; я сейчас узнаю, может ли принять господин Бурже.
И, указав пришедшему на деревянную скамью, сторож поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж.
Пока гость, с такими предосторожностями проникший в этот дом, сидит в ожидании, набросаем поскорее его портрет.
То был молодой человек двадцати восьми лет, высокий, стройный, судя по легкости движений, знавший толк в физических упражнениях и, стало быть, обладавший хорошо развитой мускулатурой. Его маленькая нога и изящная рука выдавали высокое происхождение, которое он пытался скрыть под одеждой простолюдина.
Хорош ли он собой? Вопрос, на который пока ответить трудно. Лоб его затеняли поля глубоко надвинутой шляпы; лицо немного суживалось в обрамлении длинных прядей темных, дурно расчесанных волос; подбородок и рот он прятал в одном их тех громадных галстуков, что были тогда в большом употреблении.
Лицо было в тени, но вот глаза… Пожалуй, довольно и глаз, чтобы судить о человеке. Черные, проницательные, сверкающие отвагой молодости, эти глаза многое говорили. Похоже, человек этот был честным и храбрым, возможно даже, до крайнего безрассудства.
Юноша ждал гораздо меньше времени, чем потребовалось нам для обрисовки его портрета.
– Господин Бурже принимает, – сказал вновь явившийся привратник.
Гость поднялся и последовал за своим проводником наверх. Лестница вела к узкой площадке, на которую открывалась только одна дверь.
– Войдите! – ответил крикливый голос на стук провожатого, который, посторонившись, чтобы дать дорогу гостю, тотчас же запер за собой дверь и прислонился к ней спиной.
Молодой человек заметил этот маневр, отрезавший путь к отступлению, но притворился, что ничего не видел.
А между тем ни в комнате, ни в облике ее хозяина не было ничего таинственного, что стоило бы скрывать с такими предосторожностями. На стенах и под потолком висели чучела целых стай птиц; кругом не было свободного места из-за невероятного нагромождения коробок, ящиков, стеклянной посуды, бокалов и склянок с ящерицами, бабочками и пресмыкающимися. Это был Ноев ковчег, но с мертвыми животными, сохраняемыми естествоиспытателем из любви к науке.
В центре комнаты, перед стеклянным ящиком, стоял старик, высохший, сморщенный, с глазами, скрывавшимися за зелеными стеклами огромных очков, и следил с помощью лупы за агонией великолепной бабочки, трепетавшей на длинной тонкой булавке, утвержденной в пробке.
При появлении молодого человека старик, подняв голову, повернул к нему желтое лицо, на котором рот скривился, казалось, в улыбку.
– Э-э, – произнес он голосом, напоминавшим по звуку трещотку. – Держу пари, что вот молодой чудак, который, наслушавшись небылиц о старом дураке по имени Бурже, сказал самому себе: «Нужно мне проникнуть в берлогу этого безумца».
Старик остановился, чтоб запустить булавку еще глубже в пробку, потом продолжил:
– А ко мне доступ нелегок, видите ли, милый друг, с тех пор как у меня украли целый ящик индийских летучих мышей.
Молодой человек переждал поток жалоб того, кто в эпоху употребления слова «гражданин» назывался «господин Бурже». Когда старый ученый смолк, он почтительно поднес руку к шляпе, не снимая ее, однако ж и сказал спокойно:
– Нельзя ли нам поговорить о чем-нибудь другом, кроме летучих мышей, господин аббат?
Старик подпрыгнул от изумления, вскрикнув на редкость пронзительным голосом:
– Аббат! Какой аббат? Где видите вы аббата, мой любезный друг?
Несмотря на эти восклицания его собеседник продолжал:
– Я прислан к вам Великим Дубом.
Естествоиспытатель казался ошеломленным:
– Великим Дубом! – повторил он. – Великим Дубом?
– Вашим старинным другом, господин аббат.
Маленький старичок покачал головой и, улыбаясь, сказал:
– Видите ли, мой мальчик, я только что говорил о себе как о сумасшедшем, но я вижу, что напал на худшего, потому что не знаю, откуда почерпаете вы эти россказни об аббате и Великом Дубе, этом старом друге, которым меня ссужаете.
После минутного размышления он продолжал:
– Правда, что у меня очень плоха память на имена и лица!.. Не знаю, оттого ли, что я старюсь над бумагами, но часто я лучше запоминаю почерк, нежели имя.
Молодой человек, казалось, понял намек, потому что после безмолвной улыбки снял шляпу и вытащил спрятанное в волосах маленькое письмецо.
Подавая его, он машинально откинул другой рукой длинные пряди, скрывавшие лицо.
Вместо того чтоб принять письмо, старик стоял некоторое время в восхищении перед этой энергической и красивой натурой.
– Тысяча святых! – бормотал он. – Вот поистине смелый малый и к тому же красавец.
Погодя он открыл письмо. В нем говорилось следующее:
«Господин аббат. Для нашего дела вы требовали, чтоб я прислал вам красавца. Я делаю более, отправляя к вам кавалера Ивона де Бералека, храброго и энергичного солдата, который безоговорочно доказал мне свои блестящие качества.
Великий Дуб».
Прочитав письмо, старик одним быстрым взглядом окинул кавалера, потом скатал письмо в шарик.
– Жермен! – позвал он.
Человек у двери выпрямился.
– Господин?
– Проглоти эту компрометирующую бумажку, – приказал он, подавая ему шарик.
Жермен повиновался без возражений.
– Так, очень хорошо! – кивнул старик. – Теперь ты можешь удалиться, мне нужно поговорить с господином.
Слуга поклонился и вышел.
– Ну-с, кавалер, раз знакомство состоялось, поговорим как старые друзья, – сказал аббат голосом, в котором ничто уже не напоминало о прежнем резком тоне.
Пригласив Ивона де Бералека сесть за стол, он сам устроился напротив, положив перед собой огромные зеленые очки, скрывавшие до времени от молодого человека маленькие серые глаза старика, лукавые и острые, как буравчики.
В свою очередь Ивон также изучал аббата. Вместо дрожащего, полоумного старика, с которым он за минуту перед тем говорил, он видел перед собой строгого на вид человека с важным голосом и изысканными манерами.
– Дитя мое, – сказал аббат, – позвольте мне задать вам несколько вопросов о вашем прошлом?
– Моя жизнь, господин аббат, – грустно отвечал Ивон, – похожа на жизнь многих молодых дворян моего отечества. С установлением Республики я последовал за моим отцом в вандейскую армию. Шесть лет сражался против синих[2], стараясь отплатить им за все зло, которое они причиняют нашим провинциям.
– А ваши родители?
– Мой отец был расстрелян в Нанте, а мать умерла на эшафоте в Ренне, – медленно произнес Ивон.
– Никакая привязанность не пережила ваши несчастья?
– Нет, умертвив моих родителей, синие сожгли мой замок и…
Кавалер колебался.
– И… – настаивал аббат.
– И обесчестили ту, которую я любил, – отвечал де Бералек, дрожа от гнева и побелев при этом воспоминании.
– Итак, вы принадлежите королю?
– Да! Телом и душой.
– И, если б исход дела зависел от вас, вы были бы готовы на все, чтоб свергнуть их проклятую Республику?
– Да! – отвечал Ивон с силой, выдавшей его неизбывную ненависть.
– Даже на самое странное поручение?
– Да, да, – повторил кавалер.
– Ну так! Мой молодой друг, вы можете возвратить королю его царство, свергнув правительство, которое вы презираете.
Кавалер судорожно выпрямился:
– Что надо делать? Моя кровь, жизнь, честь, я пожертвую всем… Говорите скорее, господин! – вскричал он с дикой энергией.
– О, о! Молодой друг, – отечески мягко произнес старик, – мы не потребуем так много от вашей преданности. Поручение, ожидающее вас, гораздо приятнее.
– Какое же?
Аббат откинулся на спинку стула и отвечал улыбаясь:
– Дело в том только, чтобы влюбить в себя одну очень красивую женщину.
Услышав, что ему предлагали оригинальную должность обольстителя, ему, мужу битвы и борьбы, Ивон отвечал сухо:
– Вы шутите, конечно, милостивый государь?
Но аббат посмотрел ему прямо в лицо и повторил, делая ударение на каждом слове:
– Задача в том, говорю вам, чтоб влюбить в себя хорошенькую женщину.
Из всех начальников роялистской партии, боровшихся против Республики, самым деятельным был тот, которого кавалер назвал аббатом. Мы откроем его настоящее имя.
Франсуа-Ксавье, аббат Монтескью-Фезенсак, ставший впоследствии герцогом Монтескью, выказывал в своей преданности свергнутой монархии то упорное рвение, которое не могли сломить никакие преграды. Новый план появлялся тотчас же после неудачной попытки, и вместо того чтобы парализовать деятельность аббата, поражение лишь питало его упорство и силы. Монтескью всегда выступал страшным врагом Республики, которую уже два раза готов был сокрушить. Тринадцатого вендемьера, когда он спустил на Национальный Конвент шайки роялистов, предводительствуемых Даниканом, он был на пути к успеху. Но его злосчастная звезда послала ему в лице генерала Бонапарта противника, которого он не отгадал во мраке истории и который начал свой путь к славе тем, что разрушил попытку переворота Монтескью с помощью пушки Сен-Рока. Восемнадцатого фруктидора Монтескью опять видел себя в двух шагах от победы, но, к несчастью, Пишегрю, ставший его покорным орудием, попался на удочку своих противников, республиканцев низкого происхождения, на которых аббат вовремя не обратил внимания.
Возвратясь недавно в Париж, Монтескью собирался попытать удачи в новой борьбе против Директории, полиция которой охотилась за ним беспощадно, но не могла выследить в его двадцати убежищах и узнать под тысячами гениально придуманных нарядов, так как этот человек, которого мы встретили в образе дряхлого старика, едва приблизился к своим сорока годам.
В Англии, Швейцарии, Германии, Париже – где бы он ни был, Монтескью везде становился лидером предводителей роялистской партии, поднимавшей голову по всей Франции. Ему не противоречили ни в одном его приказании, хотя бы оно было так же странно, как то, которое он отдал шуану Великому Дубу: прислать к нему хорошенького юношу.
И вдруг кавалер Бералек, избранный Великим Дубом, спеша к Монтескью с жаждой борьбы в сердце, узнает, что его дело ограничится странной обязанностью – завладеть сердцем хорошенькой женщины.
Поняв, что приказание аббата было серьезным, Ивон покачал головой.
– Поищите в другом месте, – сказал он, – потому что я очень мало способен к должности, для которой годится первый встречный щеголь.
– Почему же?
– Потому что сердце умерло во мне в тот день, когда синие похитили у меня невесту.
– Но тут сердцу нечего и делать, кавалер, – возразил аббат. – И я был бы в отчаянии, если бы вы почувствовали хоть малейшую склонность к той, с которой я поручаю вам сражаться.
– Вы называете это сражением, аббат? – заметил Ивон, с лица которого лукавая улыбка согнала облако, появившееся при воспоминании о невесте.
Но аббат не шутил.
– Да, Бералек, сражаться, я настаиваю на этом слове. И, сколь бы странно все ни казалось, первому встречному щеголю, как вы советуете, никогда не дам я поручение, стоившее жизни уже троим из наших.
Ивон встрепенулся. Прелесть предстоящей опасности поманила его.
– Эта женщина была причиной смерти троих, говорите вы? – вскричал он.
– Да, трех молодых, храбрых юношей, которые прежде вас попытали счастья, но исчезли без всякого следа.
– Так вы мне предлагаете действительную опасность, а не смешную альковную интрижку? – спросил молодой человек, уже невольно прельщенный.
– Да, опасность, действительную опасность, которая требует в одно время осторожности, мужества и хладнокровия, чтобы избежать неведомого врага, бодрствующего рядом с этой женщиной. Потому что следует бояться если не ее, то окружающего ее тайного надзора, мотивов и агентов которого я до сих пор не мог узнать.
Уверенность в опасности поручаемого предприятия оживила рвение кавалера.
– Э, браво, аббат! Что же вы не сказали об этом тотчас же? Если за этой женщиной скрываются мужчины, я принимаю вызов.
– Да, серьезный вызов, дитя мое, до того серьезный, что если вы преуспеете в этом предприятии, то можете рассчитывать на блестящее будущее.
При слове «будущее» Бералек опять грустно усмехнулся:
– О, мое будущее! – сказал он. – Мне нечего о нем много заботиться… оно уже обеспечено, если верить бретонской ворожее, которая предсказала мою судьбу пред отъездом моим в Париж.
– Каково же предсказание? – спросил с интересом Монтескью.
Молодой человек обвел пальцем вокруг шеи и прибавил спокойно:
– Гильотина срежет мою голову прежде, нежели я достигну тридцати пяти лет.
Знакомый с бретонским суеверием аббат подыскивал, что бы сказать в утешение, когда кавалер вдруг разразился смехом.
– А! Я вижу, вы не унываете.
– Это потому, что я думаю о конце предсказания, которое оставляет мне право власти над своей судьбой!
– В самом деле?
– Старуха объявила мне, что я могу избегнуть его и, если и взойду на подмостки, то по собственному своему желанию, для того чтобы на пути к спасению испить чашу бесконечного блаженства.
– Да это загадка!
– Да. Но пока мне еще не сняли головы, и, так как я нимало не расположен ломать себе голову, чтоб отгадывать болтовню безумной старухи, возвратимся, аббат, к более важным вещам… к предприятию, которое вы мне назначаете.
– Так вы решились?
– Конечно. Кто же эта женщина, которая должна меня обожать?
– Это любовница Барраса, – отвечал аббат.
Услышав имя этого могущественного члена Директории, Ивон пристально взглянул на Монтескью и спросил:
– Вы уверены, что от этой женщины зависит падение Республики и возвращение Людовика XVIII в его королевство?
– Да, что я вам и докажу.
– Я вас слушаю.
– В настоящее время, приняв на себя ответственность за все ошибки своих предшественников и собственных агентов, Директория чувствует презрение и проклятие нации, которая приписывает ей унижение Франции. Наших полномочных безнаказанно умертвили в Раштадте; наши победы в Италии не принесли никаких плодов из-за бездарности Шерера и неудач Шампионнета и Макдональда; Брюн, находящийся в Голландии, скоро покинет страну, если сейчас не получит подкрепления. Но Республика, и без того нуждающаяся в людях и деньгах, не может обеспечить нужды армий, которые нужно содержать в одно и то же время в Голландии, на Дунае, в Пьемонте, Неаполе и Риме. Везде нас теперь отбрасывают и побеждают. Почему? Потому что Директория, завидуя славе и популярности человека, которого она не без причин боится, употребила все средства, чтоб удалить его. Она всем пожертвовала для этой разорительной экспедиции в Египет, которая, Директория знала, была бесполезна, но которую она поощряла, потому что поход увлек Бонапарта в страну, откуда он не должен вернуться. Наполеон внушал страх Директорам, понимавшим, что генерал стремился к иной цели, нежели защищать их подточенную власть.
– Да это их единственный опасный враг, – прервал аббата Ивон.
– И наш тоже, дитя мое. Но поблагодарим эту безмозглую Директорию, которая, в своем страхе, избавила нас от подобного противника, отослав его в Египет, где климат, чума, турки и англичане заставят его сложить свои косточки.
– Да, верно! – весело воскликнул кавалер.
– Итак, место очистилось для нас, – продолжал аббат. – Минута благоприятна, так как война оставила Директорию без денег и солдат. Власти не могут даже защищать дорог, на которых наши храбрые шуаны останавливают дилижансы и фургоны, забирая при случае гроши государства. Нет никакой полиции для усмирения многочисленных гнусных шаек поджигателей, наводящих ужас на деревни и села и угрожающих самому Парижу. Везде убийства, нищета, проклятия! Всеобщий ропот поднимается против Директории, которая проводит время в празднествах, где выставляет напоказ свой шарлатанский наряд. А в это время, несмотря на ссылку, эмигранты тайно возвращаются и вступают в ряды роялистов. Скоро все решится с этой властью, которая, завидуя человеку, единственно способному защитить ее, тщетно выпрашивает помощи у нескольких голодных праздношатающихся с запятнанной честью или не имеющих никакого влияния.
– Какую роль должна играть эта женщина в ваших замыслах? – спросил Бералек.
– Сейчас объясню. Во время заговора 18-го фруктидора если Баррас и осадил Пишегрю, преданного нам, то, конечно, не из усердия к Республике. Причина его противодействия была в том, что он дорожил местом, которое мы медлили предложить ему. Он требовал от нас шести миллионов золотом, миллион сто тысяч ежегодного дохода и замок Шамбор в свою собственность…
– Недурной аппетит, честное слово! – сказал Ивон.
– Если мы медлили с уплатой, то потому что ждали от короля указа о помиловании, которого также требовал Баррас для себя и двадцати других членов совета, которых он ручался завербовать нам. Промедление заставило его думать, что с ним подшутили. Предоставляя Пишегрю свободу действия, он сам решился на «бескорыстие». И вот почему он свергнул того, кто еще накануне был его сообщником.
– Но женщина? Женщина? – спрашивал нетерпеливый кавалер.
– Теперь Баррас, чувствуя под собою колеблющуюся почву, желал бы опять перейти к нам и возобновить торг, но боится нашего гнева за сыгранную шутку.
– Тогда сами пойдем к нему.
– Нет. Чтобы избежать новой измены, мы не должны ободрять его. Пусть он сделает первый шаг, и тогда мы используем против него такие средства, что он не в состоянии будет отступить. Одно золото может привлечь его, а неслыханная расточительность держит его в постоянной нужде. Эту нужду мы должны сделать крайней, и через его любовницу мы достигнем цели. Для того чтобы удовлетворить чудовищные требования этой женщины, руководимой советами…
Аббат приискивал нужное выражение.
– Друга, – подсказал Ивон, видя, что слово «любовник» было противно языку духовной особы.
– Да, друга. Тогда Баррас в порыве необузданной страсти, внушенной этим созданием, обратится к нам за деньгами, которые бросит на исполнение ее капризов.
– И это поручение… советника вы даете мне? – спросил Ивон.
– Отказываетесь вы от него? – живо возразил Монтескью, опасавшийся, что его объяснения охладили пыл молодого человека.
– Нет, вы мне сказали, что оно имеет свои опасности.
– Да, опасности, которые я не в состоянии вам указать, потому что не мог их отгадать. Эти люди убили или спровадили куда-то троих из наших. Откуда эта женщина? Кто она? Не знаю. Она вдруг появилась на празднествах сладострастного директора. Вчера еще никто о ней не знал, а сегодня разом стало известно и об ее существовании, и о влиянии на Барраса. Но в одном я уверен твердо: за этой женщиной установлен таинственный надзор, чтобы не подпускать к ней тех, кто попытался бы совратить ее с пути, ею самой однажды выбранного. Я сначала думал, что она действует в интересах Бонапартов, этой толпы честолюбивых родственников, которых генерал оставил в Париже за себя.
– Без сомнения, чтобы пригреть ему местечко, – заключил Ивон.
Аббат усмехнулся и продолжал:
– Нет, Бонапарты ни при чем в этом заговоре, единственная цель которого – перетянуть Барраса. Но Баррас не такой человек, чтобы легко купиться; он продает себя дорого, очень дорого…
И, разразившись смехом, аббат прибавил:
– А у Бонапартов нет ни гроша за душой!
Кавалер Бералек встал, чтоб распрощаться.
– Где найду я эту женщину? – спросил он.
– Она должна быть царицей праздника, который Баррас дает нынешней ночью в Люксембургском саду.
– Сегодня ночью я ей представлюсь, – решил Ивон, протягивая аббату руку на прощанье.
– Где вы остановились в Париже? – спросил тот.
– В гостинице «Страус», улица Ла Луа (бывшая улица Ришелье).
– Хорошо, до вечера вы получите двести луидоров на первые военные расходы.
Прислушиваясь к удаляющимся шагам молодого человека, аббат, оставшись один, прошептал:
– На этот раз сделана последняя ставка, и хорошая! Потому что я все рассчитал.
Увы! Аббат ошибся в расчете, не подозревая о существовании нового врага, которого звали: «Товарищи Точильщика».




