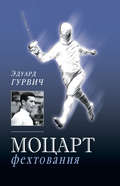Эдуард Гурвич
Роман графомана
4
Когда выбирался на побережье – от Лондона оно в часе с небольшим на пригородном поезде, – чувствовал себя ошалевшим от единоборства с неподдающейся главой. Прохладным июньским утром вышагивал вдоль морского берега по многокилометровому променаду Гастингса. Волны взбивали пену и выбрасывали ее на гальку. На ощупь эта воздушная желтоватая субстанция оказалась липким веществом. Обмыв ладонь в фонтане, присел на скамейку и подставил лицо выглянувшему из-за тучи солнцу. Закрыл глаза и подумал: все исчезло. Может быть, на самом деле ничего нет вне сознания? Может быть. Тогда можно считать иллюзией и ночное происшествие в гостинице.
Марк приезжал сюда, в Гастингс, до того как открыл для себя Фолкстон, каждые два-три месяца. Жил на третьем этаже тоже с окнами на море. У хозяина-поляка проходил как русский писатель… Все было, как всегда. Но минувшую ночь взорвал сигнал пожарной тревоги. Натянув брюки, прихватил компьютер. Уже спустился по лестнице. Но зачем-то вспомнил, что оставил в столе паспорт. Пожарные еще не прибыли. Вновь поднявшись на свой этаж, увидел, что в соседнем номере однорукий дежурный пробует затоптать тлеющие подушки. Ухватить одной рукой, чтобы вынести их, он не мог: на двери, перекрывающей лестничный пролет, стояла крепкая пружина. Оставив идею со спасением паспорта, кинулся на помощь, схватил одну тлеющую подушку и, придерживая дверь на пружине, пропустил дежурного с другой. Они уже были внизу, когда услышали вой пожарных сирен.
Шагая теперь по набережной, залитой полуденным солнцем (нравился ему этот литературный прием – рассказ во время прогулки вдоль морского берега), он заново переживал события ночи. Вспоминая девицу в фойе, дрожавшую от стресса, хотел одного – встретить смертный час без жалоб, без болей, без сожалений. Как бы устроить так, чтобы никто не подумал, что он цепляется за жизнь, что ему есть еще что-то сказать и он должен еще что-то успеть. Да все уже сказано. Но даже если и не сказано! Что из того? Вспомнилось замечание маститого литератора, разбиравшего после смерти незавершенные записи своего друга: «Есть что-то необычное и притягательное в незаконченных произведениях». Никогда ничего подобного русскому автору в голову не придет. Типично английский строй мысли. Болезнь, смерть, возраст – все это столь же обыденное, как и неизбежное. В России же на похоронах стонут – вот, не успел дописать, достроить, долюбить. Какая глупость. Как это примитивно.
Вернувшись в номер, снова с усердием копался в главе про дом на Старолесной. Дребедень, приговоренная временем, должна была исчезнуть без следа. Нет, спустя тридцать лет, вспомнились имена. Александр Иосифович, Юлия Иосифовна, их сын. Может быть, потому, что минувшей ночью во время пожара видел завернутую в одеяло девицу: ее вывели из соседнего номера. Основательно подвыпив, она заснула с горящей сигаретой и теперь, сидя внизу, в вестибюле гостиницы, поняла: должна была задохнуться в дыму. Она выглядела такой же несчастной, как те неприкаянные старики-евреи из дома на Старолесной, потерявшие единственного сына, Жоржа. Он работал в реферативном академическом издании, писавшем об атомной промышленности.
За Жоржем промелькнула в памяти дивной красоты Хохлушка… А следом за Хохлушкой – первая жена Марка, с которой он прожил шесть лет. После развода никогда не встречались. Умерла где-то в Германии. У Марка остался графический портрет – подарок влюбленного в нее художника по имени Николай Иванович. При разводе она призналась, что изменяла ему с тем художником. Сказала, чтобы досадить. Ведь инициатором развода был он. И досадила. Помнил эту измену. Потому рисунок Николая Ивановича вставил в рамку и повесил на стену.
А вот еще одна фамилия из того дома: Горелик. Тут загадки не было. Лондонские хозяева, много лет сдававшие ему студию-домик, оказались Корелики. Она – детская писательница. Сочинять перестала после гибели сына. Он – архитектор. По его проекту в Москве построено новое здание английского посольства. Мальчиком в пять лет его вывезли из Вены в Лондон, когда случился аншлюс… И теперь в голове промелькнуло: ну, какие же вы Корелики? Вы – Горелики. Вспомнился бассейн, принадлежавший газете «Правда». Каждое утро в семь часов вместе с Гореликом он бежал по пешеходному мостику, перекинутому через железнодорожную ветку между Белорусским и Савеловским вокзалами. В тот же час в бассейне появлялся член ЦК, главный редактор «Правды». Он плавал один на первой дорожке. И никто не смел ему мешать… Теперь можно было плавать в бассейне в Фарнборо. Для этого не надо было становиться членом ЦК.
Из дома на Старолесной мозаикой (ух, какая расхожая метафора) выплывали женские лики. Среди них жена Миши-аспиранта, блондинка немыслимой красоты, готова была пролететь свой этаж всякий раз, когда вместе случайно поднимались в лифте. Ему же хотелось ошибиться, когда оказывался в лифте с диктором Всесоюзного радио, женой Инженера. Она как будто не возражала. Но вдруг останавливала мысль – как потом встречаться с ее мужем, трепетавшим перед людьми творческих профессий? Зачем-то вспомнилась корректорша из той же газеты «Правда», которую однажды затащил к себе на девятый этаж. Из окна кабинета она увидела кремлевский купол, сбросила блузку, сняла лифчик, стянула юбку вместе с трусиками и, ухватившись за подоконник, весело приказала: «Е… те, а я буду смотреть на Кремль!»
Сказать по чести, я пробовал отговорить Марка от замысла «Романа Графомана». Сочинение, которое он задумал, убивало его. Если судить по числу копий и черновиков рукописи на антресолях, повествование долго не складывалось. Мучился Марк с сюжетом неимоверно. Не хватало воображения. Писал портреты своих однокурсников, родственников, любовниц, приятелей. Выходило плоско – ценил дружбу с однокашниками, ставшими известными, Салон любил, ценил, но высмеивал…
Спасался многоточием. Этим знаком препинания злоупотреблял. Многоточие укрывает недоговоренности. Оно же замещает слова, относящиеся к лексике, несовместимой с целомудрием. Одно из них приобрело магическое значение. Кумиром студентов книготоргового техникума был двадцатитрехлетний преподаватель политэкономии, выпускник экономического факультета Вильям. В середине 1950-х он советовал заняться экономикой туризма. Марк не внял. А между прочим, Вильям стал первым министром туризма в ельцинской России. В памяти остался вечер, когда, получив диплом товароведа книжной торговли, он оказался с Вильямом в одной компании. Вот тогда Марк услышал это слово «еб…ть». И от кого! От Вильяма! Не в подворотне, не от шпаны, не как ругательство, а из уст интеллектуала, умницы, любимого преподавателя, который косил под стилягу. С тех времен это слово зазвучало таинственной эротикой. Позже, с приобретением сексуального опыта, оно становилось тем привлекательнее, чем изысканнее была партнерша.
Марк и я еще не были готовы, чтобы работать в большой прессе, собрать материал на книгу, издаться. Марку повезло. Его взяли в Журнал, о котором он напишет свой первый роман. Платили ему примерно так же, как защищавшим в те годы кандидатские диссертации и становившимся завлабами. Как это вышло, мы не понимали. Редакцию Журнала военизировали, но Марка почему-то не уволили. Он прошел аттестацию, и ему присвоили звание майора, а спустя пару лет подполковника. Хотя в армии Марк не служил ни дня. Строевым шагом ходить не умел. Устав нарушал на каждом шагу. Был левшой и честь отдавал левой рукой. Забывал отвечать на приветствия. Надевал военную форму лишь при объявлении строевого смотра. На работу в такие дни шел переулками. Однажды военный патруль словил его при переходе на улице Горького. Ему выговаривали за длинную стрижку и за отсутствие планки с наградами. Объяснение, что ничем, кроме знака выпускника МГУ, он, подполковник, никогда не награждался, вызывало недоверие. В Журнал прислали телегу. За погоны платили немалые деньги. А все равно еле-еле сводил концы с концами. Книги, выплата паевого взноса, квартплата, помощь матери. Из стесненных обстоятельств не выбрался до самой эмиграции.
… Снимки, сделанные приятелем-фотокорреспондентом накануне отъезда. Портрет матери, попавший на выставку фотографий пожилых женщин. Ей восемьдесят. Благородная улыбка, живые глаза, гладко зачесанные волосы с пробором посередине. А вот он сам, усатый, с шевелюрой, едва тронутой сединой. В кителе с погонами подполковника. Фото с сыном. Крепкий мальчуган сидит на плечах и держится за отцовы уши. Вот любительский снимок: они стоят на переходном мостике через ручеек в парке «Речной вокзал». Благодаря фотографиям в памяти всплыл последний на родине день рождения. Друзья пришли на пятидесятилетие. Сидели до полуночи. Куражились от обиды, что он уезжает, а они остаются. Никто никого не слушал. Перепились все за исключением хозяина. Прощались со слезами. Завлитша идти не могла. Муж выносил ее на руках.
Понимал ли он сам тогда, в какую пропасть собирался прыгнуть? Нет, конечно. Из той настоящей реальности память не удержала почти ничего. Нет никакой возможности точно раскрутить, что происходило в действительности. Так, обрывки воспоминаний, из которых не складывалось все то, что творилось в душе. Конечно, жгло любопытство – каков он, Лондон? Распирало от мысли, что с прежней жизнью будет покончено. Терзали угрызения совести – двухлетний сын на попечении жены, развод с подтверждением, что никаких материальных претензий к нему нет. Как ни странно, легко принял понимание того, что со старухой-матерью прощается навсегда. До последнего дня, впрочем, над всем перечисленным довлел страх, что власти разгадают замысел – уехать и не вернуться. А разгадать не так уж трудно – сертификацию свидетельств о рождении, разводах, дипломов и прочего с переводом на английский производили государственные нотариальные конторы. Дураку ясно, конторы – под колпаком Лубянки. Процессом же руководила Художница, будущая заграничная жена Марка, разъясняя, что все перечисленное нужно для получения нового гражданства.
Что оставалось в памяти из жизни на Старолесной и о чем вспоминал с сожалением как о потере? Котя Биржев, с которым дружили много лет, жил на первом этаже. Окна его кухни, выходившие на фасад, никогда не занавешивались и светились допоздна. Женские силуэты, шумное застолье, лихая разнузданность привлекали внимание соседей. Двери в эту квартиру были всегда открыты. В середине 1980-х жизнь покатилась с невиданной скоростью. От привычных норм не осталось и следа. Стремительно менялась общественная жизнь, люди, отношения между ними, всё. Всплыла в памяти дочь генерала, слывшая недотрогой. Она открыла дверь на звонок и в темной прихожей вдруг до крови прокусила ему губу. Излишне разборчивая подруга хозяйки, Люся, теперь позволяла лапать себя прилюдно, Света дала сантехнику – тот менял прокладки в кранах ванны, и у нее не оказалось пяти рублей на чай. Весело щебетала блондинистая кобылка Оля, просаживавшая доллары мужа, – он не вылезал из заграничных командировок. Откровенный флирт, беспорядочные связи, ебля чуть ли не на глазах мужей-жен быстро сделались чем-то обыденным. Тут и обсуждать нечего. Всех волновала годовая подписка на толстые журналы, освобождавшиеся от цензуры. Друг у друга вырывали только что вышедшие номера «Нового мира», «Звезды», «Невы», «Нашего современника», «Молодой гвардии», «Октября», «Книжного обозрения». За еженедельниками «Аргументы и факты», «Московские новости», «Огонек» бегали в ближайший киоск «Союзпечать», где с шести утра выстраивалась очередь. Бражничали на той кухне, именно начитавшись свободной прессы.
Среди гостей Коти Биржева были отказники, подавшие документы на выезд в Израиль, непризнанные литераторы, художники, перебивавшиеся с хлеба на воду, безработные музыканты. Позже стали приходить научные сотрудники, уволенные с работы, преподаватели, получавшие нищенскую зарплату, артисты, едва сводившие концы с концами. В разгар Перестройки на кухне появились гешефтмахеры. Досрочно освободившиеся из заключения за финансовые махинации, они искали места в новой жизни.
Всю эту публику привечала Ксения, жена Коти. Десять лет назад она приехала в Москву из Мариуполя. Диссиденствовала бесстрашно. Вопреки хрупкому здоровью отчаянно курила. А вот хмельного в рот не брала. Отличаясь благонравием, вдруг неожиданно согласилась стать женой только что разведенного Коти. Переехав в ЖСК, мгновенно вписалась в круг его знакомых. Она привлекала начитанностью и добрым характером. Из кухни не уходила – с удовольствием готовила, кормила, поила, утешала, никого не осуждала, не нападала, не обижала. Жадных жалела. Упавших оправдывала. Котя, опьяненный идеей свободы, становился разнузданным и неосмотрительным. Но Ксения уже тогда заявляла, что пойдет за ним в тюрьму, на плаху, за границу, куда скажет… На фоне вседозволенности, захватившей общество, ее облик вызывал сочувствие и симпатию. Никакой порок ее не касался, хотя без крепкого слова в квартире Биржева здрасти не произносили. Кумиров создавали и тут же свергали. Не держаться никаких авторитетов, предубеждений, запретов; никого не стыдить, ничего не осуждать было единственным правилом для тех, кто появлялся на той кухне. Когда из недр кооперативного движения вдруг появился класс ухоженных девиц, Котя приводил их на эту кухню. Они мгновенно вписывались в сложившийся круг и становились закадычными подругами хозяйки. Котя их бросал, но они не исчезали и находили утешение у Ксении. Когда началось строительство партий, эти девицы стали секретаршами и соратницами Коти. Единомыслия не требовалось. Востребованной была личная преданность. Все на той кухне поголовно и беспрестанно курили. Сквозь сизый дым едва проглядывали лица.
На кухне зарождалось множество идей, воплощавшихся в реальность с поразительной легкостью. На кухне основали один из первых в Москве кооперативов, создали Благотворительный фонд для помощи бедным, открыли частную школу по изучению иностранных языков. Там же сочиняли и печатали уставы новых товариществ, биржи, партийной программы. На той кухне оформилась идея Партии экономической свободы, первого частного агентства «Новости» и первого частного журнала. Легко заработанные деньги кружили голову: Биржев тратил их весело, казался предприимчивым, открытым, доброжелательным. Политика у него легко смешивалась с экономикой, как жена с любовницами. Мужья до глубокой ночи звонили на ту кухню. Пробовали убедить супруг, что ночевать надо дома. Кончалось тем, чем кончалось – мужья брали такси. А приехав, оставались до утра. Ксения принимала всех. Со времен новоселья Котя оставался для домочадцев обаятельным и безотказным. Кому только он не помогал крепить книжные полки, менять прокладки в кранах, ставить замки. По первому звонку брал ящик с инструментами, гвоздями и шурупами и спешил на помощь. Никому не хотелось лишний раз звонить в ЖЭК, вызывать сантехника, ждать, давать на водку. У Коти был трос, чтобы пробить затор в трубах. Он первым выходил с лопатой на субботники, разбивал газоны, ставил заборчики, сажал деревья. Но то было в семидесятые. В середине же восьмидесятых потребовалось иное – предприимчивость, напор, мужество.
5
Котя оказался востребованным. Первые деньги заработал на продаже подержанных «Лад». Перегонял автомобили из Москвы на Кавказ и обратно. Вырученные средства вложил в покупку компьютеров. Для легализации денег организовал кооператив. Потом банк. Потом открыл биржу, агентство экономических новостей, инвесткомпанию, телекомпанию, наконец, объявил о создании Партии экономической свободы.
Котя быстро освоился с новой ролью, стал насмешливым, ироничным, иногда высокомерным. Он ушел в борьбу за новую жизнь, где не было никаких правил, никакой морали и все упиралось в деньги. Деньги давали власть. Марк растерялся. Котя это видел, и когда ему пришла идея первого частного журнала «Наши Компьютеры», он подвязал к ней нас с Марком. Котя назначил себя главным редактором. Я быстро сообразил, что к чему, и ушел в сторону. Марка же, прицепив к проекту, Котя вскоре подмял не потому, что за все платил, а потому что не увидел в нем деловой хватки. Чтобы открыть журнал, нужна была крыша. Все издательства и типографии тогда оставались в руках государства. Путь один – дать взятку кому надо. Марк не умел, а Котя умел, но не хотел. Конечно, нашелся тот, кто и умел, и хотел. С Марком же стало ясно: оставаться в Той Стране ему не следовало. Очень скоро Биржев станет неуловимым. Контакты с ним перепоручит Ксении. Мелочи, впрочем, следовало забыть. А помнить проводы в Шереметьево, отъезд, звонки из Москвы в первые недели, составление и подписание нужных бумаг. Потому что после падения империи отпала причина невозвращения в СССР. Туристическую въездную визу Марка юристы Home Office признали просроченной. Пришлось покинуть Англию. С шансом никогда не вернуться туда. Обиды должны были отступить. Но не отступали. Что ж, у памяти своя логика…
Тем временем сын Марка изучал алфавит по книгам Зигмунда Фрейда. Корешки книг входившего в моду знаменитого психоаналитика стояли как раз на уровне его роста. Мальчик подходил к шкафу, указывал пальцем на букву и спрашивал, как она называется. Приставал, чтобы привлечь к себе внимание. Мать скупала фрейдистскую литературу, издававшуюся после десятилетий запрета. Читала запоем, решив заняться психоанализом. Замуж больше не выходила. Никакой мужчина рядом с ней удержаться не мог. Кто же смирится, что главным в доме оставался сын. Тут она была тверда. В квартире Биржева появлялась едва ли не каждый день. Не для того, чтобы присоединиться к сидевшим на кухне, а чтобы оставить сына и самой выскочить в магазин, в поликлинику, в аптеку. Мальчик подружился с дочерью Биржева. Ксения усаживала детей за стол на прокуренной кухне, кормила, поила, разговаривала. Много ли мальчик усваивал из того, о чем говорили тогда? Возможно, за столом осуждали тех, кто тосковал по коммунизму, кто сокрушался, что рушится Империя. Звучали имена какой-то Нины, отказавшейся поступиться принципами, Егора, повторявшего: «Борис, ты не прав!», самого Бориса, который все чаще оказывался прав, его оппонента – Отца Перестройки. Из всего услышанного мальчик, кажется, понимал пока только одно – все за тем столом жаждали свободы. Полной и сейчас.
Вдруг выяснилось: свобода не принесла счастья. Деда, отца матери, служившего в Генштабе, раньше срока выперли на пенсию. Развала Империи он не одобрял. Бабушку, руководившую поликлиникой, которая обслуживала кремлевскую номенклатуру, сместили из-за какой-то гласности, которая разрешила критику. До начала Перестройки она считалась неприкосновенной. Никто не мог уволить ее, несмотря на подметные и открытые письма. Правда, без работы она не осталась – возглавила другое медицинское учреждение, чуть поменьше. Но в семье считалось, что эта самая свобода и ей вышла боком.
Смещение с хлебных должностей деда и бабки обернулось привязанностью к единственному внуку. Тому самому, рождению которого из-за отца они противостояли. Теперь внук стал смыслом жизни. На лето мальчик переезжал на дачу, прозванную «Шатурскими двориками». Вместе с дедом поправлял покосившийся забор, вскапывал огород, чинил крыльцо, сооружал пристройку. Заправски орудовал лопатой, молотком, другими инструментами. С дедом парился в бане, ходил на базар за рассадой, в лес по грибы. Конечно, он мог перенять у деда и страсть к футболу, и презрение к политике, и привычку не садиться за стол без бутылки водки. Но эти дедовы слабости его совсем не коснулись.
Смену привычного в доме на Старолесной сын тогда не осознавал. Хотя мог уже спросить маму при возвращении из «Шатурских двориков» о многом. Почему в подъезде исчез столик, а с ним и лифтерша. Почему не работает код на входной двери и в подъезд может зайти кто угодно. Почему с почтовых ящиков сорваны замки, а стены на лестничных клетках из белого перекрасили в темно-синий. Почему раньше в коридорах пахло пирогами, а в лифте – дорогими духами, а теперь тянуло затхлым. Почему подвал был залит водой, на чердаке поселились бездомные кошки, а в лифтах пахло мочой…
Знаки обнищания отложились в памяти сына так же ярко, как Путч-91, который вдруг обернулся праздником. Он пропадал эти дни в квартире Биржевых. Котя оставался дома и играл с детьми. Вместе маршировали по коридору трехкомнатной квартиры и кричали: «Смерть коммунистам, смерть фашистам!» Вечерами ловили лондонскую программу какого-то Би-би-си «Русская служба». И когда вдруг Котя услышал голос отца, сказал: «Твой папа молодец!» Сын плохо понимал, почему папа молодец и зачем его голос тут, а сам он где-то там. То есть в Лондоне.
Что он мог понять, когда ему едва исполнилось три года? И кто мог ему правильно объяснить исчезновение отца? Только мама. Сын рос в мире ее интересов, выбранных ею игрушек, отобранных ею друзей, учился в школе, которую она выбрала. Она определяла не только его увлечения, но и его будущую профессию. Он, конечно, как и она, и бабушка, должен был стать врачом. Сын пытливо вглядывался в лица, как бы пробуя понять, с кем придется жить. Он хорошо учился, увлекся французским языком, освоил компьютер. В школе пришлось однажды постоять за себя. Если не по наущению матери, то при ее молчаливом попустительстве дал в морду однокласснику, обозвавшему его жидом. Ведь он носил фамилию отца. Это была прививка мужества, которой хватило позже, в институте, чтобы не испугаться и сходить на стрелку. То есть, показать сокурсникам, связанным с уголовниками, что он их не боится. Хотя, если быть честным, с готовностью защитить свое еврейство вышла осечка – когда учителя разбирались в том школьном конфликте, выяснилось, что обидчик, обозвавший жидом, тоже был наполовину евреем. Сын играл на пианино, легко освоил гитару. Позже у него обнаружится красивый баритон.