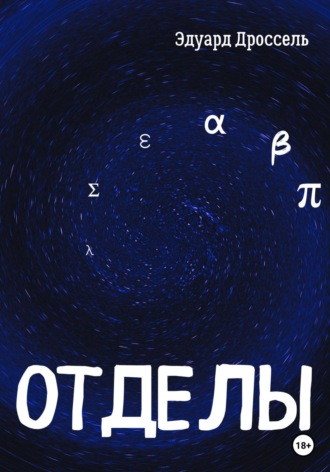
Эдуард Дроссель
Отделы
Возможно Рузвельт был не самым умным на свете, но он был человеком увлекающимся, упорным и деятельным. Как только какой-то вопрос начинал его интересовать, он с невиданной настойчивостью и энергией старался докопаться до самой сути и найти решение.
Рузвельт самостоятельно вышел на врачей и учёных, занимавшихся пациентами с «травмой прозрения». В ходе частной переписки, которая хранится в архиве «Лямбды» и никогда не будет предана огласке, Тедди выяснил все интересующие его подробности, какие ему могли предоставить, а впоследствии предложил своим респондентам объединиться в неофициальную ассоциацию и продолжить работу над феноменом скоординировано и в режиме строжайшей секретности.
Дело в том, что Рузвельт поверил своему знакомому и не сомневался, что тот говорит правду, равно как и остальные очевидцы. «Может ли быть, – писал он, – что столько людей совершенно случайно утверждают одно и то же, вплоть до мельчайших деталей?»
Ему отвечали, что вообще-то такое возможно. У всех у нас мозги анатомически и физиологически устроены одинаково. Индивидуальная изменчивость касается лишь частностей. Поэтому одинаковые патологии у разных людей приводят к одинаковым психоневрологическим расстройствам. В данном случае, вероятно, к расстройству зрения – коли уж затронута зрительная кора.
Но Рузвельт, что называется, закусил удила и его понесло. Он не привык сдаваться. С помощью знакомых, оставшихся в полиции, и частных сыщиков он проверил все те случаи, когда чудовища якобы нападали на людей и сжирали их. И хоть полицейские не нашли ни крови, ни останков, всё же выяснилось, что люди-то пропали на самом деле. Пропали и с тех пор числятся в розыске.
Тогда Тедди задал учёным простой вопрос: если очевидцы на самом деле наблюдали галлюцинации о том, что неких людей без остатка сожрали, то почему же именно эти люди взаправду исчезли? Если допустить, что жертв прикончили сами же очевидцы, то где доказательства? Можно ли так убить человека и спрятать тело, чтобы совсем-совсем не осталось следов? Должны же хоть поисковые собаки что-нибудь почуять, а они не почуяли.
Как бывший полицейский, Рузвельт знал, что при желании можно весьма ловко замести следы любого преступления. Для этого всего лишь нужны определённые знания и навыки. Главный вопрос был в том, имелись ли подобные знания и навыки у всех без исключения жертв «травмы прозрения» и если да, то откуда они вдруг взялись, коль биографии этих граждан чисты?
Настойчивость и убеждённость Тедди Рузвельта помогли склонить мнение некоторых учёных в пользу того, что пострадавшие скорее всего действительно что-то видят. Осталось разобраться, что именно.
К этому времени с пострадавшими от «травмы прозрения», как её назвали позже, провели все мыслимые физиологические, психологические и офтальмологические тесты и эксперименты. В личном плане пострадавшие остались точно такими же, какими были до травмы, за исключением того, что стали видеть ночных монстров, якобы пожиравших людей.
«Если нет оснований предполагать повсеместный и всеобщий сговор и злой умысел, – писал Рузвельт, – значит мы должны склониться к тому, что эти несчастные говорят правду и существует некий опасный феномен, в котором надлежит разобраться».
Пока врачи и учёные, согласившиеся войти в предложенную Рузвельтом ассоциацию, проводили свои исследования, Тедди посвятил в тайну кое-кого из своих бывших сослуживцев в полиции и в армии и привлёк к делу кое-кого из «травмированных». Так со временем обозначилась некая организация, ставшая предтечей отдела «Лямбда».
Рузвельту принадлежит и ещё одна немаловажная заслуга. Когда он стал президентом, он постепенно перенёс дискурс о феномене в политические круги. По его секретной директиве консульства в других странах начали искать и собирать информацию о том, как там обстоят дела в плане данного феномена. И со временем выяснилась пугающая правда: не только феномен ночных монстров присутствует на земле повсеместно, есть ещё ряд столь же необъяснимых и пугающих феноменов. Какие-то правительства находятся в курсе происходящего и пытаются что-то делать, какие-то предпочитают ничего не замечать, а какие-то вообще ни о чём не подозревают. Именно после Рузвельта и отчасти по его инициативе правительства многих стран зашевелились и впервые начали что-то предпринимать.
В середине двадцатого века крупнейшие мировые державы договорились сотрудничать в данном вопросе. Лишь немногие лица в правительствах оказались посвящены в тайну; для всех остальных она продолжала оставаться строжайшим табу и это правило сохраняется по сей день. Правду о феномене имаго не рискнули предъявить и широкой научной общественности. В неё посвящали и посвящают лишь после тщательной и кропотливой проверки и лишь тех, кто способен всю жизнь держать язык за зубами. Считается, что учёные, над чем бы они ни работали, умеют абстрагироваться и не давать волю эмоциям. На самом деле это не так и учёные прежде всего тоже люди со своими недостатками и слабостями. Если посвящать в тайну всех подряд, она уже не будет тайной. Кто-нибудь не выдержит груза ответственности и решит поделиться опасной информацией с окружающими – это особенно просто сейчас, в эпоху интернета и соцсетей.
Руфус Донахью был горячим сторонником демократических свобод, но в данном случае считал, что сокрытие от народа истины не есть зло. Бретт Гейслер всецело разделял это мнение.
Где-то через неделю после того, как Бретт стал частью отдела «Лямбда», наставник предложил ему изящный и элегантный способ сообщить Уильямсам об исчезновении Терри. Этот способ одновременно преподносил горькую правду и вместе с тем давал надежду на то, что с Терри всё хорошо.
– Позвони им и скажи, что Терри ты не нашёл. Не нашёл живого, но и мёртвого тоже не нашёл. Не говори прямо, что, дескать, всё возможно, иначе это будет ложью, но сделай так, чтобы они сами пришли к этой мысли. Так им будет легче переживать утрату, уж поверь мне, друг мой. А ещё скажи, что ушёл из армии и устроился в АНБ. Типа рассчитываешь, что работа в АНБ позволит тебе однажды узнать всю правду о судьбе кузена.
Так Бретт и сделал, слушая в трубке приглушённые рыдания Уильямсов и охи да ахи своих стариков. Те и подумать не могли, что их сын так неожиданно бросит армию.
Бретт ответил коротко:
– Всё это ради Терри. – И это было чистой правдой. Он действительно уничтожал имаго, чтобы поквитаться за Терри и за многие сотни и тысячи других людей, нашедших свой конец в пасти ночных монстров.
Старики прониклись поступком Бретта и неважно, какого мнения они при этом были о Терри.
– Я горжусь тобой, сын, – сказал мистер Гейслер-старший дрожащим голосом. – Чёрт побери, мой мальчик, как же я тобой горжусь!
После этого звонка Бретт редко задумывался о близких, о семье, о друзьях-«котиках». Той ночью в переулке для него началась новая жизнь и в этой новой жизни всё завертелось слишком быстро. Новая работа, уйма новой и невероятной информации, знания и тайны, от которых можно было очуметь. А если он и задумывался о былом и о людях, которые были ему небезразличны, то как о чём-то далёком, что навсегда осталось позади, как предыдущие воплощения в бесконечном колесе сансары. Вся его жизнедеятельность отныне свелась к одному – поискам и уничтожению имаго.
– Это единственное решение проблемы, друг мой, уж поверь мне! – постоянно повторял старший агент Донахью, словно Бретт мог об этом забыть или вдруг начал сомневаться.
Но Бретт всё помнил и не ведал никаких сомнений, правда воспринимал происходящее типично по-солдатски. Враг напал на твою страну и на твой народ, враг, которого невозможно принудить сдаться, потому что само его естество требует человека в качестве пищи. А значит врага нужно уничтожать, всё логично и просто.
Это же касалось и его отстранённости от друзей и семьи. Если враг способен нападать, как на Теслу, то лучше держаться подальше от тех, кто тебе близок и дорог, чтобы они ненароком не стали заложниками твоей работы. Бретт холодел от одной только мысли, что имаго могут сожрать маму или отца. Достаточно было Терри Уильямса. По крайней мере, когда имаго решит закусить Бреттом Гейслером, он сумеет дать ему отпор, а вот его друзья и близкие нет.
– Теперь я понимаю, почему уделом каждого агента становится жизнь в одиночестве, – сказал Бретт, когда узнал, что у Руфуса Донахью до сих пор нет ни жены, ни детей и он не планирует их заводить.
– Не в одиночестве, друг мой, а в уединённости, – поправил тот. – Это разные вещи. Пошевели извилинами, и ты поймёшь.
Бретт лишь понимал, что как это ни назови, суть не изменится. Не то, чтобы головорез-«котик» мог стать примерным семьянином (учитывая характер его работы), всё же такое было возможно. И вот он представил себе следующую картину: он женится на какой-нибудь приличной девушке, похожей на Синди Дрейк, у них родится чудесный малыш или даже не один, и вот однажды вечером они в компании приехавших погостить родителей (допустим, на Рождество) усядутся все вместе в гостиной перед телевизором, вдруг в воздухе заклубится чернота, которую никто, кроме Бретта не увидит, и оттуда вылезет уродливая пасть имаго. Ни о чём не подозревая, домочадцы не поймут, на что это в ужасе таращится Бретт и почему орёт не своим голосом. Не имаго, а Бретт и излучатель в его руке до смерти перепугают семью. А если излучателя под рукой не окажется, их окутает клубящаяся чернота и они мгновенно умрут. После чего имаго не сожрёт их, оставит в назидание, как Теслу – наглядный пример и недвусмысленное послание прочим агентам.
После таких мыслей Бретт гнал прочь не только естественное желание создать семью, но даже просто банальный порыв посидеть с армейскими друзьями, пропустить с ними стаканчик-другой. Как бы он смог болтать с ними, шутить и улыбаться, зная, что они всего лишь потенциальное блюдо на богатом и щедром столе имаго? Как вообще можно засиживаться с друзьями или гулять с девушкой допоздна, зная, что где-то в нескольких кварталах от вас в это же самое время имаго прищучил какого-нибудь обкуренного подростка, залезшего на рекламный щит, чтобы намалевать уродское граффити?
И в семье, и на дружеских посиделках с сослуживцами неизбежно всплывёт тема работы. И что в этом случае Бретту сказать? Открыть правду он не сможет, это запрещено, придётся врать или отмалчиваться. С каждым днём, с каждым годом враньё будет шириться и множиться, так что он сам в нём в конце концов запутается. Вдобавок друзья и родные зачастую воспринимают чью-то постоянную ложь как предательство. Начнутся ссоры, ругань, раздоры… Отношения будут испорчены.
Бретт внутренне смирился с тем, что отныне и на неопределённый срок у них с Руфусом Донахью единственными спутниками жизни будут они сами. Смирился он и с тем, что однажды имаго, возможно, его убьют. Это его не особо волновало. Армейская закалка приучила Бретта воспринимать такие вещи философски. Убьют значит убьют. Раз прикосновение имаго убивает мгновенно, то чего ж бояться? И хотя «котиков» учили терпеть боль и пытки, смерть всё равно выглядела страшно, если длилась мучительно долго, если жизнь болезненно выдавливалась из тебя по капле, как кровь, обрекая на неописуемые страдания. К чести имаго, они не заставляли свои жертвы страдать.
По мере вовлечения в деятельность отдела у Бретта возникали новые и неожиданные вопросы.
– А если нам начать убивать имаго до окончания трапезы? – предлагал он. – Так разве не честнее было бы по отношению к жертве и к её родным? Ведь семья могла бы получить хоть какие-то останки, чтобы достойно похоронить.
Большинство подобных разговоров происходило в машине. Старший агент Донахью поворачивался к Бретту с выражением бесконечного терпения на благородном лице с римским профилем.
– Ты всерьёз полагаешь, что отдел вручил бы останки родственникам? Те самые останки, которых только что касался имаго?
Он со вздохом качал головой, поражаясь наивности и несообразительности стажёра.
– Ты что, не смотрел ни одного детективного сериала? Разве не ясно, что любые останки должны в первую очередь поступить на криминалистическую экспертизу? Нет, друг мой, недоеденная трапеза имаго осела бы в наших лабораториях и, учитывая, как медленно и тяжко нам достаётся каждая крупица знаний, родные и близкие пострадавшего успели бы состариться и умереть прежде, чем отдел вернул бы им останки.
Бретт догадался, что опоздал со своей дурацкой идеей и что отдел уже наверняка что-то подобное попытался осуществить.
– Понимаю, что лишать родных возможности нормально похоронить хоть что-нибудь, кажется тебе не совсем этичным, – добавил агент Донахью, – но и ты пойми, друг мой, насколько труднее было бы объяснить убитым горем людям, как погиб дорогой им человек и почему это произошло. Уясни простую вещь. Вся выработанная человечеством гуманистическая этика действует лишь в обычных обстоятельствах, а в обстоятельствах необычных она, соответственно, не действует. К необычным обстоятельствам относятся хорошо знакомые тебе войны. Ты ведь участвовал в спецоперациях и наверняка видел нормальные для войны вещи, от которых кто угодно в мирное время пришёл бы в ужас. Так вот, причастность имаго к абсолютно любым обстоятельствам уже по определению делает эти обстоятельства необычными – со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Прими во внимание и психологию человеческих масс. Если широкая общественность вдруг узнает, что где-то по ночам появляются монстры и жрут людей, тысячи наших сограждан отнюдь не запрутся в своих домах в обнимку с дробовиком. Напротив, они начнут толпами и поодиночке бродить по ночным улицам и переулкам, чтобы увидеть трапезу, снять видео и выложить в интернет, и неважно, насколько велика опасность. Самопровозглашённые «народные патрули» будут пытаться прогнать имаго бейсбольными битами и баллончиками с перечным газом. А уж если кто-то узнает, что мы охотимся на ночных монстров, за нашими машинами протянутся многокилометровые кортежи из добровольных «помощников» и праздных зевак, чтобы увидеть, как мы будем выполнять свою работу, и при необходимости «помочь». Это будет зараза хуже, чем папарацци, преследующие голливудских звёзд. Никого из них мы не сможем отогнать ни уговорами, ни угрозами. И вот тогда наступит чёрт знает что – просто потому что так устроены люди. Нам тупо не дадут работать. Обязательно найдутся умники, которые заявят, что у имаго тоже есть права и мы обязаны их соблюдать. Убийство имаго без суда и следствия будет восприниматься ими как незаконное и они начнут нам мешать. Уж поверь мне, друг мой, лучше сразу проявить жёскость, чем потом расхлёбывать последствия…
В другой раз – это было в Филадельфии, утром, после того, как ночью жертвой имаго стал одинокий уличный толкач вместе со всем своим товаром, – Бретт и Руфус зашли в кафе подкрепиться и выпить кофе.
– Насколько я успел заметить, имаго всегда являются поодиночке, – сказал Бретт, когда официантка принесла заказ и отошла обслужить другие столики, – и всегда выбирают одиночную жертву. Известны ли примеры иного поведения, за исключением случая с Теслой? Имаго охотятся на людей сообща? Выбирают в жертву многолюдные компании?
Подумав, старший агент Донахью покачал головой.
– Нет, мне о таком не известно.
– Стало быть имаго не присущ стадный инстинкт, – сделал вывод Бретт, – и у них есть некий сенсорный орган, позволяющий им отличать одинокого человека от группы людей.
– Наверняка есть, – согласился старший агент. – Они же живые, разумеется у них должны быть развитые органы чувств.
– Всё же я не понимаю, – вздохнул Бретт, – зачем имаго таятся по малолюдным местам. Мяснику ведь плевать, знают ли овцы и телята о мясобойне. А так получается, что имаго нам действуют на руку, это нам проще избавляться от них без свидетелей в укромных местах. Вот мне и непонятна их мотивация. Когда живое существо голодно, ему обычно плевать, наблюдает кто-нибудь его трапезу или нет. А вот в действиях имаго явно скрыт какой-то умысел, и ты как хочешь, но для меня это ещё одно свидетельство их разумности.
По какой-то причине тема разумности имаго была неприятна Руфусу Донахью, но он всё же сделал над собой усилие и позволил втянуть себя в полемику.
– Мяснику плевать на осведомлённость скота относительно своей участи, потому что у овец и телят нет воли и разума, они не способны организовать сопротивление, но люди-то – не животные. У нас есть воля и разум, мы способны дать отпор, доказательством чему служит отдел «Лямбда». Может быть имаго таятся по тихим и малолюдным местам, потому что опасаются масштабного сопротивления с нашей стороны? Мы научились их убивать – дело нешуточное…
– Подобные рассуждения и опасения также свидетельствуют о наличии у имаго разумного сознания, – сделал вывод Бретт.
Некоторое время они молча ели, затем агент Донахью нарушил паузу.
– Если хорошенько разобраться, имаго неплохо устроились, друг мой. Попробуй мысленно сопоставить темпы, с какими мы плодимся, с темпами, с которыми нас пожирают. Получается, что запаса еды ночным монстрам хватит надолго. Фактически навсегда. В лице человечества они располагают стабильной и обширной кормовой базой. Мы – самовозобновляющийся продуктовый ресурс.
Но так, строго говоря, было не всегда. Экспоненциальный рост нашей численности начался, по историческим меркам, совсем недавно – каких-то пять – семь тысяч лет назад, когда появились первые городища и первые государства. До этого почти миллион лет популяция людей была весьма скромной. На всём земном шаре проживало меньше народу, чем сейчас в одном Нью-Йорке.
– Я тоже думал на эту тему, – кивнул Бретт, допивая кофе и делая знак официантке, чтобы добавила ещё. – Кем питались имаго, когда на земле не было людей? Существовали ли имаго уже тогда или возникли позже? Жрали ли они наших предшественников-гоминид и если да, то почему брезгуют животными теперь? Или всё же не брезгуют?
В ответ на это агент Донахью лишь пожал плечами.
– Сомневаюсь, что отдел располагает такой информацией, друг мой. Нам пришлось бы построить машину времени, отправиться на ней на пару миллионов лет в прошлое и посмотреть, что и как там было.
– А представь, если бы выяснилось, что существовало и до сих пор существует множество разновидностей имаго – по числу всех видов живых существ. У людей свои имаго, у австралопитеков свои, у шимпанзе свои, у лошадей свои, и даже у червей и лягушек имеются свои виды имаго, которые жрут их по ночам… – Бретта охватил полёт фантазии. – Или представь ситуацию ещё круче. Чтобы видеть лошадиных имаго, нужна «травма прозрения» лошадиного мозга, чтобы видеть черепашьих имаго, нужна «травма прозрения» черепашьего мозга, и так далее для всех животных. Мы же со своей «травмой прозрения» можем видеть только своих имаго и у других животных такая же фигня. Корова с «травмой прозрения» не увидит наших имаго или имаго куриц, или чьих-то ещё, она будет видеть только своих имаго. Более того, подобное выборочное восприятие может быть и у самих имаго. Наши имаго не интересуются животными просто потому что не воспринимают их! А имаго каких-нибудь колибри по той же причине не могут сожрать человека или слона. Каждому своё – вот что я хочу сказать! Каждому своё!
– Ну ты и фантазёр, друг мой, – улыбнулся Руфус Донахью. – Ты только не подумал, что из твоей теории следует. А из неё следует, что, например, после вымирания какого-либо вида животных его имаго тоже должны вымирать, ведь им нечем больше питаться, а на другую пищу они перейти не способны, ведь они её не воспринимают.
– Логично, – согласился Бретт. – Только некоторые виды животных не вымирают, а эволюционируют в другие, более высокоразвитые. Может и имаго эволюционируют вслед за ними? Допустим, людей же когда-то не было? Значит и наших имаго тоже не могло быть. От кого мы произошли?
– От Гейдельбергского человека, – подсказал Руфус Донахью.
– Вот. Сперва были имаго Гейдельбергского человека. Затем он эволюционировал в наш вид и ночным монстрам не оставалось ничего другого, кроме как эволюционировать вслед за ним. Возможно, что эволюции всех животных и всех имаго так и идут параллельно друг другу.
Выслушав Бретта, агент Донахью продолжил развивать начатую тему:
– Как бы то ни было, человек современного типа жил несколько десятков тысячелетий, оставаясь в рамках весьма немногочисленной популяции, и вдруг начал усиленно плодиться.
Бретт его перебил:
– Я в курсе этой темы, видел в какой-то документалке. Типа вроде как в промежутке между концом палеолита и концом неолита человек освоил животноводство и земледелие, одомашнил животных, стал вести осёдлое сельское хозяйство, начал лучше питаться – отсюда и повышенная плодовитость.
В ответ на это Руфус Донахью так фыркнул, что чуть не расплескал свой кофе.
– Я просто поражаюсь уровню той ахинеи, какую некоторые недобросовестные очковтиратели, называющие себя «учёными», вбивают в ваши неокрепшие головы. Ты хоть мозгами-то иногда шевели. К настоящему времени мы генетически адаптировались усваивать некоторые белки, типа глютена и лактозы, поэтому с удовольствием потребляем молочко, творожок, хлебушек, сыры, сою, йогурт и в целом питание у нас, если сравнивать с одним только полусырым мясом, действительно улучшилось. Но в те-то далёкие времена, когда люди ещё не успели адаптироваться к новой еде, какое, к дьяволу, могло быть улучшение?
В сложившейся развитой цивилизации с прогрессивной наукой и культурой селекционеры сумели вывести породы скота, дающие много мяса и молока, и высокоурожайные сорта питательных злаков со здоровенными колосьями и зёрнами. А что было в глубокой древности? Тогдашний человек не располагал ничем, кроме дички с одним крохотным зёрнышком на колоске, которая вдобавок ещё не везде росла. Кое-где он откапывал чахлые корешки маиса и другие корнеплоды. Чуть получше было с фруктами и ягодами, однако собирая их, людям приходилось выдерживать нехилую конкуренцию со стороны птиц, приматов, диких свиней, медведей и много кого ещё. Также в распоряжении древнего человека имелась тощая и облезлая дикая корова, которую лишь предстояло одомашнить и откормить, и у которой почти не было молока, да и вместо мяса торчали сплошь кости да жилы. И это-то вот «улучшило» питание, серьёзно?
Улучшение питания неизменно приводит к росту продолжительности жизни. Это надёжный и достоверный факт. Если в далёкой древности питание «улучшилось», тогда почему же до середины двадцатого века средняя продолжительность жизни равнялась всего двадцати пяти – тридцати годам? Неужто люди от переедания мёрли как мухи?
– И что ты хочешь этим сказать? – спросил Бретт.
– Я хочу сказать, друг мой, что никаких по-настоящему объективных причин заниматься земледелием и животноводством у людей каменного века не было. Любая работа на этом поприще в ту эпоху была работой не на настоящее, а лишь на весьма отдалённую перспективу. Вот возможно мы начнём сеять дичку с одним зёрнышком и у нас когда-нибудь заколосятся поля высокоурожайной пшеницы (или ячменя). Вот возможно мы начнём разводить тощих и облезлых коров и у нас когда-нибудь появятся тучные стада, дающие много мяса и молока. Вот возможно когда-нибудь мы адаптируемся к непривычным белкам и каждый приём пищи не будет сопровождаться аллергической сыпью и затяжными приступами диареи. Но именно что когда-нибудь, через много-много поколений, а прямо сейчас нам предстоит жить впроголодь, потому что, тратя время на культивацию чахлых дичек и тощих коров, мы ограничиваем себя в охоте, рыболовстве и собирательстве – то есть во всём том, что реально обеспечивало наш рацион до сих пор. Это не считая того, что всё племя чешется от сыпи, а все кусты вокруг стойбища смердят от поноса, вызванного новой и непривычной едой.
В настоящее время мы умеем готовить вкусные и сытные блюда из муки, яиц, молока, сметаны, маиса, сои и картофеля. Откуда это умение могло взяться в древности, чтобы так уж прям «улучшить» рацион? В настоящее время мы знаем, как правильно рыхлить и вспахивать землю, как её удобрять, как пропалывать посадки от сорняков, чтобы получить хороший урожай. Нам знакомы орошение и ирригация. Мы знаем, что, сняв урожай, земле нужно дать отдохнуть, нельзя снова что-то в неё сеять. Откуда бы все эти знания могли взяться в древности, чтобы тогдашний человек мог регулярно собирать хорошие урожаи? В те времена вообще хоть какой-то урожай считался единичной и удачной случайностью, а отнюдь не надёжным макропоказателем. Чаще всего человек получал вместо урожая погибшие на корню, зачахшие или вовсе не взошедшие посевы. Причин масса: вовремя не поливал, посадил в неподходящий тип почвы, не удобрил, задавили сорняки, погубили вредители, закопал семена недостаточно глубоко и их склевали птицы… Так откуда же должно было взяться «улучшение» питания?
Бретт молчал, ожидая, что наставник сам ответит на свой вопрос.
– Машины времени у нас нет, – печально констатировал агент Донахью, – и со стопроцентной уверенностью мы ничего не знаем. Известно лишь, что с некоторого момента начинает свой отсчёт процесс, выгодный одним лишь имаго. Нет никаких эмпирических оснований полагать, будто увеличение своей численности было выгодно самим людям – хотя бы потому что чем больше людей, тем больше времени и сил нужно тратить на производство продуктов питания. Чтобы растущая по экспоненте популяция не сдохла с голоду, в производство питания должен быть вовлечён абсолютный максимум населения. До середины двадцатого века, т. е. пока сельское хозяйство было натуральным хозяйством и не облегчалось механизацией, везде так и было: восемьдесят – девяносто процентов населения проживало в деревне и создавало еду. Ни в какой другой области эти люди себя проявить не могли, потому что на другое у них тупо не оставалось времени и сил.
Питание с ростом нашей популяции улучшилось (без кавычек) прежде всего у имаго. Да, друг мой, только у них. Приятно думать, что глобальное переформатирование человечества, так называемую «неолитическую революцию», вызвали естественные и объективные причины. Смущает лишь одна маленькая деталь: создания, для которых мы всего лишь еда, почему-то оказались главными и на долгое время единственными бенефициарами новой реальности. И если задаться сакраментальным вопросом «cui prodest?»[1], ответ будет очевиден и будет он далеко не в нашу пользу. Выгоду от «неолитической революции» получили вовсе не мы.
Примерно двести лет назад жил человек, утверждавший, что, развивая капитализм, буржуазия сама создаёт своего могильщика – пролетариат. По аналогии можно сказать, что, направив развитие человечества по нынешнему пути, а это путь техногенного развития, имаго (только если это действительно они постарались) тоже породили своего могильщика – отдел «Лямбда», потому что техногенное развитие позволило нам обрести необходимые знания и возможности для создания оружия против имаго. Останься мы жить первобытным укладом, Никола Тесла может и родился бы, но не стал бы физиком и не создал бы излучателя, способного убивать имаго. А выйти против ночных монстров с каменным топором как-то… Ну ты понял.
Однажды Бретт поинтересовался:
– Сколько всего полевых агентов колесит по стране?
– Увы, слишком мало, друг мой, – печально вздохнул Руфус Донахью. – Очень-очень мало…
Слушая его постоянные сожаления о нехватке кадров, Бретт с энтузиазмом предложил идею, которая казалась ему очевидной.
– Ты говорил, что Тесла сумел добиться искусственной имитации «травмы прозрения». А нельзя ли повторить его эксперимент? Допустим, закрепить на голове какой-нибудь приборчик, который воздействовал бы на зрительный центр электрическим полем, чтобы любой человек мог видеть имаго. Это позволило бы рекрутировать сколько угодно добровольцев из полиции, из армии и даже из частных структур. Заступил на смену, включил приборчик, отстрелял всех встречных имаго, выключил приборчик, пошёл домой. Или, если идея приборчика технически неосуществима, можно провести на добровольцах нейрохирургическую операцию затылочных долей, равноценную «травме прозрения». Тогда они смогут видеть имаго безо всякого приборчика. Представь, как подскочит эффективность отдела. Начнём отстреливать имаго пачками!
Агент Донахью восторгов стажёра не разделял.
– Странно слышать такое от человека, убеждённого в разумности имаго, – ответил он. – Если они произвели показательную казнь Теслы, когда тот создал свой излучатель, ты хоть представляешь, на что они пойдут, если мы начнём широкомасштабное наступление?
– Оставят нас в покое, – недолго раздумывал Бретт. – Лично я ставлю на такой вариант. А что? У них появится надёжный стимул.
– Ага, конечно, как бы не так! Разве ты перестанешь кушать мясо, если корова тебя боднёт? Нет, друг мой, ты захочешь убить именно эту корову, причём убить лично. Если тебя укусит койот, ты захочешь отстрелять всех койотов в округе. Ты за массовое выступление против имаго? А что если те тоже устроят нам что-нибудь массовое? Например, целиком «зачистят» Техас или Калифорнию – показательно, как Теслу, не для еды, а для устрашения. Они-то от этого ничего не потеряют, у них по-любому останется вдоволь еды, а каково будет правительству и общественности, если в половине штатов на улицах ляжет сто миллионов трупов? Думаешь, после такого ещё останется какой-то отдел «Лямбда»? Думаешь, нам позволят и дальше что-то предпринимать? Увы, друг мой, это будет конец всем нам.
Бретт попытался что-то сказать, но Руфус Донахью его остановил:
– Подожди, я ещё не закончил. Я обрисовал только один возможный сценарий, а ведь есть и другие. Представь, если я прав и наш выход из первобытного состояния произошёл по прихоти имаго. Раз они так легко и изящно сумели переформатировать наше общество и пустить по пути построения техногенной цивилизации, то кто им помешает столь же легко и изящно переформатировать нас обратно и вернуть в первобытную дикость, где определённо точно не будет современной физики, электричества, учёных, машин и излучателей? Будут снова каменные топоры. С этими топорами мы, завернувшись в шкуры, будем ходить по старым асфальтовым дорогам и недоумённо таращиться на ржавые автомобили и развалины домов, будем теребить в руках обрывки джинсов и полиэтиленовых пакетов, трясти бесполезные бытовые приборы, не зная и не понимая, что это всё такое, откуда взялось и для чего предназначалось. На свете нет больше саблезубых тигров и некому внушать нам тот же ужас, что нашим пещерным предкам, однако это вот обилие непонятных штуковин вокруг нас вполне способно заместить собою саблезубых тигров и внушить нам не меньший ужас. Мы будем знать, что независимо от нас здесь что-то происходило, что-то глобальное, непостижимое и оттого ужасающее. И мы тоже будем сидеть в землянках и шалашах и трястись от страха, как бы это непостижимое нас ненароком не затронуло и не погубило.



