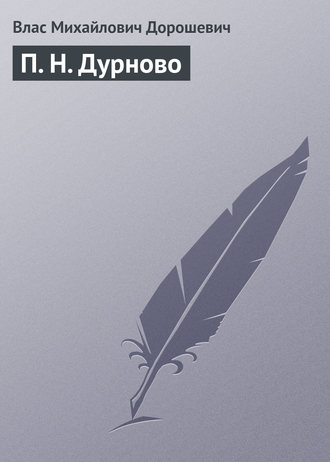
Влас Дорошевич
П. Н. Дурново
И если бы это не были «Весёлые Малютины дни», – как бы не назвать их:
«Весёлыми Расплюевскими днями».
Как происходит в участке это таинственное превращение человека в плоть и кровь полицейского?
Мистерия.
Йоги в Индии говорят, что чтение мыслей на расстоянии зависит от того, что мысль производит известные колебания в эфире, который находится между атомами воздуха.
– И человек, не потерявший такой чувствительности мозговой ткани, воспринимает эти колебания эфира и таким образом читает чужие мысли.
Мысли дрожат в воздухе.
И воздух полон мыслей. Они носятся в нём, как цветочная пыль весною. И оплодотворяют человеческие головы, как цветочные головки.
Поэтому йоги советуют:
– Каждый человек должен иметь в своём жилище такую светлую и приятную комнату, куда сначала он должен заходить в добром и приятном настроении духа, с лёгким сердцем. И предаваться там мыслям светлым и хорошим. Наполнять воздух добрыми колебаниями эфира и дрожью ясных мыслей. Потом он может входить в эту комнату и тогда, когда ищет душевного покоя. Он заметит, как в этой комнате он успокаивается и становится лучше. Это добрые колебания эфира, которыми он наполнил когда-то эту комнату, сообщают его мозгу светлые и радостные мысли.
Йоги говорят:
– Так объясняется невольное благоговейное настроение, которое вас охватывает, когда вы входите в какой бы то ни было храм, совсем чуждой даже для вас религии. И то ощущение безотчётной грусти, которое охватывает вас на кладбище даже чуждого вам племени. Как будто кто-то из ваших близких лежит здесь! Это разлиты в воздухе колебания эфира, дрожат мысли тех, кто здесь молился и рыдал. И вы думаете их мыслями!
И йоги считают поэтому храм, осквернённый насилием, более не храмом:
– В его воздухе остались и дрожат и заражают входящих мысли ненависти и зла!
Может быть, так же и в участке?
Полицейские колебания эфира?
Но чем бы раньше ни был и чем бы ни занимался раньше человек, войдя в полицию, он становится, как двугривенный на двугривенный, похож на всех полицейских, настоящих, прошедших и будущих!
И полицейский, который сказал бы: «Я выдумал нечто полицейски-новое!» – хвалился бы невозможным.
Ничто не ново под полицейской луной.
Ещё на днях весь цивилизованный мир с содроганием от ужаса – ну, и от других, конечно, чувств! – прочёл беседу одного из ревностнейших администраторов г-на Дурново с французским журналистом.
– Полиция, значит, не знала, что в Москве в декабре готовится вооружённое восстание? Не предупредила!
– Нет, знала заранее.
– Как же так? – стал в тупик французский журналист.
Администратор помолчал с минуту и ответил, как говорит журналист, потирая руки, «четыре слова»:
– On a laissé passer.
По-русски будет два слова:
– Допустили нарочно.
Всему миру показалось:
– Страшно.
Но полицейски старо.
Боже мой, как полицейски старо!
Покойный А. П. Лукин рассказывал мне как анекдот свою беседу с покойным Н. И. Огарёвым.
Вы помните эту фигуру доисторического полицмейстера Москвы?
Грандиозные усы с подусниками.
«Старо-полицейские».
Какие и росли только у одних старых полицмейстеров.
Свирепое лицо, и добродушнейшее существо.
И при этом прост, – чтоб не сказать о покойнике иначе, – до анекдотичности.
В простоте душевной он говорил либералу-журналисту:
– Удивляюсь, все кричат: «Революционеры! Революционеры!» Боятся: «баррикады!» Сразу можно со всеми революционерами покончить!
– Как так?
– Очень просто! Выстроить им баррикады. Полицейскими мерами! А как они на эти баррикады выйдут, – всех их и застрелить! И конец!
– Зачем же они тогда на баррикады пойдут, если будут знать, что их всех застрелят?
Бедный Огарёв так и остался с открытым ртом:
– Н-да!
Видите, – мысль нова, как участок!
Только тогда можно было сказать:
– Зачем же пойдут?
А теперь пошли.
И Огарёвский анекдот превратился в… факт.
И на том свете Огарёв должен торжествующе спросить бедного Лукина:
– Что-с?
Если только даже на том свете полицейских и прочих людей держат в одном и том же месте.
«Витте и Дурново».
Это наши политические:
«Мюр и Мерилиз».
На наших восточных окраинах есть тоже такая фирма:
– Кунст и Альберс.
И владивостокская дама, в ответ на атаку моряка, – моряки на суше всегда победители! – говорит, потупляя глазки:
– Ах! Нет! Что вы? Конечно, я буду завтра в два часа гулять у могилы Кунста и Альберса. Но вы не вздумайте приходить!
«Могила Кунста и Альберса», – так все и зовут.
Но кто в ней похоронен:
– Кунст или Альберс?
Не знает никто.
«Витте и Дурново».
Кто из них Мюр и кто Мерилиз?
Но это, как известно, было не всегда.
Граф С. Ю. Витте очень извинялся:
– Что ж прикажете делать? По Министерству Внутренних Дел масса бумаг. Всё это знает один П. Н. Дурново. Надо было оставить его. А предложить ему меньше министра…
Г. Дурново надоело быть вечным:
– Товарищем.
Это что-то в роде вечной невесты!
Только швейцары в министерствах бессменны:
– Министры при нас меняются. Мы остаёмся!
И предложить г. Дурново меньше министра:
– Было неудобно. Он бы не пошёл.
Не особенно лестно!
И московская депутация выслушивала в конце октября это «душевное прискорбие» графа Витте со знаками сожаления.
С тех пор много воды утекло. Да и не одной воды…
Я не знаю, в какой форме граф Витте брал потом пред г. Дурново свои слова назад.
Да и предусмотрел ли Герман Гоппе в своём «хорошем тоне» такую форму.
– Как должен премьер-министр извиняться перед другим министром, по поводу вступления которого в министерство он выражал «душевное прискорбие» и дружбы коего он ныне ищет?
Вопрос политичный.
Но я знаю, что граф Витте совершенно напрасно извинялся тогда пред московской депутацией за г. Дурново:
– Хоть и г. Дурново, но будет хорошее министерство!
Это было логично. Естественно.
Больше:
– Неизбежно.
«Исторично».
В трудные времена всегда призывается министр из департамента полиции.
После смерти Сипягина момент был трудный!
Призвали фон Плеве.
После обморока – не смерти! – старого режима настал момент трудный!
Призвали Дурново.
Что такое полиция?
Ещё Гоголь назвал русского полицейского:
– Дантистом.
Полицейское дело – дело хирургическое.
Что такое у нас полиция?
В старинных барских имениях всегда имелся:
– Домашний врач.
Полуконовал, полуцирюльник.
В общем:
– Фельдшер.
Лечил всех, от барыни до коровы.
Средство знал одно:
– Кровь отворить.
Лечил им ото всего.
От завалов и простуды, колик и меланхолии.
Вежливенько наклонялся к уху, стараясь не дышать в лицо, и таинственно спрашивал:
– Стул имели?
– Нет!
Кровь отворял.
– О-го-го!
Тоже кровь отворял.
И барыня была в восторге от своего «домашнего».
– Лучше всяких учёных помогает!
Времена были простые, телятина хорошая, кур и масла вдоволь, солонина не покупная.
Барыня была, дай ей Бог, упитанная, – и сколько Гаврилыч барыне кровь ни бросал, – как с гуся вода.
Бледнела, но жила.
Иногда приехавший на вскрытие «найденного по случаю храмового праздника мёртвого тела» из города немец-доктор спрашивал помогавшего потрошить Гаврилыча:
– Разве так можн, Гаврилийш, баринин кроф без всякий счёт бросайт?
Гаврилыч отвечал спокойно и твёрдо:
– Ништо! Новые мяса нагуляет!
И вот однажды матушке-барыне случилось худо совсем.
Не колики, не изжога, не ветры и не под ложечкой.
А совсем дрянь.
Окружающие робко советовали:
– Верхового бы в город послать. Доктор нужен!
Но барыня только отмахивалась:
– Ну, их, учёных! Начнёт ещё мудрить! Гаврилыч на что? Позовите Гаврилыча. Пусть кровь отворит!
Гаврилыч пришёл и, как всегда, кровь «бросил».
Но случай исключительный. «Бросил» больше.
А через три дня в горницах старого барского дома, кроме обычных тмина, аниса и мяты, пахло ещё и ладаном…
И прискакавший «из губернии» двоюродный племянник…
Тётя умерла, не успела составить духовной и «упомянуть» двоюродного племяша.
Двоюродный племянник, прищучив Гаврилыча в тёмном углу, тыкал его «кавалерийским кулаком» в зубы:
– Ты что ж это, распроанафема? Тётеньку на тот свет отправил?!
А Гаврилыч в смущении чесал затылок и с тоской говорил:
– Мы что ж! Нешто наше дело! Мы – коновалы!
Полиция, – «дантисты», – всегда была у нас своим, домашним, «симпатическим» средством.
Какими бы болезнями ни заболевало Российское государство:
– Полицию!
Раскол.
Трудный вопрос.
Богословских споров дело.
– Полицию!
И полиция знала одно средство:
– Бросить кровь!
– Двумя персты крестишься? Драть.
– По какому случаю брака избегаешь? А-а! Необходимых принадлежностей не имеешь? Драть!







