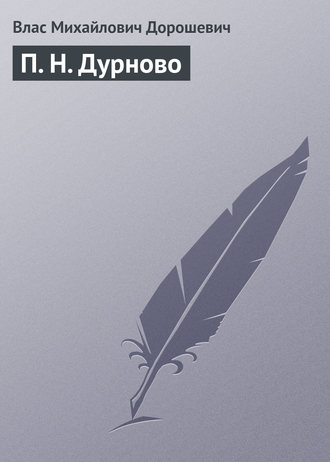
Влас Дорошевич
П. Н. Дурново
Градоначальник Зелёный, мягко и кротко беседующий с евреем, – это должно было произвести сильное впечатление в Одессе!
И действительно:
Слова его превосходительства о бедственном положении должника настолько подействовали на держателя векселя, что тот не только решил отсрочить, но даже простить долг бедному должнику. И тут же, по собственному почину, разорвал вексель.
Взыскатель, рвущий векселя, – тоже явление очень обычное в Одессе!
И в результате такой идиллии, – в объяснении спрашивалось:
– Чего же фирма «Князь Юрий Гагарин» жалуется? Она ведь ничего не потеряла: вексель принадлежал не ей. Кто мог бы считаться потерпевшим, если б он нашёл какие-нибудь неправильности в действиях градоначальника, – так это еврей, держатель векселя. Но и его жалоба должна бы остаться без рассмотрения: пока фирма «Князь Юрий Гагарин» неправильно жаловалась в Сенат и шли объяснения, держатель векселя, единственный, кто мог бы жаловаться, пропустил законный срок для подачи жалобы на действия градоначальника.
И резолюция Сената:
– Жалобу фирмы «Князь Юрий Гагарин» оставить без рассмотрения, потому что, уступив вексель другому, она является к делу лицом непричастным. А от потерпевшего жалобы в законный срок принесено не было. Дело прекратить.
Такова сила «отписки».
В этом воспитана русская полиция её «страшным (!) судьёй»:
– Первым департаментом Сената.
И что ж удивительного, что бывший директор департамента полиции…
Не слышится ли вам той же «отписки» в инциденте, ещё на днях разыгравшемся в приёмной министра внутренних дел?
Представлялась какая-то депутация.
Кажется, конституционно-демократической партии.
И сделала заявление, что:
– Многие члены этой партии, самые невинные, подвергаются аресту. За что?
Г. Дурново сделал удивлённое лицо.
И заявил, что такие аресты производятся, конечно, без его ведома, он о них не знает, а когда узнаёт – немедленно отменяет.
Весь мир. Уместно ли тут говорить о цивилизованных?
Весь нецивилизованный мир знает, что у нас сажают людей и томят их в тюрьмах ни за что ни про что.
Спросите у негра в Трансваале, у сингалеза на Цейлоне, у гавайца на Сандвичевых островах:
– Хватают в России кого ни попало?
Всякий оскалит свои сверкающие зубы и даже прищёлкнет языком:
– О-го-го!
– Кто это делает?
– Мастэры полицие!
Сам не читал, – слышал, как белые джентльмены в газетах каждый день читают.
И во всём мире один только человек об этом ничего не знает.
И какая роковая для нас случайность: этот человек – начальник русской полиции!!!
Не слышится вам в этом «отписки»:
– Да у меня и бумаг таких нету!
Хоть в столах во всех пересмотрите!
– Нет таких донесений. Значит, я ничего не знаю.
Не доказательство?!
Чувствует бывший директор департамента полиции, чувствует смущённой душой, что в воздухе пахнет чем-то новым.
Словно какое-то новое начальство народилось.
– Какой-то «второй первый департамент Сената»!
Общественное мнение.
Ему нужно отчёт давать!
Судит!!!
И бывший начальник департамента полиции пробует и от общественного мнения бумагами отгородиться.
– Бумаг таких ко мне не поступало. Значит, не знаю-с.
Не прав?
«Жест страуса»!
Он даже трогателен в своей наивности.
Вот истинный полицейский жест!
Я говорю:
– Полицейский!
Потому что этим определяется всё.
«Полицейский…» – это заслоняет всё. И никакие личные качества, личные особенности не играют никакой роли.
Личные особенности!
В одном из южных городов я был свидетелем допроса погромщиков после еврейского погрома.
Погромщиков было задержано много. С допросом надо было торопиться.
Пристав, – статный мужчина, талья в рюмочку, усы в фиксатуаре стрелами, глаза на выкат, как у рака, Адонис полицейской красоты, – ходил по кабинету. На столе лежала нагайка.
Вводили задержанного.
– Как зовут?
– Иван Иванов!
– Чем занимаешься?
– В порту рабочий.
– Повернись спиной!
– Как?
– Спиной повернись, тетеря!
И пристав вытягивал его вдоль спины нагайкой.
Иван Иванов не своим голосом вопил.
Пристав, побив, говорит, показывая руку, убранную перстнями:
– У меня рука известная.
Иван Иванов весь корчился.
– Отпустить! Не погромщик. Следующего!
Входил следующий.
– Как звать?
– Сидор Сидоров.
– Занятие?
– В порту рабочий.
– Стань спиной!
И снова нагайка.
Сидор Сидоров вскрикивал. Но «не особенно».
– Как будто больше от неожиданности, чем от прочего! – как пояснял пристав.
Снова нагайка.
И снова:
– Нет достаточного звука!
Это пристав называл:
– Добывать из человека настоящий голос!
Пристав командовал:
– Рубашку снимай.
– Как?
– Рубашку снимай. Слышал?
Сидор Сидоров снимал рубаху и… оставался в другой.
– И эту снимай!
Сидор Сидоров снимал вторую, но под ней оказывалась третья. Дальше шли две-три вязаных фуфайки.
– Погромщик. В арестную.
– Помилуйте, ваше высокородие! Будьте милостивы! Какой я погромщик? Да не пальцем!.. Как перед Истинным. Шёл, – ребята бают, остановился посмотреть, меня вместе с другими и забрали. Ваше высокородие, явите начальническую милость!
– Пой! А «слоёный» зачем? Зачем столько рубах надел?
Сидор Сидоров несколько смущался.
Но находился:
– Ваше высокородие! Время праздничное. Второй день святой Пасхи!
– Так в нескольких рубахах щеголяешь?
– Не то, а народ пьяный, ваше высокородие! Через это! Дома оставлять боязно. Того гляди, стащат! Безо всего пойдёшь. Всё на себя и одел, что было. Для безопаски.
– Мы эти речитативы-то слыхали! Прибрать!
И пристав самодовольно пояснял:
– Это обычная предосторожность. Практикой ихней выработано. Они, когда на погром идут, так нарочно на себя все рубахи, какие есть, надевают, – казаки хлестать будут, так чтобы не больно было! Я их «психологию» вот как знаю. Следующего!
Я попробовал заметить приставу:
– Но ведь то, что вы делаете, называется «пыткой при дознании».
Он посмотрел на меня с удивлением:
– Да разве они это понимают?
А в тот же вечер в ресторане я услыхал, что кто-то в кабинете пел:
Помолись, милый друг, за меня!
Пел с величайшим чувством:
Много в жизни пришлось мне Кружжиться…
Пел с изражением:
Не могггу я уж больше Мммолиться…
Со слезой!
– Кто это у вас, так надрывается? – спросил я у лакея.
Лакей осклабился:
– А это г. пристав… Чудесно поют, хоть и по счетам не платят. Большое удовольствие!
И он назвал мне того самого пристава, который утром занимался в участке «психологией».
Пристав на следующий день сам «сознавался» мне:
– Слабость! Только и мечтаю, – вот все эти допросы кончу, – в Одессу поехать: г. Фигнера в «Онегине» послушать. «Куда, куда вы удалились!» Ах!
Но добавлял:
– Хотя истинная моя симпатия… Не патриотично, может быть. Но итальянцы! Как, подлецы, поют! Арамбуро, например, мерзавец! «Лючию» или «La donna è mobile»[3]. Что ж это такое? Наши, – что поделаешь! Тужатся. А итальянец! Как птица, подлец, поёт. Словно для своего удовольствия! Сам каждой нотой любуется! Свободно, легко. Истинное «бельканто» только у итальянцев и найдёшь! Прямо скажу: только и живу, когда оперу слушаю. Да сам вот ещё споёшь. Сердце на волю отпустишь. Пусть полетает!
И чуть не со слезами на глазах пояснял:
– Мне бы по склонностям в консерваторию следовало. Может бы, мир чаровал. Да папенька был человек строгий: в участок в писаря отдал. Теперь бы и мог, конечно, учиться. Да поздно. Верхи тремолируют. Да и в среднем регистре провал. Служба. Стоишь на холоде у подъезда в театре и «do» теряешь. Разве эта служба для тенора? Следующий!
И человек с такими тонкими музыкальными вкусами был приставом. И каким!
Умён, нет, груб, нежен, жесток, – всё это не играет ни малейшей роли.
Ложка, вилка, запонка, поступая на монетный двор, – всё превращается в двугривенные.
И из человека, поступающего в полицию, вытравляется всякая лигатура и остаётся один чистый:
– Полицейский.
Щекотливый вопрос о личных качествах, достоинствах, недостатках тут можно оставить.
Надо заниматься, «говоря зоологически»:
– Видом, а не особью.
А, каков человек? Кем он был раньше?
Возьмём Расплюева.
Расплюев «Свадьбы Кречинского» и Расплюев «Весёлых Расплюевских дней».
Бывший шулер.
Сам от полиции за диван прятался:
– Михаил Васильевич, полиция!!!
А поступил в квартальные.
Каким совершенным полицейским сделался!
Высшие административные восторги вкушать стал способен!
В административном экстазе восклицает:
– Всех! Всю Россию подозреваю!
Не самое ли современное полицейское рвение:
– Всю Россию подозреваю!
Хоть сейчас его!
Как скрипка в футляр войдёт в наше время.







