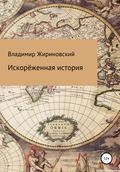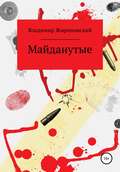Владимир Вольфович Жириновский
Россия и Япония
По счастью, то, о чем говорится в “Ответе” Б.Н. Ельцина, диаметрально противоположно предложению Р. Хасимото. В этом Япония усматривает то, что Россия не сохранила характер притязаний Советского Союза на Северные территории. И именно это таит в себе опасность раз и навсегда «похоронить» результаты улучшения российско-японских отношений.
Россия в противоположность этому, отнесла подписание Московской декларации к факторам улучшения отношений. Со стороны российской власти проявлен весьма благожелательный подход: “Президент Российской Федерации и премьер-министр Японии… дают указание своим правительствам активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Токийской декларации и договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне в Красноярске и Каване”.
Возможности улучшения отношений
Иногда высказывается совершенно нереальная идея компромисса: два островных образования (Хабомаи и Шикотан) передать Японии, а два острова (Кунашир и Итуруп) оставить России. Это так называемая “концепция возвращения двух островов” – компромиссное предложение, которое часто приходит на ум. “Концепция возвращения двух островов” – это предложение, сделанное Японии прежним Советским Союзом при Первом секретаре ЦК КПСС Н.С. Хрущеве, когда в 1955–1956 годах шли переговоры о мирном договоре между Японией и Советским Союзом. Верно, что Япония в то время склонялась к принятию этого предложения. Однако кабинет министров Итиро Хатояма отказался сделать окончательный шаг к возвращению островов Хабомаи и Шикотан, причем основанием для этого в определенной степени оказалось и давление со стороны государственного секретаря Соединенных Штатов Дж. Ф. Даллеса. Компромиссы и уступки представляют собой неотъемлемые атрибуты переговоров. Тем не менее, если Россия, которая в состав которой входят Северные территории, согласится передать хотя бы два острова по требованию Японии, это будет означать, что она уступила и тем самым ущемила свои интересы.
Как было сказано ранее, концепция возвращения двух островных образований неприемлема для российской стороны в настоящее время. Проблема российско-японских отношений в настоящее время – это не споры или переговоры о количестве возвращаемых или не возвращаемых островов. Это не спор о том, что Япония не может согласиться на возвращение ей только островов Хабомаи и Шикотан, а требует возврата Хабомаи, Шикотана, Кунашира и Итурупа. Это и не спор о том, что Россия, в свою очередь, согласна на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но протестует против передачи всех островов: Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.
Если бы проблема заключалась только в споре о количестве подлежащих передаче островов, то, вероятно, можно было бы нащупать почву для компромисса и сближения позиций сторон. В настоящее же время вопрос с российской стороны стоит принципиально: сохранение всех северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. И причина такой постановки вопроса не в том, что якобы теперь стало неправомерным деление Северных территорий на острова Хабомаи и Шикотан, с одной стороны, и острова Кунашир и Итуруп – с другой, как это было записано в 1956 году в Совместной декларации Японии и СССР. Если на какое-то время мы примем это деление, то формулировка – “немедленно возвратив острова Хабомаи и Шикотан, продолжить консультации в отношении островов Кунашир и Итуруп”, вероятно, будет иметь смысл.
В этом случае важно решить: а для чего нужен этот компромисс, будут эти консультации служить достижению конечной цели или они вписаны в текст только для поддержания репутации договаривающихся сторон? Именно от того, какой смысл обе стороны вкладывают в эту формулировку, что за ней скрывается, и зависит в конечном итоге судьба данного предложения. И с этим же связан вопрос о том, как будет сформулировано решение территориального вопроса в тексте мирного договора между Японией и Россией.
После окончания второй мировой войны прошло более полувека лет, а мирный договор между Россией и Японией не заключен. Причина этого проста и известна всему миру ‑ препятствием для его заключения стал вопрос о северных островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Теперь допустим, что мирный договор между обеими странами в недалеком будущем будет заключен и в его тексте будет сказано, что стороны согласились на какой-то период провести серию консультаций по вопросам, в отношении которых между обеими странами существуют острые разногласия и по которым они не могут достигнуть компромисса. В этом случае формулировка о намерении приступить к серии консультаций будет означать не что иное, как откладывание решения спорного территориального вопроса на неопределенно долгий срок. Предложение о проведении серии консультаций означает не что иное, как намерение отложить вопрос на неопределенно долгий срок. И для России принятие этого предложения означало бы фактически продолжение, продление конфликтной ситуации, так как совершенно ясно, что при заключении мирного договора японская сторона имеет намерения договариваться только о возвращении всех северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп.
Другая идея, бередящая умы желающих поскорее “хоть как-нибудь” решить существующий территориальный вопрос состоит в том, чтобы поставить острова под “совместное управление”. Что касается экономики островов, то на этих четырех островных образованиях (на самом деле на трех островах, так как на островах Хабомаи население отсутствует) 80–90% русских жителей занимаются рыболовством. Морепродукты сосредоточиваются на заводах на островах Итуруп и Кунашир и после переработки отправляются в другие районы Сахалинской области, в материковую Россию, а также в последнее время в зарубежные страны. Российские граждане, будучи жителями спорных районов, зажатых между Японией и Россией, почти все сталкиваются с одними и теми же проблемами и испытывают одинаковые чувства.
Другими словами, можно предположить, что если часть из них примет решение перейти под власть Японии, а другая часть – остаться под властью России, то население в каждом из этих случаев, вероятно, непосредственно столкнется с психологическими колебаниями. Помимо того что такое разделение населения островов осложнит отношения между русскими и японцами, оно создаст еще одну сложную проблему между русскими, которые окажутся в Японии, и теми русскими, которые останутся в России. Если к тому же спорные острова будут переданы под совместное управление, положение на этих территориях еще более осложнится.
Давайте посмотрим, что представляет собой в целом совместное управление. Если иметь в виду, что два и более субъекта совместно осуществляют суверенитет над одной и той же территорией, то надо отметить, что, к несчастью, в истории человечества еще не было ни одного примера того, чтобы “совместное управление”, в упомянутом выше смысле этого слова, осуществлялось успешно. В свое время остров Сахалин (Карафуто) был превращен в район смешанного проживания россиян и японцев. Между ними непрерывно возникали различные недоразумения, и в конечном итоге в этой ситуации была поставлена точка – в 1875 г. был заключен Договор об обмене Курильских островов (Тисима) на Сахалин (Карафуто), и Сахалин стал российской территорией, а Курильские острова (Тисима) стали японской территорией.
Рассматривая “совместное управление” таким образом, российская сторона, пусть даже оно будет относиться к двум островам – Кунаширу и Итурупу, с этим не согласится. К тому же и Япония требует не частичного восстановления суверенитета над северными островами Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а полного его восстановления над названными выше территориями. Если рассмотреть внимательно предложение о “совместном управлении”, внесенное российской стороной, станет ясно, что это проект, по которому суверенитет над спорными землями поровну распределен не будет. Почти во всех случаях смысл подобных российских предложений заключается в том, чтобы японская сторона, насколько это возможно, в полной мере признала бы российский суверенитет над этими землями, а на долю японской стороны осталось бы право в незначительной степени осуществлять их хозяйственное освоение.
Скорее всего, на подобные предложения японская сторона согласиться не сможет. То, что в настоящее время японское правительство не отвергает категорически и абсолютно планы совместной хозяйственной деятельности на северных островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (в духе предложений Е.М. Примакова), объясняется тем, что региональное экономическое сотрудничество, не наносящее ущерба позиции Японии в вопросах суверенитета, в конечном счете может способствовать созданию атмосферы для возвращения Японии названных выше островов.
Еще одним вариантом решения конфликта вокруг Северных территорий может стать обращение в Международный суд ООН. “Вопрос о Северных территориях остается неразрешенным в течение более чем полувека после окончания второй мировой войны. В отношениях между участниками этого конфликта он, вполне вероятно, не будет разрешен и в дальнейшем. Поскольку этот вопрос затрагивает престиж обеих стран, создалось безвыходное положение, при котором ни одна из сторон не делает шага ни вперед, ни назад. Чтобы разрешить данный вопрос, существует способ урегулирования при посредничестве третьей стороны. Однако такой способ не обладает принудительной силой и с его помощью дело сразу с мертвой точки не сдвинуть. Поэтому другого способа, кроме как обратиться к суду, в распоряжении которого есть средства принуждения, не имеется”. Есть много тех, кто, думая таким образом, предлагает обратиться с иском по данному вопросу в Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды). Несомненно, если следовать изложенной выше логике, обращение в Международный суд ООН с иском по вопросу о конфликте вокруг Северных территорий представляется весьма рациональным.
Но если заглянуть вперед, такой подход покажется не только нерациональным, но как раз и приведет к трудностям. Сразу возникает вопрос: разве можно передавать решение деликатной проблемы в отношениях между двумя государствами на усмотрение третьей стороны? При обращении с иском в Международный суд ООН необходима договоренность о том, что обе стороны будут выполнять его решение. Между тем ни Япония, ни Россия пока еще не испытывают желания, договорившись по этому вопросу, обратиться с иском в упомянутый выше суд.
В России противники возвращения Японии Северных территорий выступают против того, чтобы направить иск по этому вопросу в Международный суд ООН. Так, Игорь Латышев (в прошлом заведующий корпунктом газеты “Правда” в Токио) полагает, что все члены Международного суда ООН представляют собой японских марионеток и вынесут решение в пользу Японии. Это дескать произойдет потому, что в настоящее время Япония является великой экономической державой, влиятельным государством мира, которое находится в тесных отношениях с ведущими странами Запада. Ясно, что, как указывается в заявлениях председателей встреч на высшем уровне в Хьюстоне (1990), в Лондоне (1991) и в политической декларации в Мюнхене (1992), государства “большой семерки” по вопросу о Северных территориях в российско-японских отношениях стали не на сторону России, а на сторону Японии.
Кроме того, вопрос о Cеверных территориях в отношениях между Японией и Россией представляет собой “кость, застрявшую в горле”. Если эту “кость” не вытащить, то она, возможно, станет в будущем причиной, которая вызовет более серьезное заболевание, подобное раковой опухоли. Следовательно, ее удаление в кратчайшие сроки является неизбежной необходимостью. Несмотря на это, данное обстоятельство не приводит к выводу, что эту “кость” следует извлечь во что бы то ни стало, к каким бы грубым методам для этого не потребовалось прибегнуть.
При отсутствии результатов в двусторонних переговорах по данному вопросу Международный суд ООН не может вынести решение, приемлемое для обеих стран. Решения Международного суда не обладают достаточной принудительной силой, и поэтому они окажутся заведомо бессмысленными, если хоть одна сторона их не примет.
Исходя из подобной точки зрения, стороны и пытаются приложить прежде всего только такие усилия, какие в состоянии предпринять самостоятельно обе страны, являющиеся сторонами спора по вопросу о Cеверных территориях, представляющего собой проблему двусторонних отношений между Японией и Россией.
Однако в результате решения, принятого Международным судом ООН, будут и выигравшие, и проигравшие, и его решение оставит рану на будущее. Мы верим, что вместо этого, взаимно проявив мудрость, обе страны смогут, разрешив вопрос о Cеверных территориях, сделать еще один шаг вперед в улучшении соседских, дружественных отношений, который бы соответствовал взаимным интересам народов обеих стран – Японии и России.
Близким к варианту “совместного управления” представляется вариант отнесения северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп в “специальную административную зону”, которая не принадлежит ни одному государству мира. Северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп уже рассматриваются Японией как своего рода “специальная зона”: суверенитет России в отношении названной выше зоны Японией, не признается. Япония возражает против принадлежности России северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, считая, что для нее нет законного основания, требует вернуть эти острова Японии. Данное положение усиливается еще и тем, что правительство России признает посещение японцами северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без оформления российских виз и без предъявления японских паспортов и даже рассматривает предложение о ведении Японией и Россией совместной хозяйственной деятельностью на этих островах в форме, которая не наносит ущерба переговорам об их принадлежности Японии.
На фоне такой позиции правительства России существует понимание и мнение, что эти северные острова не “представляют собой на 100% территорию России и являются “специальной зоной””, в отношении которой ведется спор о суверенитете с Японией. Понимание Россией данного вопроса остановилось на этой позиции, и никаких подвижек вперед от этой позиции не наблюдается.
Итак, что же еще представляет собой мнение о том, что этот спорный район целесообразно превратить в “специальную административную зону”? Подобное предложение, возможно, разделяется третьими странами. Однако в таком случае, прежде всего, нельзя не задать вопрос, что представляет собой, вообще говоря, “специальная административная зона” по своему юридическому статусу. Если это означает, что данный район не принадлежит ни России, ни Японии, ни какой-либо другой стране, то предложение о такой зоне, вероятно, нельзя не оценить как легковесное и безответственное. Быть может, идея учреждения зоны, которая находилась бы под опекой Организации Объединенных Наций, представляет собой близкую к приведенной выше концепции “специальной административной зоны”. Формула системы опеки свидетельствует о наличии той формы, при которой по этой формуле управляющая власть осуществляет управление, как своей собственной территорией, районами, где проживают люди, пока еще не достигшие способности к самоуправлению. В случае если имеется в виду, что район передается под опеку ООН, то именно эта организация получает право на его управление.
На первый взгляд, это кажется допустимым, но в этом случае от управления устраняются Россия и Япония, имеющие здесь свои особые интересы. Такое решение представляло бы безответственный подход к проблеме. В случае с Северными территориями вызывает также глубокое сомнение, желает ли российское население, проживающее там в настоящее время, оказаться под такой опекой.
Обращаясь к истории, можно сказать, что все 11 районов, которые были включены в систему опеки после второй мировой войны, позднее получили независимость. Последними из них остались острова Тихого океана, расположенные к северу от экватора – Маршалловы острова, Микронезия и Палау. Это свидетельствует о том, что подопечные территории представляют собой районы со временным статусом. Меры, которые принимаются по отношению к ним, носят всего лишь временный, переходный характер, рассчитанный на период до того, как они в свое время либо достигнут независимости, либо войдут в состав какого-нибудь государства. Представить независимость северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп невозможно и абсурдно. Если спросить, какому государству после окончания опеки эти территории могли бы принадлежать, таким государством стало бы одно из двух государств – либо Россия, либо Япония.
Если Северные территории будут принадлежать России, то лучше им оставить тот статус, который у них имеется в настоящее время. На самом деле, замысел превратить северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп в “специальную административную зону” – это стремление принять необходимые промежуточные меры, которые, спасая престиж России и Японии, смягчили бы удар по России в результате передачи суверенитета над этими островами в руки Японии. Однако если этот замысел направлен на то, чтобы не допустить потерю лица со стороны России, то для этого, вероятно, существуют другие способы. Абсолютно понятно, что можно обойтись без учреждения “специальной административной зоны”, которая не принадлежала бы ни Японии, ни России. Больше всего такой их неопределенный личный статус и, как результат этого, обстановка на этих островах, вероятно, не удовлетворят российское население Северных территорий, настроенное на серьезный подход к решению проблемы.
На протяжении всего периода конфликта предлагались варианты промежуточного договора, который был бы направлен на то, чтобы продвинуться еще на один шаг вперед. Так, в январе 1978 года во время встречи между министром иностранных дел Японии С. Сонода, прибывшим с визитом в Советский Союз, и министром иностранных дел А.А. Громыко советская сторона предложила, продолжая переговоры о заключении мирного договора, в качестве промежуточного документа заключить договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Японией. Это предложение было продиктовано тем, что в тот период переговоры по территориальной проблеме совсем не получали динамичного развития. Хотя советская сторона и вручила министру иностранных дел Японии С. Сонода проект этого договора, который он не склонен был принять, японское правительство переданный ему проект договора игнорировало. Содержание проекта договора, состояло в следующем. В преамбуле проекта договора было сказано: “…Подтверждая намерение продолжать переговоры о заключении мирного договора, СССР и Япония преисполнены решимости создать прочную и долговременную основу для развития всестороннего сотрудничества между ними, прежде всего в политической области, а также в сфере экономики, науки, техники и культуры, договорились о нижеследующем…” Основной же текст этого договора гласил, что обе страны:
–воздерживаются от применения силы и от угрозы силы, разрешая только мирными средствами конфликты в отношениях между обеими странами,
не допускают использования своей территории для действий, которые наносят ущерб безопасности своего партнера,
–в случае возникновения ситуации, которая угрожает миру, обе стороны проводят консультации о мерах, которые можно немедленно предпринять для улучшения сложившейся ситуации,
–ставят своей целью принять меры, направленные на прекращение гонки ядерных и обычных вооружений, и установить международный контроль над полным и всесторонним сокращением ядерного и обычного оружия,
–стремятся, наряду с экономикой, развивать научно-техническое сотрудничество и обмен в области науки и культуры,
–не стремясь к господству ни в Азии, ни на Дальнем Востоке, не признавать претензий на господство над этими регионами со стороны любой державы.
Такие предложения, вероятно, были необходимы с точки зрения Советского Союза для укрепления отношений с Японией, которая в то время превратилась в экономическую державу, и были внесены, учитывая до известной степени намерения Японии, чтобы смягчить ситуацию с переговорами о заключении мирного договора.
Но в основном в этих действиях был скрыт замысел не допустить сближения в отношениях между Японией и Китаем. Статья о консультациях в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств и статья, направленная против гегемонии в проекте названного выше договора, ставят перед собой именно эту задачу, так как в тексте договора совершенно не затрагивался вопрос о Северных территориях. Кроме того, предложение о тесных консультациях между Советским Союзом и Японией в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств являлось совершенно неприемлемым для Японии, по японо-американскому договору безопасности находящейся в союзных отношениях с Соединенными Штатами.
Возможно, наиболее реалистичным является предложение российской стороны о заключении до 2000 года договора о мире, дружбе и сотрудничестве, в котором было бы записано обязательство разрешить проблему Северных территорий, и разрешить территориальный вопрос в отдельном договоре. Это российское предложение было продиктовано намерением действительно нормализовать отношения России и Японии на основе решения территориального вопроса. Вместе с тем, отложив решение, Россия сможет извлечь некоторую пользу из отношений сотрудничества.
Тот факт, что после окончания второй мировой войны прошло более полувека, и между двумя соседними государствами до настоящего времени еще не заключен мирный договор, вызывает сожаление. Мирный договор представляет собой договор, в котором два государства, в свое время находившиеся в состоянии войны или в состоянии, близком к состоянию войны, считают необходимым отчетливо поставить точку на таком состоянии и полностью нормализовать межгосударственные отношения. Если при этом не устанавливается государственная граница, то существует опасность, что это вновь приведет к конфликту между ними. В связи с этим демаркация государственной границы или делимитация этой границы представляет собой важное, необходимое условие выработки мирного договора между такими государствами.
Некоторые руководящие лица в России откладывают заключение мирного договора, ссылаясь на то, что определение государственной границы представляет собой существующую нерешенную проблему, и поэтому предлагают заключить по этому вопросу договор или соглашение, заменяющее мирный договор. В качестве примера таких договоров или соглашений, отличающихся от мирного договора, приводятся: договор о коллективной безопасности в Азии, меры по укреплению доверия, договор о неприменении ядерного оружия, договор о дружбе и сотрудничестве и т.п. Имеется информация о том, что договором, который со времени встречи “без галстуков” в апреле 1998 г. в Каване предлагает президент РФ Б.Н. Ельцин, является договор, который называется “Договор о мире, дружбе и сотрудничестве”.