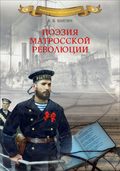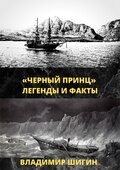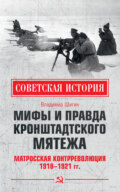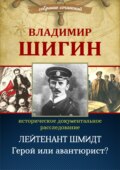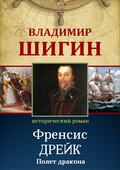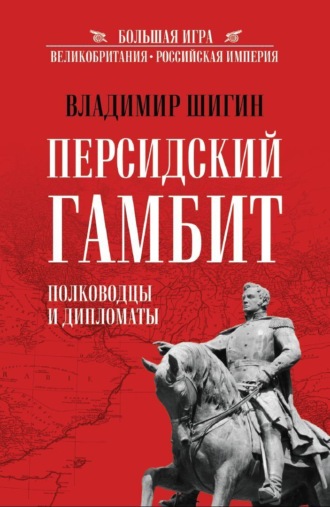
Владимир Шигин
Персидский гамбит. Полководцы и дипломаты
– Хош-келды! (милости просим!) – важно отвечал Аббас-Мирза.
Степанов поклонился.
– В добром ли вы здравии? – спросил наследник.
– Слава Богу.
– Здоров ли граф?
– Здоров.
– Имеете ли известия о здоровье императора Александра?
– При отъезде моем из Грузии слышал, что, к счастью нашему, государь император здоров.
– О! Ваш Искандер – великий император! – пробормотал Аббас-Мирза. – Лучше его во всем свете нет и не будет!
На этом аудиенция и закончилась.
– Когда же я смогу ехать в Тегеран? – спросил Степанов Безюрка, когда они покинули принца.
Тот с укором посмотрел на русского офицера:
– Главнейшею причиною вашей задержки в Тавризе является ожидание подарков как наследником, так и мной – его визирем. Подарки с вашей стороны просто необходимы!
– Так бы сразу и сказали! – в сердцах чуть не выругался Степанов.
В тот же день Аббас-Мирза получил от Гудовича соболиный мех на 800 рублей и дамские часы с бриллиантами, а Мирзе-Безюрку был вручен перстень с бриллиантами.
После этого Аббас-Мирза пригласил к себе Степанова еще раз, стремясь выведать, для чего именно тот едет к отцу в Тегеран. На это адъютант наместника ответил, что везет предложения о мире, но о нюансах ему говорить запрещено.
20 января 1807 года Степанов выехал из Тавриза в Тегеран, в сопровождении большого конвоя, данного ему Аббасом-Мирзою. А следом за ним уже скакал из Тифлиса поручик Меликов с предписанием внушить визирю Мирзе-Шефи, чтобы тот принял меры к скорейшему прекращению военных действий и к восстановлению дружественных отношений между нашими державами. Принес он и новость о том, что Бонапарт разбит нашей армией.
– Сам же лежит при смерти в прусском владении, может, уже и умер, а ежели и останется жив, то все равно пагуба его неизбежна и Россия сокрушит его гордость!
– А какие новости о турках?
– У турок наши уже взяли их все крепости по Дунай, а также завладели всей Молдавией и Валахией. Англичане пришли с большим военным флотом к самому Константинополю и будут стрелять по сералю. Наместник же тоже собирается в поход против турок выступить, только ждет весны.
Услышав это, шах горестно вознес к небу руки:
– На все воля Аллаха!
Однако персы все затягивали и затягивали подписание перемирия в надежде, что с началом нашей войны с турками для них все сразу же изменится в лучшую сторону.
* * *
Вскоре после объявления войны с турками в Персию поспешил находившийся в Константинополе французский эмиссар Жоберт. Известие об этой поездке вызвало беспокойство в здании Министерства иностранных дел на Мойке. Министр Будберг, искренне ненавидящий Наполеона и все, что с ним было связано, усмотрел в этой поездке начало многоходовой партии. Императору Александру он заявил прямо:
– Ваше величество! У меня нет никаких сомнений, что при посредстве Турции начинается сближение между Францией и Персией.
– А что это даст Персии? – поднял на него свой лорнет Александр.
– Франция употребит все усилия, чтобы склонить Тегеран отказаться от мира с нами.
– Что ж, придется, несмотря на перемирие, держать на границе с персами серьезный военный отряд! – только и вздохнул император.
В тот же день в Тифлис было отправлено соответствующее письмо.
В конце 1806 года, выполняя указания Петербурга, Гудович свел все войска Кавказской линии и в Закавказье в две дивизии: в 19‑ю на линии и в 20‑ю в Закавказье.
В состав последней вошли полки: Нарвский драгунский, Херсонский и Кавказский гренадерские, Кабардинский, Троицкий, Тифлисский и Саратовский мушкетерские, а также 9‑й, 15‑й и 17‑й егерские. Начальником дивизии он назначил своего бывшего сослуживца генерал-лейтенанта Ивана Розена. Фактически под начало Розена были собраны все имевшиеся на тот момент в Закавказье военные силы. На бумаге 20‑я дивизия выглядела грозно, как-никак 10 полков. На самом же деле, этого едва хватало, чтобы прикрыть внешние границы и обеспечить мир внутри огромного неспокойного края.
Еще большей проблемой было то, что в случае необходимости быстро усилить военные силы в Закавказье никакой возможности не было.
Черкесы на Кавказской линии внимательно следили за всеми перемещениями российских войск, и малейшее ослабление их присутствия немедленно использовали в свою пользу. А это значило, что сражаться с турками и сдерживать персов предстояло только 20‑й дивизии и местным милицейским формированиям, боевая ценность которых была весьма невысока.
Вечером во дворце наместника собрались трое: сам хозяин и его доверенные генералы – Булгаков с Розеном. Обсуждали положение на Кавказе, гадали о европейских делах, прикидывали, как сражаться сразу на три фронта: против персов (если те снова нападут), против турок и против мятежных горцев.
– Как вы знаете, господа, на своем долгом военном поприще я бывал во многих переделках, – говорил гостям Гудович, – но одной дивизией против двух царств еще никогда не воевал!
– На все воля Божья, – перекрестился Булгаков. – Сподобит Господь, и десять царств одолеем, а не сподобит…
– На Бога надейся, а сам не плошай! – хмыкнул доселе помалкивавший Розен. – Дело очевидное – будем крутиться на собственном пупе во все стороны!
– Ничего, как-нибудь сдюжим! – старик Булгаков снова осенил себя крестным знамением. – Не впервой!
– Дело не в том, сдюжим мы или нет, а в том, сколько солдатской крови прольем! – начал заводиться известный любовью к спорам Розен.
– Иван Карлович, Сергей Алексеевич, давайте лучше пить чай с медом! – вздохнул Гудович. – Мне намедни с Кубани прислали. Очень уж душистый.
Глава девятая
Турки начали боевые действия на Кавказе внезапно для нас. В ночь на 8 февраля 1807 года турки, пройдя семнадцать верст от Поти, где у них был сильный гарнизон, атаковали наше приморское укрепление в устье реки Хопи – Редут-Кале, предназначенное для защиты Мингрелии. Редут защищали три роты Белевского мушкетерского полка под начальством майора Лыкошина. Из-за тесноты редута большая часть гарнизона обычно размещалась в двух построенных вне укрепления казармах. Так было и в ту роковую ночь. Благодаря густым приморским лесам туркам удалось подойти к нашему редуту незамеченными. Уже на подходе они вырезали казачий пикет, после чего разделились. Одна часть неприятельского отряда атаковала сам редут, другие же бросились к казармам. Окружив их, турки открыли огонь через окна и двери. Несмотря на полную неразбериху первых минут, наши солдаты все же отбили нападение, а затем, покинув казармы, бросились на защиту атакованного редута.
Комендант редута Лыкошин уже в начале дела был ранен в голову двумя сабельными ударами. После этого оборону возглавил капитан Денисьев. О том, до какой степени доходило ожесточение сражавшихся, можно судить по тому, что три турецких знамени несколько раз переходили из рук в руки, пока окончательно не были отбиты нашими солдатами. Одно из этих знамен захватил штабс-капитан Трофимов, а два других – фельдфебели Мирный и Ивановский, причем все трое при этом были ранены.
К семи часам утра неприятель был всюду опрокинут и, преследуемый нашими солдатами, кинулся вон из укрепления. Впрочем, укрывшись в лесу, турки быстро пришли в себя и еще дважды в течение дня бросались на редут, пока наконец, будучи окончательно разбиты, начали отступление к Поти. Тогда уже и ободрившийся гарнизон Редут-Кале перешел в наступление и преследовал бегущих, пока наши офицеры не увидели подходившие из Поти свежие силы. Только после этого русские мушкетеры остановились. Победа осталась за нами. Но потери были большими. Кроме майора Лыкошина еще два офицера был ранены и один убит. Общие же потери составили более полутора сотен человек. Помимо этого, турки успели сжечь цейхгауз и казармы. Но самое главное, они безжалостно вырезали всех больных в лазарете, а единственного доктора увели с собой.
* * *
При первом же известии о нападении на Редут-Кале граф Гудович немедленно отправил в помощь оборонявшему Мингрелию и Абхазию генерал-майору Рыкгофу батальон егерей. Это все, что он мог дать… Все его попытки привлечь местных ханов к участию в войне с турками заканчивались ничем. Даже дотоле казавшийся лояльным России абхазский властитель Келеш-бек уклонился от участия в войне, сославшись на… изменническую суть своих подданных.
– Обходись тем, что есть, больше ничем помочь не смогу! – честно сказал Рыкгофу наместник. – Но Абхазию в узде удержи!
А время не ждало. Надо было действовать быстро и безошибочно, так как любая ошибка в дебюте предстоявшей шахматной партии могла стоить очень дорого. Впрочем, Гудович был слишком опытен, чтобы допустить какую-то глупую ошибку. Расстановкой сил он занимался лично, вникая во все детали. На левом фланге, для защиты Карабаха, Ширвани, Шеки и Елизаветполя от возможного нападения персов, Гудович сформирован отряд, под начальством генерал-майора Небольсина, из 12 пехотных рот, казачьего полка, при шести пушках. Сам отряд расположился в Карабахе на речке Тертере. Помимо этого, еще несколько рот было размещено в Шуше и Елизаветполе. Там же находился и резерв отряда – Тифлисский мушкетерский полк, готовый в любую минуту двинуться туда, где будет труднее всего. При приближении к Араксу персидской армии Небольсину велено было немедленно же идти им навстречу, чтобы не допустить переправы на нашу сторону. Ханам Карабахскому, Ширванскому и Шекинскому Гудович разослал письма с требованием предоставить Небольсину их конницу. Но на то, что ханы сей приказ исполнят, надежды было мало.
Для действия против турок в Карском пашалыке Гудович создал отряд, расположенный в Памбакской и Шурагельской провинциях, под начальством генерал-майора Несветаева. В отряд вошли: Саратовский мушкетерский полк, батальоны Кавказского гренадерского, Троицкого мушкетерского и егерского полков, а также два полка казаков.
На правом фланге, в Имеретии и Мингрелии, находился третий отряд – генерал-майор Рыкгоф со своим Белевским мушкетерским полком и батальоном егерей.
Резервом для всех трех отрядов служили собранные под личным начальством Гудовича в окрестностях Тифлиса неполные Херсонский гренадерский и Кавказский гренадерский полки, а также четыре егерских батальона, дивизион нарвских драгун, два казачьих полка и конвой Главной квартиры.
– Против персов, ежели дерзнут нарушить перемирие, будем действовать оборонительно, а против турок – наступательно! – лаконично объявил Гудович свою стратагему. – Ежели что, двинемся вперед одновременно во всех трех пунктах. Правым флангом – на Поти, центром – на Ахалцих, а левым флангом – на Карс, где скорее всего я и надеюсь иметь успех в своих действиях.
Дело в том, что карский властитель Мамед-паши, совсем недавно искавший покровительства России, казался Гудовичу самым надежным из закавказских ханов. Он даже прислал своего сына в аманаты.
– Сейчас зима, а потому дороги на Ахалцих из-за снега в горах нет, поэтому, может, стоит попробовать прежде всего занять Карс, тем более что Мамед-паша, по вашим словам, нам предан, – советовал наместнику старик Булгаков.
Гудович чесал свою лысую голову:
– Петербург требует от меня наступательных действий, посему движение на Карс действительно будет лучшим исполнением его желаний!
* * *
Вскоре находившийся в Памбаках генерал-майор Несветаев получил приказание помочь карскому паше в его действиях против сераскира и, если представится возможность, занять Карский пашалык. Подготовку же экспедиции на Карс производить тайно, чтобы не насторожить турок. Так как силы отряда Несветаева были незначительны, весь план строился на верности нам Мамед-паши и стремительности движения войск.
Но не все обстояло так просто. Дело в том, что назначенный командующим турецкими войсками на Кавказе сераскир Юсуф-паша уже имел донос о ненадежности Мамеда-паши.
Посланный им в Карс личный палач доходчиво объяснил хозяину Карса, что его ждет в случае измены. Для пущей убедительности палач оставил на память паше черный шнурок, которым, по старой турецкой традиции, султаны исстари душили провинившихся вельмож. В свою очередь, чтобы подкрепить верность владетеля Карса, Гудович переслал ему роскошный бриллиантовый челенг и письмо, в котором обещал, что в случае преданности Мамеда России тот будет властителем независимого от Турции Карского пашалыка.
Положив перед собой шнурок и челенг, Мамед-паша призадумался – кому служить? Бриллиантовое перо, спору нет, выглядело заманчиво, но черный шнурок вызывал совсем иные мысли. В конце концов, властитель Карса решил, что жизнь без челенга все же лучше, чем труп с челенгом, и решил остаться верным султану.
В своем последнем письме Гудовичу Мамед сообщил, что война уже объявлена и Юсуф-паша приказал ему поступать с русскими как с врагами, что Карс укрепляется и в окрестностях вскоре будет расположено большое войско. В конце письма паша снова писал при этом, что остается в прежнем желании быть под Россией, но обстоятельства сложились не так, как ему хотелось…
– Ну, что поделать с этими канальями! – выругался Гудович, с письмом ознакомившись. – Этот Мамед клянется в любви, в то же время предупреждая, что резать нас будет без всяких сантиментов! О, этот неподражаемый Кавказ!
Посовещавшись с Булгаковым и Розеном, Гудович все же решил идти на Карс.
В половине февраля Несветаев доложил, что готов к выступлению. Для преодоления снежных заносов он заготовил легкие дровни для перевозки артиллерии и патронных ящиков, а чтобы не изнурять людей, предполагал оставить на месте все тяжести, так как до границ Турции будет двигаться через места населенные, а с приходом к Карсу всем обеспечит Мамед-паша.
Несветаев некоторое время ожидал уведомления Мамеда о русской помощи и готовности обеспечить наши войска всем необходимым. Но Мамед-паша уже полностью переметнулся на сторону султана.
Отправив на усиление Несветаева батальон 15‑го егерского полка, Гудович поручил, по приходе в Карский пашалык, все же попытаться переманить Мамед-пашу на нашу сторону.
16 марта отряд Несветаева перешел границу Восточной Анатолии, имея две с половиной тысячи человек и десять пушек. Было холодно, ветрено и скользко. Весна в здешних местах всегда поздняя. Заморозки сохраняются вплоть до конца мая.
Подойдя к селению Баш-Шурагель, где находился младший брат Мамеда-паши Кара-бек с тысячью воинов, не желая проливать кровь, Несветаев предложил ему покориться. Посланный им парламентер объявил:
– Русские пришли для защиты карского владения, а не для разорения его.
Однако Кара-бек ответил выстрелами, и тогда Несветаев в течение какого-то получаса взял селение штурмом, перебив три сотни неприятельских воинов, а еще четыре сотни взяв в плен. Бросив все свои знамена, Кара-бек бежал. Немедленно к Несветаеву явились старшины окрестных селений с просьбою «принять их под покровительство России и избавить от варвара Кара-бека».
А затем пришло и письмо от вероломного Мамеда-паши. Он писал:
«Извещаю ваше превосходительство, что приязненное письмо ваше, изъявляющее печаль, я получил, и все прописанное уразумел и за благой совет благодарю, но я состоял в говоренном мною в точности. Слава Богу, что сперва вы стреляли по мне – я уже не под виною; вижу вас ныне двуязычным: с одной стороны, доброжелательство, а с другой – неприятельство. Я к вам присылал священника и монаха просить вас, чтобы, по приязни и доброжелательству ко мне, сперва пошли на Ахалцих, но вы отвергли мою просьбу, такова ваша дружба. Вы говорили, что вы лжи не произнесете, а я отнюдь правды не видел Бог милостив, неужто вы стращаете меня как ребенка или мальчика? Будьте готовы, я уже иду с вами сражаться если Бог даст благой успех, то я знаю, что сей поступок ваш отнюдь неизвестен всемилостивейшему Государю. Бог милостив, такова ваша дружба, я владение свое оставил с голоду, вам сделал добро, но на место добра злом отвечали. Я же поспешаю идти, уповая на Бога, увидимся друг с другом. Впрочем, остаюсь готовый к войне с вами».
– Ну, не скотина ли? – только и произнес Несветаев, прочитав письмо недавнего союзника.
Намереваясь двинуться прямо к Карсу, Несветаев просил Гудовича подкрепить его еще хотя бы одним батальоном пехоты и казаками.
Дело в том, что несколько рот ему надо было обязательно оставить у селения Кизыл-Чахчах, где сходились дороги из Карса и со стороны Эривани. Это селение Несветаев намеревался сделать тыловой базой. На подходе к Карсу выделялась красотой мечеть Кюмбет-Джами, бывшая в прошлые века православным храмом.
Между тем Мамед-паша продолжал хитрить. Так, навстречу Несветаеву он выслал армянского священника, который от имени Мамеда-паши сообщил, что с приближением русских гарнизон Карса будет стрелять только холостыми и что паша с легкостью сдаст крепость русским. Разумеется, верить таким обещаниям было нельзя. Подойдя к окрестностям города, Несветаев заметил турок, укрепившихся на высокой горе.
Генерал-майор вызвал к себе подполковника Печерского:
– Возьми два батальона егерей, гренадеров и три пушки, да выбей побыстрей мне турок с горы!
Однако быстро выбить турок не получилось. Поддерживаемые огнем из крепости (отнюдь не холостым!), турки оказали сильное сопротивление. Пришлось Несветаеву в подкрепление Печерскому отправить три роты Саратовского полка. Только после этого турки бежали в крепость.
Проведенная рекогносцировка оптимизма у Несветаева не вызвала. Карс был обнесен двойной стеною и защищен батареями, обстреливавшими весь форштадт. Базальтовый мост, служивший переправой через реку Карс и связывавший предместье с крепостью, был разрушен. В самой крепости имелась цитадель с двойною стеной, господствующая над всеми окрестностями и вооруженная лучшими орудиями. Всего же на стенах Карса находилось до 60 орудий, а гарнизон насчитывал до 20 тысяч.
А на следующий день генерал-майор получил письмо Гудовича, в котором тот просил не предпринимать штурма, если Несветаев не уверен в сдаче крепости, а стараться завладеть самим Карским пашалыком.
У Несветаева как камень с души упал. Штурм хорошо укрепленного Карса стоил бы больших потерь, что для и так немногочисленных наших войск имело бы самые негативные последствия.
Отступив в селение Кизыл-Чахчах, Несветаев занялся сбором провианта.
Тем временем в Карс прибыл турецкий отряд Али-паши с двумя тысячами пехоты и тысячей кавалерии и приказанием атаковать русских при содействии гарнизона. Но Али-паша, не решаясь атаковать Несветаева, встал в бездействии близ Карса. Войска его не имели еды, поэтому отбирали ее у местных жителей. Чтобы хоть как-то оправдаться перед сераскиром за бездействие, Али-паша объявил, что будет платить по двести турушей всякому, кто принесет ему голову русского солдата. И что же, вскоре перед его шатром уже лежало около сотни голов? Осмотрев их, Али-паша остался недоволен, уж больно все смахивали на местных бродяг. Но делать нечего, выплатив всем по половине обещанной суммы, он велел набить головы соломой, после чего отправил в подарок Юсуфу-паше, как свидетельство своих побед над русскими.
Но сераскира было не так-то просто обмануть. Осмотрев смердящие дары Али-паши, он лишь недобро усмехнулся:
– Если это русские солдаты, то я правитель Индии и Китая! Наверное, в следующий раз в качестве доказательств доблести лучше сразу приказать привезти голову самого Али-паши!
* * *
Находясь в Тифлисе, Гудович прикидывал, какой его ответный ход будет более правильным. Просидев не один вечер над картой, он пришел к выводу, что Мамед-паша мог получить подкрепление только из Ахалциха, где находились турецкие войска, возвратившиеся после неудачного нападения на Редут-Кале. Поэтому, чтобы лишить Карс этой помощи, Гудович решил с резервными войсками двинуться прямо на Ахалцих, а захватив его, повернуть на Карс и штурмовать его, уже соединившись с Несветаевым.
– Вступив в Ахалцихский пашалык, мы заставим Юсуфа-пашу раздробить свои силы, приготовленные для помощи Карсу, предупредим возможное повторное нападение на Редут-Кале, а также прикроем Мингрелию и Имеретию, – объявил он своим помощникам Булгакову с Розеном.
Те были с наместником согласны. Что и говорить, план был хорош, осталось лишь его выполнить.
Вскоре войска были уже готовы к походу. Выступление задерживало лишь формирование подвижного магазина, для которого нельзя было отыскать достаточного числа арб и быков.
Турецкие агенты пустили слух, что русские заберут арбы навсегда, а погонщиков забреют в солдаты. Поэтому быков прятали, а погонщики разбегались. Но все же понемногу обоз собирался.
Тем временем пришло известие, что сераскир Юсуф-паша с главными силами двинулся к Карсу. Кроме этого, лазутчики донесли, что в помощь сераскиру готовятся выступить и собранные в Эривани персидские войска.
– Ну, что ж, движением своим в середину соседних нам турецких владений мы расстроим все замыслы наших врагов! – не расстроился наместник.
17 апреля граф Гудович оставил Тифлис и с отрядом в четыре с лишним тысячи человек двинулся к ахалцихским границам по единственной горной дороге, где мог пройти обоз. Если в день выступления в Тифлисе была нестерпимая жара, то в горах войска встретили мороз и снежные бури. Путь через горы был трудный; люди и лошади вскоре выбились из сил до такой степени, что Гудович был вынужден остановиться за полтора десятка верст от границ Ахалцихского пашалыка и простоять на месте пять дней, дав людям и лошадям возможность прийти в себя.
Перед тем как вступить в турецкие пределы, наместник отправил прокламацию местным жителям, в которой призывал их оставаться спокойными и покориться российскому императору.
С переходом турецкой границы стали попадаться небольшие партии турок, которые, впрочем, сразу скрывались в горах. Впереди была серьезная крепость Ахалкалаки, расположенная на берегу бурной Куры. Обойти Ахалкалаки нельзя, она – ключ к Ахалцихскому пашалыку.
– Что ж, – решил Гудович. – С Ахалкалаки и начнем!
– Местная легенда гласит, что у одного из правнуков Ноя, прародителя грузин Картлоса, был сын Джавахос, которому в наследство и были отданы эти земли, названные в его честь Джавахети, – рассказывал наместнику проводник-грузин.
– Не самая лучшая земля этому бедняге Картлосу досталась! – покачал головой Гудович, рассматривая окружающие дорогу горы.
Наконец, вдалеке показались стены Ахалкалаки. С небольшим конвоем Гудович отправился на рекогносцировку. Построенная сотни лет назад крепость сооружена была очень добротно. Пробить ядрами огромные валуны, из которых были сооружены стены, было почти невозможно. По углам стен возвышались мощные башни. Входные ворота в крепость были заложены диким камнем. Внутри находилась цитадель с четырьмя башнями и высокой стеною. В глубине крепости угадывался купол мечети и крыша караван-сарая. Защищал крепость полуторатысячный гарнизон.
Полностью окружить Ахалкалаки из-за реки было тоже невозможно. К тому же, по донесению лазутчиков, в десятке верст в горах уже расположилась многотысячная турецкая конница, ожидая удобного случая, чтобы ударить в спину.
Чтобы держать под присмотром и крепость, и конницу, Гудович расположился лагерем в пустой деревне в двух верстах от Ахалкалаки. В первый же день турки пытались сделать пробную вылазку, но были отброшены с большим уроном.
После этого Гудович отправил письмо коменданту, в котором уговаривал его сдать крепость, обещая награды и милости как ему, так и его дяде – ахалцихскому паше. Не получив ответа, наместник приказал строить батарею на шесть орудий и бомбардировать крепость. К сожалению, огонь орудий не мог нанести большого вреда и даже вызвать пожара в городе, так как все сакли были также сложены из горных валунов и гореть в городе было просто нечему.
После бомбардировки последовало повторное предложение о сдаче. Вместо ответа турки открыли ответный огонь.
На военном совете все генералы и офицеры единодушно высказались за штурм. Там же был разработан и план штурма. Вся пехота делилась на пять частей: три ударные колонны, одна колонна для фальшивой атаки и резерв командующего. Первую колонну в три с лишним сотни штыков возглавил полковник Штауде. В резерв ее с несколькими ротами был определен генерал-майор Титов. Вторая колонна из 400 егерей была поручена полковнику Головачеву. За ним в резерве с ротой гренадеров генерал-майор Портнягин. Третья колонна в пятьсот гренадеров и егерей – под командой полковника Симоновича. В резерве – генерал-майор граф Гудович-младший с гренадерской ротой. Главный резерв в тысячу гренадеров, егерей и драгун Гудович поручил под команду многоопытному генерал-лейтенанту Розену. Первая из колонн должна была штурмовать цитадель, тогда как две другие атаковать с обратной стороны крепости, где турки могли менее всего ожидать нападения. Эти колонны находились под начальством самого Гудовича. В каждую колонну было роздано по четыре лестницы с крючьями «для способнейшего подъему их на стены».
Ближе к вечеру, объезжая войска, командующий наставлял солдат:
– Идти как можно поспешнее и не стрелять, пока не влезете на стену. Заняв же город, истреблять врага на улицах, но в сакли не входить.
«Сигнал к атаке, – сказано в диспозиции к штурму, – будет дан стрелянием бомбами из батареи, по которому первая и третья колонны должны тотчас выступить, а вторая и фальшивая – по окончании стрельбы».
После того как в лагере пробили вечернюю зорю, солдаты тихо сняли палатки, запрягли повозки и отправили их в вагенбург, устроенный на левом фланге лагеря.
Так как ночь было очень светлая и блеск штыков мог выдать передвижение солдат, Гудович приказал снять штыки.
В ночь с 8 на 9 мая колонны заняли назначенные им места. А едва из-за гор показался первый луч солнца, осадная батарея открыла огонь и начался штурм. Первая и третья колонны двинулись на приступ одновременно. Несмотря на приказ не стрелять, солдаты, разумеется, сразу же открыли огонь. Турки отвечали тем же. Начали ставить лестницы, но они оказались столь короткими, что солдаты не могли достать руками за верхнюю часть стен. При этом турки беспрестанно бросали вниз камни, стреляли из ружей и отталкивали от стен лестницы вместе с лезшими по ним солдатами. Начали лихорадочно искать место, где высота стен была бы меньшей, но найти такое место все не получалось. Из-за этого внизу возникла неразбериха. Несмотря на это, колонна генерал-майора Портнягина заняла предместье. Наконец, в одном месте его солдаты все же влезли на стену, завладели одной из башен, захватили пушку и знамя, но их никто не поддержал. А спустя четверть часа турки взорвали захваченную нами башню, которая погребла под собой всех, кто смог взобраться на стену. Тогда Гудович велел подтащить к воротам шестифунтовую пушку. Вскоре ядрами ворота были почти разбиты, но турки с другой стороны неожиданно выкатили две пушки и открыли огонь в упор. Не ожидавшие этого, наши артиллеристы были перебиты, а пушка захвачена противником.
Отчаянный штурм продолжался без малого пять часов, при этом турки защищались отчаянно. Чтобы переломить ход сражения, Гудович принужден был ввести в дело весь резерв. При нем осталось только три неполных эскадрона драгунов и полк казаков на случай отражения турецкой конницы. А донесения о потерях становились все тревожнее. Наконец, видя, что штурм захлебнулся, а из строя выбита уже треть офицеров и солдат, Гудович приказал бить отбой.
Турки отходящих не преследовали, так как и у них потери были серьезными. В частности, в одной из схваток был убит и сам комендант крепости. Когда наши уже удалились от крепостных стен, из-за гор их атаковала дотоле чего-то выжидавшая турецкая конница. Однако едва против нее устремились в контратаку нарвские драгуны и казаки, турки развернули коней и снова скрылись за горами.
Следующая ночь в лагере была печальной. Там и здесь отпевали и хоронили погибших, из лазаретных палаток слышались крики раненых, которых доктора кромсали своими страшными пилами.
– О втором штурме и думать нечего! – констатировал Гудовичу барон Розен. – Надо честно признать, что сия кампания сложилась не в нашу пользу, а потому пора поворачивать оглобли домой!
В ответ Гудович лишь смерил собеседника надменным взглядом. Своих ошибок наместник признавать не любил.
Но гонор гонором, а ситуация подсказывала только такой выход. Поэтому на следующий день после штурма больные, раненые и обоз были отправлены в пределы Грузии, а остальной отряд отошел на границу с Ахалцихским пашалыком. Отсюда Гудович отправил приказание генералу Несветаеву также оставить Карский пашалык и заняться прикрытием собственных границ, а генералу Рыкгофу снять осаду Поти и отходить в Имеретию.
Впоследствии Гудович будет оправдывать неудачу штурма плохой погодой и болезнями, трудностями движения по горным дорогам с тяжелым обозом, а главное, что половину отряда составляли никогда не бывшие в делах гарнизонные солдаты да рекруты прошлогоднего пополнения.
* * *
В это время на крайнем западном фланге нашей обороны генерал-майор Ион Ионыч Рыкгоф решал не менее значимые задачи. Дело в том, что для облегчения действий Гудовича в Ахалцихском пашалыке ему надо было занять Поти, так как это защищало Имеретию и Мингрелию от вторжений турок. Помимо этого, приморский Поти исстари являлся притоном всех бездомных бродяг и абреков, живших грабежом и разбоем.
Поэтому граф Гудович, полагаясь на искреннее расположение абхазского паши Келеш-бека, поручил генерал-майору Рыкгофу захватить Поти в свои руки, «хотя бы то было и изменою», обещая потийскому аге Кучук-бею денежную награду, покровительство России и пожизненное оставление в должности. Но абхазский паша и Кучук-бей от предложений Гудовича отказались, поэтому генералу Рыкгофу предстояло наказать несостоявшихся союзников.
27 апреля Рыкгоф выступил в поход с отрядом в тысячу триста человек при четырех пушках.
Как известно, где тонко, там и рвется. Старая истина оказалась верной и в тот раз. Едва наши войска оставили Имеретию, как мятежный царь Соломон, прискакав тотчас в опустевший Кутаис, приказал разломать военные казармы и попытался изгнать единственную оставшуюся в городе гренадерскую роту. Однако гренадеры забаррикадировались в своей казарме, а штурмовать их у грузин желания не было. Окончательно обнаглев, Соломон начал принимать посланцев из Персии от мятежного царевича Александра, вел разговоры о возможной дружбе с Константинополем, Францией и Англией. Дальше – больше. Окончательно встав на путь измены, Соломон поспешил на границу Имеретии, намереваясь собрать там войска для помощи туркам.
Но хлеб иуды всегда горек. Соломон уже мечтал о полной независимости и изгнании русских, как к нему прибыл посланец от сераскира Юсуфа-паши.