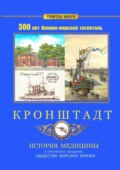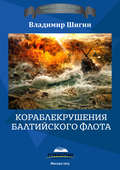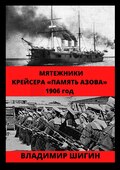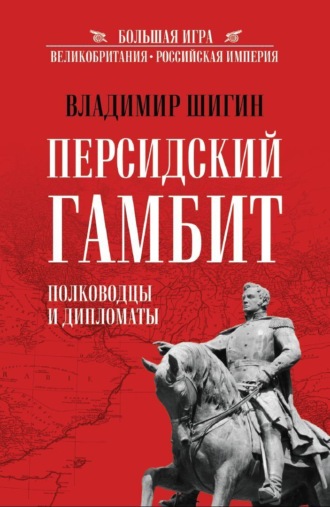
Владимир Шигин
Персидский гамбит. Полководцы и дипломаты
Карягин со своими гренадерами уже взял половину крепостного вала и три башни, когда наконец-то с третьей атаки взошла на стены и колонна Портнягина и овладела последними тремя остававшимися в руках защитников башнями. В авангарде уверенно работала штыками команда егерей 17‑го егерского полка поручика Лисенко, отбивая все попытки контратак.
После взятия всех шести башен атакующим предстояло спускаться в город по высокой каменной стене, так как защитники растащили деревянные ступени. Пришлось перетаскивать с наружной стороны стены громоздкие 10‑метровые лестницы и уже по ним спускаться внутрь Гянджи.
Вскоре рукопашный бой переместился внутрь крепости. К этому времени в городе царила паника. По восточному обычаю, всюду истошно вопили женщины, рвя на себе волосы и проклиная все на свете. Толпы пеших и конных воинов лихорадочно искали ханский бунчук, под которым они могли бы сплотиться воедино. Но бунчука нигде не было, как не было и того, кто мог бы своим авторитетом и силой воли сплотить оставшихся защитников для отпора неприятелю. А солдаты и офицеры русской армии, работая штыками, уже очищали узкие и кривые улицы Гянджи от противника. А затем началась массовая сдача в плен.
Теперь в руках Джавад-хана оставалась только цитадель. К счастью для нас, убегающие ханские воины не дали возможности вовремя закрыть ворота цитадели и разгоряченные егеря ворвались туда прямо на плечах убегающего противника. Там их уже ждал сам Джавад-хан, окруженный телохранителями. Оседлав свою самую большую пушку, он отбивался саблей, пока не был поднят на штыки.
В своем донесении Цицианов писал: «Итак, одно, так сказать, мгновение доставило неслыханной храбрости войск Вашего Императорского Величества овладение тремя башнями, где на одной из оных Джавад-хан принял достойную месть за пожертвование таким числом людей своей гордости».
* * *
К полудню в городе все стихло. Откричались женщины, отмучились и полегли на землю защитники. Вся Гянджа была покрыта их телами. Как и было обещано, солдатам было разрешено обыскивать убитых.
Участвовавший в походе грузинский царевич Давид впоследствии признавался, что по части грабежа Гянджи более всего отличились грузинские милиционеры. Не участвовавшие в штурме, они, едва смолкли выстрелы, самовольно бросили свои посты и устремились за добычей в поверженный город. При этом если солдаты ограничились лишь изъятием ценностей у убитых, то грузины врывались в дома и выгребали оттуда все подчистую.
Удивительно, что неприступную крепость удалось взять всего за два часа генерального штурма. Еще более удивительно, что благодаря строгости Цицианова ни одна из девяти тысяч бывших в городе женщин не была подвергнута насилию, не погиб ни один ребенок. Сам Цицианов в своих рапортах не без гордости писал по этому поводу: «Человеколюбие и повиновение моему приказанию, доселе при штурмах неслыханное».
Впрочем, один серьезный инцидент все же был. Дело в том, что во время штурма до пятисот жителей укрылись в самой большой мечете города – Джума-мечети (мечети шаха Аббаса). Но какой-то неизвестный армянин известил наших солдат, что в мечете много дагестанских лезгин. Это упоминание о лезгинах явилось сигналом к истреблению всех бывших в Джума-мечете. Дело в том, что солдаты считали лезгин, часто совершавших набеги и убивавших исподтишка, своими кровными врагами. Кто именно спровоцировал солдат на расправу с мнимыми лезгинами, так и осталось тайной.
* * *
Общие потери ханского воинства простирались за полторы тысячи убитых, пленено было более 17 тысяч. Наши потери составили убитыми три офицера и 35 солдат, а ранеными 12 офицеров и две сотни солдат. В качестве трофеев победителям достались 18 орудий и фальконетов, 8 знамен, 55 пудов пороха и большие запасы хлеба. К удивлению наших офицеров, среди трофеев оказалось много совершенно новых английских ружей. И это притом что англичане считались тогда нашими ближайшими союзниками по антинаполеоновской коалиции. Но то в Европе, здесь же, на пороге Индии, Лондон играл совсем по другим правилам…
Убитого Джавад-хана с трудом разыскали под грудой мертвых тел во дворе крепостной цитадели. Храбрый хан дрался до конца, поэтому тело его было исколото штыками и исполосовано саблями. Рядом нашли и его среднего сына – Хусейн-Кули-хана. Джавад-хана по распоряжению Цицианова с почетом похоронили во дворе Джума-мечети. А вот старшему сыну Угурлу-хану и младшему Али-Кули-хану удалось бежать из крепости и найти убежище у Ибрагим-хана Карабахского.
В числе пленных, взятых при штурме Гянджи, к Цицианову были приведены остальные члены семьи гянджинского хана, который в память о храбрости их кормильца выдал бедолагам 900 рублей. Старшая жена Мелкэ-Ниса-бегюмы (родная сестра шекинского владетеля Мамед-хана) попросила Цицианова, чтобы ее с дочерью отпустили к брату. Цицианов разрешил. Одновременно главнокомандующий сделал запрос в Петербург о назначении достойной пенсии всем остальным членам семьи погибшего хана.
4 января в главной мечети города, которая была наскоро переоборудована в христианский храм, прошел молебен в честь дарования российскому воинству новой победы.
Если в первые дни после взятия города жители Гянджи надеялись, что все для них закончится, как и раньше в подобных случаях, – победители назначат нового хана, после чего уберутся восвояси, а жизнь в ханстве пойдет своим чередом, то вскоре им пришлось в этом разочароваться. Цицианов был настроен твердо – отныне Гянджа и все принадлежавшие ханству земли становились частью России. А чтобы ни у кого не было никаких сомнений на сей счет, приказал переименовать Гянджу в Елизаветполь в честь супруги императора Александра Елизаветы Алексеевны. Само же ханство было ликвидировано, а вместо него учреждался Елизаветпольский округ.
Надо отметить, что все участники штурма Гянджи были щедро награждены. По повелению императора Александра I для участников штурма была учреждена особая серебряная медаль. Практически все офицеры получили ордена Святой Анны 3‑го класса. Среди них состоявший во время штурма при Цицианове в качестве адъютанта будущий фельдмаршал Михаил Воронцов, будущие генералы Петр Котляревский и Александр Бенкендорф. Полковник Карягин и майор Лисаневич были награждены орденами Георгия 4‑го класса. Кроме того, князь Цицианов пожелал отличить Карягина, которого считал главным «виновником блистательного штурма», ходатайством о высочайшем пожаловании ему «во мзду его рвения и усердия» алмазных украшений на бывший у него орден Святой Анны. Помимо алмазов Карягину была пожалована и золотая сабля с надписью: «За храбрость». Еще вчера никому не известный полковник в один день стал национальным героем.
Генерал-майор Портнягин был награжден Георгиевским крестом 3‑го класса. В императорском рескрипте о его подвиге было сказано: «За оказанную отличную храбрость при взятии штурмом крепости Гянджи, где, командуя колонною, примером храбрости поощрял к неустрашимости подчиненных, а равно и во все время обложения упомянутой крепости с неутомимою деятельностью соблюдал надлежащее устройство в войске». Что касается самого Цицианова, то по получении донесения о взятии Гянджи Александр I произвел его в генералы от инфантерии. Этой наградой наместник остался весьма недоволен. Он рассчитывал на Георгия 2‑го класса, а чин полного генерала получил бы рано или поздно и так…
Без награды за Гянджу остался лишь генерал-майор Тучков. Вне всяких сомнений, что к этому приложил свою руку не переносивший Тучкова Цицианов. Оскорбленный этим, Тучков немедленно подал в отставку. Но Цицианов ввиду предвоенного времени ее не принял.
Нижним чинам за взятие Гянджи император Александр пожаловал по рублю серебром. Это обидело Цицианова.
– Что-то дешево государь кровь солдатскую оценил! – раздраженно высказался он.
Царапая бумагу пером, главнокомандующий написал в Военную коллегию: «Если Его Величество жалует солдатам по рублю за хороший развод, то за взятие города штурмом, вероятно, хотел дать медали, а потому и приказал к серебряным рублям приделать ушки и носить их в петлице, только всеподданнейше испрашиваю, на каких Государь прикажет лентах…»
Письмо вышло предерзким. В другой раз за такое могли и в отставку спровадить, но Александр решил иначе:
– Рубли оставить солдатам, а за взятие Гянджи учредить особую медаль, чтобы целковые не портили!
…Когда войска двинулись в обратный путь из Гянджи, Цицианов оставил охранять город с его округом полковника Карягина с вверенным ему 17‑м егерским полком и сотней казаков.
– Запомните, Павел Михайлович, что отныне вы – щит Грузии со стороны Персии, – обнял он на прощание Карягина. – Надеюсь, что в случае необходимости вы умножите летописи нашей военной истории новыми подвигами, которые изумят современников и будут поучительными для потомков.
– Скажу одно, егеря 17‑го полка исполнят свой долг до конца! – ответил ему Карягин.
Больше генерал Цицианов и полковник Карягин уже никогда не увидятся…
* * *
Взятие Гянджи, безусловно, явилось большим успехом России, так как это обеспечило безопасность восточных границ Грузии, подвергавшихся ранее неоднократным нападениям со стороны Гянджинского ханства.
Но и это далеко не все! Сокрушительное падение одного из самых могучих ханств потрясло весь Кавказ. Узнав, что сыновья Джавад-хана бежали к правителю Самухе Шерим-беку, Цицианов отправил ему письмо, в котором приказывал покориться: «Сказал, что Гянджу возьму, – и взял». Намек был более чем прозрачным. Поэтому Самуха Шерим-бек из кавказских правителей первым поспешил к Цицианову с просьбой принять его в русское подданство. Приведя Самуху Шерим-бека к присяге, Цицианов немедленно обложил его податью в тысячу червонных в год.
Вслед за Самухой большая часть ханов также отправила своих послов к наместнику с выражением кротости и смирения. Карабахский и шекинский ханы изъявили при этом немедленную готовность вступить в русское подданство. Царь Имеретии Соломон, дотоле настаивавший на независимости, немедленно послал Цицианову поздравление с победой и также заявил о готовности подчиниться всем требованиям князя. Уже в июне 1804 года Имеретия приняла подданство России. Вслед за ней о том же заявила и Гурия. Безропотно склонил голову перед Россией и униженно искал ее покровительства даже гордый и независимый владетель Абхазии Келиш-бек.
Видя, какое ошеломляющее впечатление на Закавказье произвело покорение Гянджи, Цицианов решил «ковать железо, пока оно горячо» и попытался присоединить заодно и Нахичеванское ханство. Владетелю Нахичеваня Келб-Али-хану он предложил немедленно выслать скрывавшегося в ханстве армянского «лжепатриарха» Давида и провозгласить патриархом пророссийского архиерея Даниила, разместить в Нахичевани российский гарнизон, а также выплачивать по 80 тысяч рублей дани в год. Взамен Келб-Али-хан и его наследники признавались полноценными правителями своего ханства. Кроме этого, Россия обязывалась оборонять Нахичевань от посягательств извне. Кроме этого, Цицианов обещал приложить все усилия для выкупа старшего сына хана. Дело в том, что его сын Эхсан находился заложником при шахском дворе, где всячески демонстрировал верность персам, являясь начальником псовой охоты при наследнике престола Аббасе-Мирзе.
Свое послание Цицианов закончил в восточном стиле: «…Скорей солнце оборотится назад, в Каспийском море не будет воды, нежели мой поход отменится. Разница только та, что или приду как брат спасать брата, или как враг – наказать дерзающего противиться велению Государя государей, подобно Джавад-хану Гянджинскому».
Однако пока Келб-Али-хан раздумывал над непростым выбором, военная ситуация изменилась, и Цицианову стало уже не до Нахичеваня.
После падения Гянджи враждебным к России остался только эриванский Махмуд-хан, который, сознавая неизбежность столкновения с Россией, рассчитывал на помощи Персии. При этом хитрый правитель Эревана слал Цицианову откровенно подобострастные письма: «Не теряйте времени. Немедля направьтесь в Эреван и осветите эти места восходом полумесяца ваших победоносных знамен. Как только появятся ваши доблестные войска, ключи от крепости тут же представлю вам, и подчинюсь высокой власти лучезарного российского государства».
Но наместника было не так-то просто провести
– То, что Эривань мы завоюем быстро, у меня нет никаких сомнений. Но планы у меня гораздо масштабнее, – говорил Цицианов генерал-майору Портнягину. – Хочу утвердить владычество России между Черным и Каспийским морями, поставив Аракс естественной границей между Россией и Персией.
– А не слишком ли велик замах? – засомневался в реальности столь грандиозного плана скромный Портнягин.
– Каков я сам, таковы и мои планы! – усмехнулся самонадеянный наместник.
Что касается Персии, то там посчитали захват Гянджи, которая находилась под протекторатом шаха, не просто поводом к войне, а ее началом. Разгневанный Фетх-Али-шах немедленно начал готовить к боевым действиям гвардию. Из северных провинций Персии в лагерь под Султанией стали спешно собираться племенные войска. В апреле того же года шах и его юный сын Аббас-Мирза во главе многочисленного воинства пересекли Аракс, войдя в Нахичевань, после чего неспешно двинулись в сторону Эривана. Столкновение двух держав в битве за обладание Закавказьем стало неотвратимым.
Глава третья
Итак, Персия объявила России войну. Случилось то, чего так опасались в России, но то, что обязательно должно было произойти.
Если после взятия Гянджи положение России на Кавказе серьезно упрочилось, то теперь все мгновенно повернулось в другую сторону. Как оказалось, и англичане, несмотря на союзнические отношения с Россией в противостоянии Наполеону, втихую снабжали шаха современным оружием, причем не только ружьями, как азербайджанских ханов, но и артиллерией. Ну, а кроме этого, буквально наводнили Персию своими инструкторами.
Что поделать, Англия уже втянулась в Большую Игру с Россией на Востоке, где действовали свои законы, совершенно отличные от европейских союзов, договоренностей и коалиций. В Большой Игре для англичан существовал лишь один критерий – уровень опасности для Ост-Индской компании. Опасаясь потерять главную колонию и самый богатый источник доходов, Лондон боялся даже малейших намеков движения Франции и России на Восток. Поэтому в начавшемся противостоянии России и Персии там сразу же увидели опасность для себя. Еще бы, именно Персия являлась главным буфером между Россией и Афганистаном, который уже граничил с самой Индией.
Что касается персов, то Гянджа была для них лишь поводом. Непосредственной причиной войны послужили события в Восточной Армении. Началось с того, что владелец Эриванского ханства Махмуд-хан и Киал-Бали-хан Нахичеванский обратились как вассалы к персидскому шаху Фетх-Али (прозванному в России Баба-ханом за соответствующую внешность и тонкий голос) с просьбой поддержать их претензии на господство в армянских землях. Фетх-Али согласие дал, надеясь, таким образом, укрепиться в Эриване.
Более того, шах демонстративно пожаловал Грузию как свою вотчину (которая, заметим, уже принадлежала России!) беглому царевичу Александру. При этом Фетх-Али самолично опоясал изменника царским мечом.
– Мы идем не захватывать, а освобождать нашу законную землю – Грузию! – объявил он, надевая на палец Александра золотой перстень, что означало возведение в царскую власть.
Баба-хан знал, что делал! Возведя беглеца на грузинский престол, он придал будущей войне за Грузию законный характер. После этого сын Фетх-Али-шаха наследный принц Аббас-Мирза и эриванский хан Махаммед (кстати, тоже из рода Каджаров!) одновременно прислали Цицианову письма, в которых потребовали убраться с Кавказа, если русские хотят спасти свои жизни. В противном случае принц и хан грозили гневом шаха, который покарает неверных. Это был вызов! Можно только представить ярость гордого и строптивого Цицианова, когда тот читал письма.
– Видит Бог, я не хотел этого! Но урок ослушникам будет преподан!
Ответ кавказского наместника был предельно жесток: «На глупые и дерзкие письма, каково было ханское, с прописанием к нему еще и повелений, словами льва, а делами теленка, Баба-хана, русские привыкли отвечать штыками…»
В качестве ответного ультиматума Цицианов снова потребовал освободить посаженного в тюрьму шахом армянского патриарха Даниила. На этом обмен любезностями закончился. Вместо письменного ответа Махмуд-хан собрал семитысячное воинство, а за Араксом в Тавризе пришла в движение персидская армия. Затем в Тифлис прибыл шахский посол Якуб-бек и вручил Цицианову ультиматум – немедленно вывести русские войска из всего Закавказья.
– Что же нас ожидает, ежели ослушаемся? – не без иронии спросил Якуб-бека Цицианов, бросив в сторону нераспечатанное письмо.
– Повелитель Вселенной, падишах над падишахами просто снесет своим мечом ваши глупые головы! – напыщенно ответил посланец.
Цицианов внимательно посмотрел ему в глаза и… увидел там страх. Дело в том, что на Востоке за такие дерзкие речи посланца войны могли и казнить.
– Мы послам, даже приносящим дурные вести, голов не рубим, – усмехнулся наместник. – Но с врагами не церемонимся!
После чего посла выгнали взашей.
А известия о персах приходили все тревожней и тревожней. Помимо эриванского хана и другие закавказские владетели заторопились выказать свою преданность Каджарам. Особенно большую активность проявили прикаспийские ханы.
Вскоре лазутчики донесли, что основные силы персов уже соединились с передовым отрядом Аббаса-Мирзы. Персидский летописец писал по этому поводу так: «Продвигаясь со скоростью ветра и молнии, они соединились друг с другом в местечке, называемом Девелу». Теперь персов собралось более 40 тысяч – сила вполне достаточная, чтобы пройти огнем и мечом по всему Закавказью.
А что имел под рукой Цицианов? В его распоряжении были только полки Тифлисский, Кабардинский, Саратовский и Севастопольский мушкетерские полки, Кавказский гренадерский, да два драгунских – Нижегородский и Нарвский. Всего каких-то неполных семь тысяч штыков и сабель.
Для полномасштабной войны с таким большим государством, как Персия, кот наплакал. К тому же даже эти силы были разбросаны в гарнизонах от Армении до Каспия. Так, 9‑й егерский полк удерживал Карталинию, причем две роты занимали городок Цхинвал для присмотра за тамошними осетинами. Тифлисский мушкетерский полк прикрывал границу со стороны Ахалциха и удерживавал от мятежей мусульман Памбакской провинции. Знаменитый 17‑й егерский полк составлял гарнизон Елизаветполя и обеспечивал спокойствие в близлежащих провинциях. Севастопольский мушкетерский полк располагался в Тифлисе и по границам Грузии. 15‑й егерский полк и два батальона Кабардинского мушкетерского полка составляли Лезгинскую оборонительную линию по течению реки Алазань. Что оставалось для противостояния персам? А ничего!
Если бы Цицианов решил собрать все свои полки в кулак, то мгновенно в опустевших городах и ханствах начались бы мятежи, усмирять которые было бы нечем… Увы, но по причине надвигавшегося столкновения России с Наполеоном рассчитывать на серьезные подкрепления из России Цицианов тоже не мог. Спасение было в одном – в стремительном нападении на персов, пока те еще полностью не изготовились к войне.
– Наш шанс – игра на опережение! – объявил Цицианов генералам. – Поэтому не будем отсиживаться за горными перевалами, а выступаем в поход немедленно!
– Но мы еще не все сгребли до кучи? – выразил сомнение генерал-майор Портнягин.
– Времени уже нет, обойдемся тем, что имеем под рукой. Выступаем на Эривань! Вы, Семен Андреевич, – командир авангарда! Я верю в выучку и стойкость господ офицеров и солдат. Будем воевать по-суворовски!
– Авангард так авангард! – коротко кивнул Портнягин, не слишком расположенный что-то доказывать строптивому главнокомандующему.
8 июня 1804 года отряд Цицианова выступил в поход, успех которого был весьма сомнителен. Что вел он с собой? Всего ничего: два батальона Саратовского полка, три неполных батальона Кавказского гренадерского полка, два батальона Тифлисского полка, четыре эскадрона нарвских драгун, три сотни казаков, да столько же грузинской дворянской милиции генерал-майора Ивана Орбелиани. Всего четыре тысячи штыков и сабель при двух десятках пушек.
Впрочем, и в офицерах, и в солдатах Цицианов был уверен – все были опытны и дело свое знали. Несмотря на трудность дороги, батальоны шли быстро и отставших почти не было.
Ряд историков считают, что намерение идти на «вы» и атаковать первым объясняется лишь «пылкостью натуры Цицианова». Что ж, генерал действительно бывал зачастую излишне горяч, однако на сей раз он руководствовался трезвым расчетом.
Дело в том, что персы могли ворваться в Грузию через четыре горных прохода. Пятый путь в Грузию через долину Куры запирал Елизаветполь, и там обязательно следовало держать приличный гарнизон. Если разделить все русские силы на пять частей, расставив их по всем горным проходам, то поражение было бы неминуемо, так как угадать, куда направят главный удар персы, заранее было невозможно, а когда об этом станет известно, будет уже поздно перебрасывать подкрепление к атакованному горному проходу. Кроме этого, Цицианов, сам будучи грузином, хорошо знал психологию восточных воинов. Дать персам сделать хотя бы шаг в пределы Российской империи значило воодушевить их на победу. Главной мечтой каждого перса была богатая добыча, ну, а когда эта добыча совсем рядом, то желание овладеть ею возрастало многократно.
Что касается выбранной для удара Гянджи, то Эриванское ханство грузинские цари исстари считали «своим», что являлось хорошим поводом для ее присоединения к России как законной собственности Багратидов.
Помимо этого, эриванцы постоянно угоняли скот с территории Грузии, грабили купцов и разоряли приграничные села. Этому так же надо было положить конец. Ну, и наконец, на территории ханства находился Эчмиадзин – древняя резиденция армянского патриарха. Таким образом, присоединение Эривани многократно усилило бы влияние России на армянское население Закавказья. Наконец, присоединение Эривани создавало удобный плацдарм для последующего наступления на территорию Турции и Персии.
Однако расчеты расчетами, что же в реальности ждало горсть русских офицеров и солдат, занесенных волею судеб в далекие и дикие горы, не знал никто…
* * *
А что происходило в это время на западном берегу Каспийского моря? В начале XIX века астраханская торговля с ханствами, лежащими по берегам Каспийского моря, постоянно подвергалась опасностям от множества отмелей, подводных камней и слабой штурманской подготовки шкиперов. При этом на Каспии вовсю действовало т. н. «береговое право», согласно которому выброшенные на мель суда немедленно разграблялись местными жителями. Узнав об этом, Цицианов велел немедленно учредить в Астрахани штурманское училище, дабы выпускать на купеческие суда толковых штурманов.
С приобретением Карабахского и Ширванского ханств Цицианов решил построить укрепление на Сальянском полуострове, при устье Куры, которое защищало бы русские суда, следующие из Астрахани. Этим путем предполагалось также перевозить тяжелые грузы для войск, находящихся в Грузии, а также организовать взаимный сбыт товаров и продуктов России и Закавказья.
Россия давно пользовалась исключительным правом плавания по Каспийскому морю. По существующим трактатам на Каспийском море мог господствовать один русский флаг. По снисхождению Россия допускала плавание мелких судов-киржимов для перевозки хлеба. Но в 1803 году неожиданно появились конкуренты – три больших морских судна построили бакинский и талышинский ханы. Узнав об этом, император Александр приказал князю Цицианову принять меры, чтобы эти суда не плавали по морю, а также изыскать способы перевозка хлеба по пристаням исключительно русскими судами. О немедленном уничтожении больших судов Цицианов немедленно сообщил их владельцам, что и было беспрекословно исполнено.
Ну, а чтобы персам и в дальнейшем было неповадно составлять нам торговой конкуренции на Каспии, Цицианов запретил нашим купцам продавать им якоря, без которых персияне просто не могли плавать по морю. При этом наместник все же мост для местных ханов не сжег.
– Я дам позволение на покупку якорей тем из них, кто окажется наиболее преданным России! – заявил он.
Уверовав в наше господство на Каспийском море, под русское покровительство попросились обитавшие на восточном берегу Каспия абдальские туркмены, занимавшиеся торговлею и хлебопашеством. В 1803 году их посланцы прибыли в Петербург с просьбой принять их в подданство России, построить для защиты их от киргиз-кайсаков крепость при Мангышлаке, а также дать им льготы в ловле тюленей. В Петербурге приняли туркмен с большим участием, надеясь с их помощью расширить торговлю с Бухарой и Хивой. Увы, хорошая затея провалилась. Как оказалось, часть абдальских аксакалов вовсе не желали тесного сближения с Россией. Поэтому отправленный князем Цициановым для обзора восточного берега и поиска места для постройки укрепления поручик Лошкарев неожиданно встретил затруднения. Даже получить разрешение для осмотра берега он смог не прежде, чем заполучил в свои руки несколько заложников-аманатов. Осмотрев же берег, Лошкарев нашел, что наиболее удобным местом для постройки крепости является не Мангышлак, а урочище Гедик в Тюк-Караганском заливе. Но ничего из этой затеи так и не вышло. Цицианова отвлекли куда более важные дела в Закавказье.
Чтобы несколько охладить пыл владетелей Восточного Кавказа в помощи Эривани, Цицианов распорядился провести отвлекающую операцию на каспийском побережье. Еще в январе 1804 года он написал секретное предписание командующему Астраханским портом и Каспийской флотилией генерал-майору по адмиралтейству Новикову подготовить к апрелю транспорты для полка пехоты и восьми полевых орудий. Для артиллерийской поддержки с моря предписывалось снарядить фрегат или бомбардирское судно, а также две бригантины. Через месяц Новиков прислал подозрительно многословный ответ, объясняя, что к началу апреля могут быть готовы немногие суда, а другие – лишь к маю и июню.
– Сдается мне, что сей каспийский Нептун что-то привирает, чтобы не слишком натруждать свою особу! – злился Цицианов.
Однако людей, хорошо знающих морское дело, у него под рукой не было и проверить Новикова он не мог. Пришлось смириться с тем, что доложил «каспийский Нептун», и ориентироваться на его сроки. Впрочем, если бы Цицианов знал специфику службы на Каспийской флотилии, то ответу Новикова он бы ничуть не удивился. Дело в том, что, в отличие от Балтийского и Черноморского флотов, на Каспии службу правили так, как считали нужным. Чинопочитание и субординация не приветствовались, о шагистике в Астрахани и слыхом не слыхивали, а отношения между офицерами были почти семейными. У флотских Каспий считался почти ссылкой, большой карьеры там не делали, а потому шли туда обычно служить те, кто хотел спокойной службы и жизни. Командующий Каспийской флотилией генерал-майор по адмиралтейству Новиков, к примеру, держал в Астрахани большой дом и немалое хозяйство с коровами и свиньями. По двору под ногами сновали гуси и утки, в вольерах надрывно вопили павлины. За всем этим ухаживали десятки матросов, которые и забыть позабыли про паруса и пушки.
Офицеров по делам служебным Новиков принимал обычно на веранде за самоваром. Потчевал горячим чаем с вареньем, да чтоб не меньше десяти чашек! Не чурался с подчиненными и четвертину пропустить.
Офицеры на Каспийской флотилии тоже были «оторви и выбрось»! И выпить, и морду набить, это всегда на раз-два.
При этом, несмотря на все послабления и откровенную партизанщину, прибыв в Астрахань и оглядевшись, некоторые вчерашние дебоширы и пьяницы начинали служить так, что только брызги из-под форштевней их утлых суденышек летели…
Чего стоил, например, лейтенант Митрий Челеев! Еще мичманом прошел страшную школу Роченсальмского и Выборгского сражений, когда людей разрывало в куски десятками, а в шпигатах стыла густым киселем кровь. На больших кораблях у Челеева служить не получалось, уж слишком был дерзок и своенравен. Поэтому командовал самыми малыми, что на посылках. По этой причине плавал Челеев много. Вначале исходил всю Балтику, а когда повздорил с заезжим адмиралом, был сослан в Архангельск, где описывал берега беломорские. Карты сделал Челеев преотличные, но едва вернулся командиром балтийского брига «Легкий» – снова скандал. После этого строптивого лейтенанта упекли уже в Астрахань, с надеждой, что там либо в драке прибьют, либо сам сопьется. Но, ни того, ни другого не случилось. Приехал Челеев, осмотрелся и начал править службу так, что одно загляденье. А чего не служить, когда никто у тебя над душой не стоит и во всем полная самостоятельность дана! Никаких тебе инструкций, никаких тебе регламентов. Первым дружком у Челеева и такой же, как и он, оторва, капитан-лейтенант Егор Веселаго. Офицеры-однокашники по Морскому корпусу. Разница лишь в том, что Веселаго за драку еще мичманом сослали в Астрахань верблюдам хвосты крутить. Здесь дружки и встретились.
Когда приказ о снаряжении судов против персов пришел, вызвал генерал Новиков к себе Веселаго с Челеевым, угостил чайком. Под ногами шныряли куры, а злобные гуси все норовили ущипнуть.
– Кыш-кыш, родимые! – ласково отгонял их Новиков. – Не до вас мне нынче!
Когда же супружница генеральская самолично гостям четвертину на стол поставила, хозяин гостей своих и о войне известил, показал им приказы наместника кавказского. В своем послании Цицианов писал, что решил отвлечь персов от похода в Грузию высадкой морского десанта на берегу Гиляни и взятием тамошнего города Решт. В то же время Цицианов желал, чтобы на возвратном пути из Гиляни флотилия заняла Баку и оставила там русский гарнизон. Начальство над этой экспедицией было поручено генерал-майору Иринарху Завалишину.
Рассказывая об этом, Новиков так кряхтел и охал, что казалось вот-вот помрет. Закончил же он монолог словами такими:
– Я человек старый и по службе своей не корабельный, а береговой, посему буду вам, ребятки, с берега помогать – порохом и провиантом обеспечивать. А вы уж на хлябях каспийских сами рулите, как знаете.
Веселаго с Челеевым весело переглянулись, а чего не повоевать!
– Плохо только, что наместник поставил главным генерала Завалишина, уж очень он беспокойный, – продолжал охать Новиков.
– С Завалишиным как-нибудь сладим! – дружно ответствовали друзья, закусив водку солеными огурчиками. – Куда плыть-то надобно?