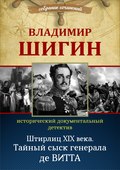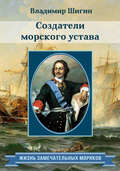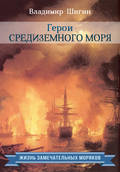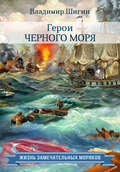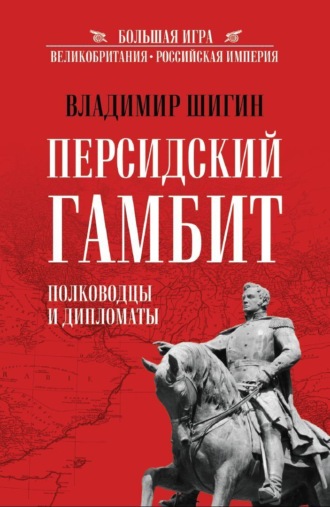
Владимир Шигин
Персидский гамбит. Полководцы и дипломаты
* * *
В лице князя Павла Дмитриевича Цицианова Россия понесла большую утрату. Управляя Кавказом всего три года, он смог за этот срок раздвинуть границы империи до Черного и Каспийского морей. Цицианов успокоил Грузию, усмирил лезгин, присоединил к России Имеретинское царство и Мингрельское княжество. Цицианов отбил персидское нашествие, штурмом взял Гянджу, подчинил Шурагельскую область, Карабахское, Шекинское и Ширванское ханства. Унял самоуправство местных ханов и беков. Отныне и навсегда Грузия была освобождена от постоянной угрозы со стороны Турции и Персии, перестала платить дань деньгами и рабами лезгинам и туркам. Цицианов приступил к постройке дороги от Кавказской линии в Грузию, обновил город-крепость Владикавказ, учредил постоянное почтовое сообщение по Военно-Грузинскому тракту. Наместник всячески поощрял русское образование в Тифлисе, требуя присылки туда русских учителей, доставки русских книг. Отправлял, несмотря на слезы матерей, десятки отпрысков благородных семей на учебу в Петербург. И все это за каких-то три года!
…Только после присоединения Баку к России останки Цицианова будут преданы погребению в городской армянской церкви. Через несколько лет прах наместника будет перенесен в тифлисский Сионский собор. Траурную процессию до самого Тифлиса будут сопровождать войска, отдавая воинские почести своему вождю. Весь Тифлис выйдет навстречу процессии, и толпы народа будут безмолвно сопровождать прах русского генерала и потомка картли-кахетинских царей. Над могилой Цицианова поставят памятник с эпитафией: «Под сим монументом сокрыты тленные останки Цицианова, коего слава переживет прах его».
Спустя годы о подвиге генерала Цицианова скажет великий Пушкин:
…И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов…
После убийства Цицианова временным наместником Кавказа был назначен скромный и толковый генерал-майор Портнягин.
Но Фетх-Али просчитался, рассчитывая на серьезную помощь англичан, согласно договору 1801 года. Его союзники стремились лишь использовать ситуацию в своих интересах. Поэтому, когда после ряда серьезных поражений в 1805 году Фетх-Али-шах стал настаивать на предоставлении ему оговоренной договором помощи, англичане немедленно потребовали за это передать им в аренду все причалы Каспийского моря, а кроме того, разрешить сооружение крепости в Бушире и предоставить им столь вожделенный остров Харк.
«Мы предоставим Персии самое лучшее оружие, если шах отдаст нам Персидский залив и Каспийское море».
Глава седьмая
Итак, русские войска на Кавказе остались без авторитетного предводителя, а Грузия в ситуации безначалия. Едва известие о смерти Цицианова разнеслось по Кавказу, вступившие уже было в российское подданство ханы Карабахский, Шекинский, Шамахинский и Кубинский мгновенно забыли все клятвы.
– Мы обещали слушаться лишь князя Цицианова, а не любого, кого пришлет властвовать русский царь! Теперь Цицианова нет, а значит, и клятвы тоже нет!
Сразу же возник и масштабный антирусский заговор, грозивший большими бедами. Самым вероломным из ослушников оказался кубинский хан Сурхай. Договорившись с аварским ханом, обещавшим прийти к нему на помощь с войском, Сурхай обещал напасть на наш пост на реке Куре, после чего двинуться на Гянджу и начать полномасштабные действия против России. Одновременно Шейхали-хан Дербентский и Мустафа-хан Ширванский должны были двинуться к Нухе и там соединиться с шекинским ханом Селимом. После этого к заговорщикам должен был подойти во главе персидской армии сам Аббас-Мирза с изменником-царевичем Александром. Что и говорить, план был неплох, осталось лишь его исполнить!
Первыми начали мятеж Ширванское и Шекинское ханства. Узнав об этом, заволновались и горские племена.
Храбрый генерал Портнягин лично метался из города в город, стремясь всех успокоить. Но авторитета и опытности в таких делах ему не хватало. В Закавказье, как никогда ранее, требовалась твердая рука, которая бы восстановила порядок.
К счастью, такая рука быстро нашлась. Наши войска возглавил генерал-лейтенант Григорий Иванович Глазенап. Это был опытный воин, получивший крещение еще в Кагульской битве, под началом графа Румянцева и отличившийся у Суворова при Измаиле. До этого назначения Глазенап командовал Кавказской линией и неплохо управлялся с местными горцами где оружием, а где добрым словом. Глазенап вообще слыл человеком добродушным. Узнав о мятеже азербайджанских ханов, он искренне недоумевал:
– И чего им всем по аулам не сидится! Сидели бы себе с домочадцами, да чай с халвой вкушали. Ну, а коль не сидится спокойно, придется вразумлять нерадивых!
Добродушие генерала, впрочем, не сказывалось на его военном опыте. Собрав старших начальников, Глазенап объявил о первых мерах по наведению порядка:
– Прежде всего, займемся Дербентом, затем всеми другими отступниками. Надлежит наглядно показать зарвавшимся ханам, что Россия измены не прощает!
Войска начали готовиться к походу.
Опытный Глазенап требовал от офицеров бдительности:
– Война здешняя не столь опасна для полков и больших отрядов, сколь гибельна для солдат и казаков, которые отваживались отделиться поодиночке за какою-нибудь надобностью. Посему каждый должен быть не только искусным наездником, стрелком, но и неутомимым следопытом, чтобы по узким горным тропинкам на горы взбираться!
В июне 1806 года войска Глазенапа двинулись на Дербент.
Когда на холмах подле Дербента появился русский авангард, там начался настоящий переполох. До наших доносились крики и пальба из ружей. Как оказалось, горожане подняли восстание, хан бежал, после чего старейшины вручили Глазенапу ключи от Дербента. Тот немедленно привел жителей города к присяге императору Александру.
– Так бы всегда воевать, – потирал руки генерал. – Чтобы без всякой крови и полюбовно!
За присоединение Дербента император Александр одарил Глазенапа табакеркой, украшенной бриллиантами, и большой пенсией. Другой бы на месте Григория Ивановича усмотрел в этом намек на скорую отставку, но Глазенап был бесхитростен:
– Табакерку жене отдам, чтобы табачок нюхала, а пенсион на старость отложу!
Хватало Глазенапу и других проблем. Так, в Тифлисе неожиданно появился поручик лейб-гвардии Гусарского полка князь Роман Багратион, младший брат знаменитого российского генерала князя Петра Багратиона. Окруженный всеобщим вниманием, зарвавшийся поручик начал сочинять, будто приехал по личному поручению императора Александра для улучшения жизни грузинского народа. При этом поручик Багратион позволял себе дурно отзываться о начальствовавших лицах Грузии, особенно поливая грязью покойного Цицианова.
Рассказы приехавшего из столицы самозванца взволновали столичное грузинское дворянство. Многие, поверив на слово пьяному гусару, начали собираться на тайные сходки и совещания. Как это всегда бывает в Грузии, мгновенно образовались две враждебные партии, ссора между которыми дошла до кровавых драк. Вслед за дворянами начал волноваться и народ. Тогда несколько наиболее благоразумных князей обратились к правителю Грузии, прося разъяснить им причины тайных совещаний и сборищ.
– Мы вполне довольны русским правлением, не желаем ни о чем просить императора. Мы не понимаем, зачем он помимо наместника присылает еще и тайного агента? – огорошили они вопросами Глазенапа.
Разобравшись в этом вопросе, Глазенап и его помощник генерал Несветаев немедленно выдворили заигравшегося гусара из Грузии, запретив впредь туда возвращаться. Однако уезжая, поручик Багратион все же прихватил с собою прошения нескольких грузинских князей и дворян на имя генерала Багратиона. В этом прошении подписанты просили ни много ни мало о… возвращении независимости Грузии. Нетрезвый возмутитель спокойствия был уже изгнан, когда молва о неком тайном посланце русского царя дошла до провинций, а потом за грузинские пределы. Теперь там только и говорили о плохих наместниках и о том, что русский царь сам якобы хочет от них избавиться.
В короткое время ряд горских племен, надеясь на льготы и новые милости русского императора, заявляли свои претензии наместнику. В числе первых было племя хевсуров. Недовольные своим правителем-моуравом, они изгнали его из своих владений, после чего напали на Тионетский пост, защищаемый двумя ротами. Нападение отбили, но нападавшие остались безнаказанны. Это еще больше раззадорило воинственных хевсуров. Заявив, что не желают иметь при себе ни моурава, ни российского пристава, они пошли в набег на соседние племена. Пришлось принимать срочные меры. Посланные Глазенапом войска перекрыли хевсурам входы и выходы из их ущелий, после чего те оказались заперты в своих диких горах. Испытывая большую нужду в хлебе и соли, хевсуры продержались до холодов, после чего запросили пощады. Чтобы не нагнетать ситуацию, Глазенап разрешил им избрать себе нового моурава, а также свободный проезд в Грузию.
На этом собственно недолгое командование для Глазенапа и закончилось. Непонятно почему, но генерал ко двору не пришелся и император решил передать власть над Кавказом деятелю более известному и именитому.
* * *
Новым наместником Кавказа был назначен генерал от инфантерии граф Иван Гудович, убеленный сединами ветеран многих войн, завоеватель Гаджибея (нынешней Одессы) и Анапы. В свое время Гудович состоял адъютантом у императора Петра III, оставшись ему верным до конца, за что потом некоторое время пребывал в опале. После снова много воевал с турками. С Кавказом Гудович был знаком не понаслышке, так как дважды за свою долгую службу командовал Кавказской линией.
К сожалению, преклонный возраст изменил характер ветерана. Современники описывают Гудовича как «чрезмерно гордого, старинного века вельможу».
На старости лет Гудович стал раздражительным и упрямым, во всем и во всех видел лишь недостатки, а советы, даже самые дельные, отвергал, даже не слушая. В 1799 году он сумел разругаться даже со своим благодетелем императором Павлом.
Надо ли говорить, что о Цицианове надменный Гудович отзывался исключительно отрицательно, в упор не видя всего им сделанного. Что касается Глазенапа (с которым Гудович имел старую вражду), то прибыв в Тифлис, наместник отстранил его от всякого командования. Покоритель Дербента был без всякой вины отправлен в далекий Омск инспектором Сибирской инспекции и начальником Сибирской линии, где спустя какое-то время и скончался.
Впрочем, наследство досталось Гудовичу весьма непростое. Несмотря на локальный успех Глазенапа, до наведения порядка в Закавказье было еще далеко. Бунтовал имеретинский царь, участились набеги лезгин на Грузию, волновались осетины. Закубанские горцы и кабардинцы совершали дерзкие набеги до самого Ставрополя. Вот-вот могли выступить против и закавказские ханы, непрерывно плетущие заговоры. Предстояло продолжать войну против Персии, которая готовилась к новому вторжению, планируя отбить Карабах и Гянджу. А на носу была уже новая война, теперь уж с Турцией, которая тоже имела виды на Закавказье!
Предвидя возможность войны с Турцией, петербургский кабинет предлагал Гудовичу как можно скорее усмирить местных ханов, а. если представится возможность, заключить мир с Персией и постараться привлечь персов на свою сторону для совместных действий против турок.
Задача была, прямо скажем, непростая. Но граф Гудович был слишком горд, чтобы это признать.
– Я считаю возможным покорить всех ханов и владельцев «великой Армении и Дагестана» в самое ближайшее время, – объявил он сразу же по прибытии в Тифлис. – Мало того, в знак своего подчинения я заставлю их платить дань России!
Непокорных и упорствующих я изгоню из их владений, а сами владения разделю между преданными ханами. Карать же непослушных я начну с подлого убийцы – хана Бакинского!
Наша армия в Закавказье состояла на тот момент из девяти пехотных, одного драгунского и пяти казачьих полков, с батальоном артиллерии в 48 орудий. Помимо этого, на Кавказской линии стояло еще три драгунских и пять пехотных полков. Это ничтожное число войск должно было охранять границы и внутренние сообщения в Грузии, Имеретии и Мингрелии, защищать Памбаки, Елизаветполь, Маданское ущелье против Дагестана, Александровский редут и другие пункты, лежащие по реке Алазани. К тому же не могли быть оставлены без защиты ханства Карабахское, Шекинское и Джават, где Аракс сливается с Курою. Поэтому для отражения персидского нашествия главнокомандующий мог в лучшем случае собрать отряд в три тысячи штыков.
* * *
Еще в конце 1805 года в столицу Карабаха Шушу был отправлен батальон героя штурма Гянджи подполковника Лисаневича. Подполковник имел задачу обеспечить защиту границ ханства от вторжения персов и не дать карабахскому хану переметнуться на сторону противника.
Престарелый Ибрагим-хан Карабахский встретил русских с нескрываемым раздражением. С Лисаневичем он разговаривал, что говорится, «через губу».
– Если Ибрагим якобы на словах желает принять российское подданство и к нему на защиту пришел русский отряд, то чего рожу воротить? – делился он со своим помощником майором Джораевым.
Тот только плечами пожимал:
– Хитрит не иначе старый хрыч!
Что-что, а хитрить Ибрагим-хан действительно умел. За долгие годы своего правления он превратил свое ханство в самое могущественное в Закавказье. К мнению Ибрагим-хана прислушивались ханы Карадага и Ардебиля, Нахичевана, да и другие тоже.
Воевать Ибрагим-хан также умел. Когда-то он отбил нападение кубинского хана, а затем сумел выстоять в непростой войне против самого персидского властителя Ага-Мохаммеда-хана!
Всего год назад Ибрагим подписал Кюрекчайский договор, согласно которому его ханство переходило под руку России. Но затем старый хитрец передумал и теперь вертелся ужом, пытаясь усидеть сразу на двух стульях – российском и персидском.
Поэтому русскому гарнизону Шуши жилось не слишком сытно. Ибрагим-хан обманывал то с провиантом, то с фуражом, а то и с тем, и с другим. По этой причине не сложились у хана отношения с Лисаневичем, который не без оснований подозревал властителя Карабаха в двуличии.
Когда в мае 1806 года персидская армия Аббаса-Мирзы пересекла пограничный Аракс, то первым делом она направилась именно к Шуше. Во главе персидского авангарда был поставлен старший сын карабахского хана – Абдул-Фетх. Пока деятельный Лисаневич готовил Шушу к обороне, Ибрагим-хан внезапно объявил ему, что из-за наступившей жары плохо себя чувствует, а в каменной Шуше ему просто не хватает воздуха, поэтому ему надо срочно покинуть крепость.
– Вот ведь как, – невесело усмехнулся Лисаневич, – семьдесят лет хватало, а теперь вдруг нет!
Выехав из Шуши, Ибрагим-хан расположился вместе с сопровождавшими его домашними, большой охраной и свитой в четырех верстах от Шуши в замке Мирза-Али-Беков Сенгир. Оттуда он слал гонцов к своему сыну Абдул-Фетху, извещая его о всех делах русских. Раз в несколько дней Ибрагим-хан посещал Шушу, где его осведомители докладывали владыке о том, что нового предприняли русские для обороны. Но лазутчиков имел не только Ибрагим-хан. Были они и у Лисаневича, тем более что подполковник бегло говорил на фарси. При этом о хане докладывали ему, прежде всего, армянский врач мелик Джемшид и ближайшие родственники самого хана.
Налицо была прямая измена, но вначале Лисаневич пытался действовать уговорами, посылая к Ибрагим-хану его сына и внука, чтобы те уговорили изменника прекратить сношения с неприятелем и вернуться на российскую сторону. Лисаневич докладывал: «Как по сим случаям измена оказалась явною, то я послал для уговора оного сына его Мехти-агу и внука Джафар-Кули-бека, с тем чтобы он, разруша все с персиянами связи, возвратился бы со всем семейством в крепость, которые, пробыв там большую часть дня, сначала возвратившийся Джафар-Кули-бек объявил мне, что он хотя несколько раз уговаривал хана отстать от персиян, но кроме брани русских он ничего от него не слыхал и сверх того хан его убедительнейше просил, чтобы он постарался зазвать в дом меня к себе и, поймавши там, отдать ему и также выкрасть брата своего Шукур-Уллаха, находящегося в аманатах в Елисаветполе, отчего-де я ему отказался; сверх сего объявил, что в нынешнюю ночь или хан уйдет к персиянам или персияне с ним соединятся, после чего прибывший Мехти-ага также объявил, что он сколько ни старался уговаривать хана, но хан ни на что не соглашается и явно уже принял сторону персиян».
Надо было срочно решать, что делать? Промедление могло обойтись очень дорого. В случае побега Ибрагим-хана тот поднял бы против нас все Карабахское ханство.
Лисаневич был человеком действия, поэтому решил захватить и вернуть в крепость мятежного хана. Взяв с собой сотню егерей 17‑го полка, в ночь на 27 мая Лисаневич вышел из Шушинской крепости и двинулся к замку Ибрагим-хана.
При этом, чтобы обмануть выставленные в сторону Шуши караулы, егеря зашли к ханскому замку с тыла. Но незаметно подойти не удалось. Увидев приближающихся егерей, ханские гвардейцы открыли по ним стрельбу.
Сколько ни старался Лисаневич криком уговорить стрелявших прекратить огонь и сдаться, те продолжали бой и убили одного егеря. Тогда раздосадованный Лисаневич приказал барабанщику бить атаку. Егеря бросились в штыки и в считанные минуты обратили оборонявшихся в бегство. При этом в неразберихе атаки сам хан и несколько вельмож были убиты пулями, а жена и дочь тяжело ранены. Что касается захваченных вещей, то, по военному обычаю того времени, Лисаневич все отдал своим егерям.
При этом один из ханских сыновей Ханлар-ага с группой всадников успел ускакать к персам.
Еще не развеялся пороховой дым, как прискакавший гонец доложил:
– Получено известие от муганлинского бека, что персидский авангард во главе с Абдул-Фетхом находился уже совсем близко от Шуши!
После этого Лисаневич поспешил вернуться в крепость. Едва успели закрыть ворота, как на ближайших высотах показались персы. Переведя дух, Лисаневич выступил против них с полутора сотнями егерей и конной карабахской милицией. Но Абдул-Фетх боя не принял. Узнав от беглецов об участи отца и его окружения, старший сын хана отступил.
Когда Гудовичу уже донесли, что командир егерского батальона убил беззащитного и невинного хана, перебив при этом его семью, включая жен и детей, а также разграбил все ханские ценности, он был, мягко сказать, огорчен.
– Назначить самое строгое расследование и, ежели факт безвинного смертоубийства подтвердится, спросить с виновников по полной! – распорядился наместник.
Впоследствии Лисаневичу пришлось еще долго объясняться за смерть Ибрагим-паши. Только полтора года спустя следствие пришло к выводу, что подполковник действовал совершенно правильно и сделал в той непростой обстановке все от него зависящее.
* * *
Свое новое поприще Гудович начал с отражения персидского вторжения. Летом 1806 года он послал только что прибывший с Кавказской линии Троицкий мушкетерский полк генерал-майора Небольсина (полторы тысячи солдат) занять приграничную Нахичивань, что тот блестяще и исполнил. После этого по приказу Гудовича Небольсин двинулся в Карабахскую провинцию и дважды (у Шах-Булахского замка и на речке Ханашин) разбил 20‑тысячное войско Аббаса-Мирзы. Разрушив устроенные персами батареи и укрепления, Небольсин вышвырнул войска шаха из пределов Карабахской провинции за реку Аракс. Одновременно русские войска отразили попытку вторжения персов и со стороны Эривани.
Между тем персы продолжили свое вторжение. Поэтому, едва пришло известие от Лисаневича о появлении вблизи наших границ нового персидского воинства, навстречу неприятелю в Карабах были направлены два батальона Троицкого мушкетерского полка под начальством генерал-майора Небольсина. По пути Небольсин присоединил к себе егерей 17‑го полка во главе с самим полковником Карягиным. Всего под своим началом он имел тысячу пехоты, сотню казаков и восемь орудий.
На пути между Шах-Булахом и Аскераном Небольсин был атакован четырьмя тысячами конников Аббаса-Мирзы. Окружив русское каре со всех сторон, персы то и дело пытались прорваться вовнутрь его.
Пришлось прокладывать себе дорогу штыками долгих шестнадцать верст. Наконец, Небольсин достиг города Аскерана, где присоединил к себе егерей подполковника Лисаневича, пришедшего из Шуши.
– Думаю, что теперь мы достаточно сильны, чтобы атаковать самим! – заявил он Лисаневичу.
Оставив обоз и тяжести в Аскеране, под прикрытием части пехоты, Небольсин двинулся к Карапапету, где были расположены главные силы Аббаса-Мирзы. Однако не застав там неприятеля, повернул к речке Ханатин. Ночью 13 июня русский отряд был встречен персидской конницей, позади которой в Ханатинском ущелье стояла пехота. На этот раз Аббас-Мирза сосредоточил против нас шестнадцать тысяч всадников и четыре тысячи пехотинцев-сарбазов. Соотношение сил было явно не в нашу пользу, и дело сразу приняло самый серьезный оборот.
С рассветом персы большими массами атаковали русский отряд. Впрочем, атака производилась довольно сумбурно, без всякого порядка, визжащей и кричащей толпой. Немедленно выстроив каре, наши отбивались от нападавших со всех сторон персов ружейными залпами и штыками. Но стоять в обороне генерал Небольсин долго не собирался.
– Думаю, настало время познакомить наглецов с русским штыком, как полагаете, Павел Михайлович? – обратился он к наблюдавшему за ходом боя полковнику Карягину.
– Полагаю, Петр Федорович, атака – лучшее, что басурмане понимают! – ответил тот без раздумий.
– Посему будем атаковать их лагерь. Знаю по опыту, что как только ворвемся в вагенбург, побегут окаянные!
Небольсин знал, что говорил – потеря лагеря являлась самым страшным горем для персов. Дело в том, что в персидской армии каждый питался сам по себе и сам таскал в своих вьюках награбленное. Поэтому, лишившись средств к существованию, персидские воины разом теряли весь свой боевой пыл и разбегались в разные стороны, чтобы не только добывать пропитание, но и возмещать потерянное добро, нещадно грабя местных жителей.
Двинув свое каре вперед, Небольсин выгнал персов из ущелий и заставил их вместе с Аббасом-Мирзою бежать к Араксу, бросив весь огромный лагерь. За рекой неприятеля уже не трогали. Пусть себе раны зализывает! А «раны» у персов были серьезные – около тысячи убитых и две пушки. У нас убито восемь и ранено полсотни. Ну, а чтобы персам совсем расхотелось меряться с нами силой в этот год, Небольсин послал подполковника Лисаневича к реке Мигри, где еще находились персы. Пройдя форсированными маршами в верховья реки, тот 20 июня наголову разбил и прогнал за речку последний персидский отряд.
После того как был в очередной раз проучен Аббас-Мирза, настало время образумить и мятежного грузинского царевича Александра.
Дело в том, что одновременно с появлением персиян в Карабахе мятежный грузинский царевич, во главе семи тысяч персов прибыл на реку Балахлу, в расстоянии дня езды от Казахской провинции. Отсюда он отправил к казахам посланника с требованием прислать ему в знак верности в аманаты четырех старшин, обещая взамен избавить Грузию от русских. После этого царевич направился к Шамшадильской провинции. План его состоял в том, чтобы поднять против России одновременно и казахов, и шамшадильцев, а затем, соединившись с Аббасом-Мирзою, двинуться на Тифлис. Что и говорить, план был действительно неплох! Оставалось только его выполнить. Вблизи озера Гокча царевич Александр разделил свое воинство на две части: одну, под своим началом, расположил у Торчая, другую, под командою Хусейн-Кули-хана Урумийского, направил к вершинам Дзагами, что в 80 верстах от Елизаветполя.
Не предпринимая решительных действий, оба отряда ожидали соединения с главными силами Аббаса-Мирзы, который (как мы уже знаем) намеревался через Карабах и Елизаветполь следовать на Тифлис. Во время этого продолжительного ожидания Александр и Хусейн-Кули-хан старались привлечь на свою сторону местных жителей. Но казахи и шамшадильцы изменять России не торопились.
Ну, а затем пришло известие, что Аббас-Мирза в очередной раз разбит и бежал за Аракс. Почти одновременно лазутчики донесли, что и сюда приближаются отряды русских. Теперь мятежному царевичу и Хусейн-Кули-хану ничего не оставалось, как тоже бежать.
Но безнаказанно уйти не удалось. Отступая, Александр наткнулся на отряд подполковника князя Эристова (брат убитого под Баку переводчика Цицианова), потерпел в бою полное поражение и бежал в Эривань. После его бегства Елизаветпольская, Казахская, Шамшадильская и Памбакская провинции наконец-то вздохнули спокойно, а скрывавшиеся от персидского разорения в горах жители Карабаха вернулись в свои селения.
* * *
Едва получив назначение наместником Кавказа, генерал-аншеф Гудович немедленно вызвал к себе из отставки генерал-лейтенанта Булгакова, где последний пребывал еще с окончания Кавказского похода графа Зубова. К этому моменту Булгаков был уже настоящим стариком. Ветеран уже не помнил даже, сколько ему лет. Когда спрашивали о возрасте, шамкал беззубым ртом:
– Когда родился, уже не ведаю. Помню, что воевал с пруссаками при матушке Елизавете. Потом, при матушке Екатерине, воевал с турками и поляками, с татарами и черкесами разными. А вот теперь, кажись, и внук ее Александр во мне нужду поимел!
Грамоты Булгаков почти не знал, благо, что расписываться научился. Когда на это пеняли, только рукой отмахивался:
– Правда ваша! Штыком действовать я куда способный, чем пером!
В мирной жизни Булгаков был человеком медлительным и размеренным, но в бою мгновенно преображался и был полон отваги.
За свою долгую службу Булгаков переслужил, наверное, со всеми известными полководцами. С наместником Кавказа Булгаков тоже вместе повоевать успел. При штурме Анапы в 1791 году командовал под началом Гудовича одной из штурмовых колонн, за что и получил Георгия 3‑го класса.
Вся русская армия знала об открытом и даже наивном характере Булгакова. Обмануть его было несложно, но только один раз. Второго быть не могло, так как генерал, завидев обманщика, сразу хватался за саблю.
Получив приглашение вернуться на службу, Булгаков не раздумывал.
– А чего мне дома делать? Гусей на дворе считать да бабские сплетни слушать? Лучше я напоследок жизни еще саблей помашу!
Вскоре ветеран был уже в Тифлисе, где Гудович сразу поставил перед старым соратником задачу – захватить мятежный Баку и наказать убийц своего предшественника.
Вместе с Булгаковым наместник решил послать и своего сына, только что получившего генерал-майорские эполеты.
– Кириллу моему чин генеральский даден не за его, а за мои заслуги, – доверительно сообщил он Булгакову. – Сам же он, по своему разумению, еще в лучшем случае поручик. Так что возьми с собой, обучи и наставь!
– Уж за это можешь быть спокоен, государь-надежа, в самое пекло брошу! – простодушно ответил Булгаков.
При словах таких наместник побледнел, но сдержался.
26 августа Булгаков прибыл в Дербент, где принял начальство над отрядом в три тысячи человек с десятком пушек. Провел смотр – солдаты были бодры и опытны. Удручало одно – отряд почти не имел провианта. Его планировалось доставить морем из Астрахани в Дербент, но помешали различные обстоятельства.
– Я согласен воевать даже без пороха, одними штыками, но без каши никак не повоюешь! – сокрушался Булгаков. – Голодный солдат – не солдат!
При этом Гудович всеми силами торопил Булгакова, опасаясь, что дело взятия Баку задержится до холодов, а то и вовсе сорвется. Что касается провианта, то наместник обещал, что его доставят флотилией прямо к Баку.
– Я не имею оснований не верить графу! – объявил Булгаков штабным. – Посему выступаем в поход на голодный желудок, а там как Бог даст!
Так и шли вдоль моря, довольствуясь половинной порцией. Впрочем, в остальном поход прошел без неожиданностей.
Не доходя до города, Булгаков отправил бакинцам письмо, в котором предупреждал, что «ежели жители не раскаются и не повергнут себя милосердию русского императора, то он потрясет непобедимым войском российским основание их города». В ответ Булгаков получил послание самого Хусейн-Кули-хана, который писал, что горько раскаивался в убийстве Цицианова, прося прощения и помилования.
– Экий фря, – сплюнул Булгаков. – Как ножик в спину наместнику втыкать, так горазд, а как на расправу, так жидок! Повесить бы мерзавца на первой осине! Да осин в здешних краях нет.
Но политика есть политика, и Булгаков обещал хану полное прощение. С ответом отправил он своего сына – подполковника Борисоглебского драгунского полка. Подъезжая к Баку, Булгаков-младший заметил, что люди толпами покидают город, направляясь за реку Куру.
Через переводчика подполковник поинтересовался, что происходит.
– Хусейн-Кули-хан обещал дать бакинцам новое место для поселения. Вот они и бегут, – словоохотливо сообщил ему толмач.
Беспрепятственно въехав в город, Булгаков-младший узнал, что и хан, не дожидаясь ответа, тоже бежал.
– Ну вот, с кем же мне теперь переговоры вести? – сокрушался подполковник.
Расстроенный Булгаков всю ночь вместе с переводчиком ездил по заполненным встревоженными жителями улицам, сиюминутно подвергаясь опасности.
– Я сын командующего русскими войсками, – говорил всем встречным. – Отец прислал меня к вам с единственной целью – объявить полное прощение!
Но бакинцы мало верили словам драгуна, и народ по-прежнему спешил оставить город.
К утру Баку почти опустел. Тогда Булгаков-младший выехал из города вслед за беженцами, не прекращая убеждать их вернуться.
Наконец ему удалось найти нескольких местных старшин и уверить их в том, что русские никого из жителей убивать и грабить не будут.
Только тогда, когда к его увещеваниям наконец присоединились местные беки, жители начали понемногу возвращаться.
– Ну вот, кажется, все же не зря мы сюда съездили! – вытер со лба пот смертельно уставший Булгаков-младший.
* * *
Первой подошла к Баку Каспийская флотилия под командованием капитан-лейтенанта Егора Веселаго. Бакинский рейд морякам был уже знаком как родная деревня. Матросы привычно поглядывали на берег:
– Кажись, с прошлого раза ничего и не поменялось!
– Сейчас мы им тут все поменяем! – усмехнулся Веселаго. – А ну заряжай пушки, да наводи на крепость! Здороваться будем!
Неподалеку от города начали высаживать десант. Солдаты дело свое знали, как-никак высаживались под Баку уже в третий раз!
– Что к себе домой приехали, – говорили меж собой. – Пора бы на сей раз здесь и обосноваться, чего туда-сюда бегать!