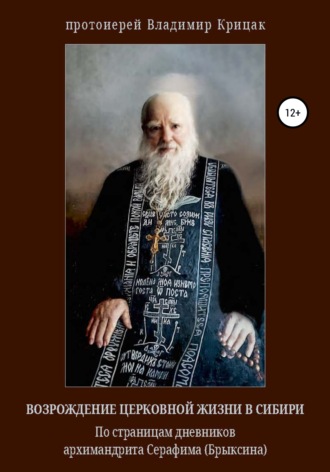
Владимир Николаевич Крицак
Возрождение церковной жизни в Сибири. По страницам дневников архимандрита Серафима (Александра Егоровича Брыксина), в схиме Иринея
Только приехал о. Мисаил в Одессу, звонит из Москвы Даниил Андреевич Остапов, с детских лет бывший келейником у Патриарха Алексия I, и даёт задание: встретить прибывающего из тюрьмы владыку Даниила (Юзвьюка).
Владыка Даниил во время войны управлял белорусскими приходами, находящимися на территориях, оккупированных фашистами. И после освобождения Белоруссии советскими войсками формальной причиной его ареста было то, что он, шантажируемый фашистами расстрелом всех православных священнослужителей Белоруссии, был вынужден официально поздравить с днём рождения Адольфа Гитлера.
В заключении владыка Даниил провел шесть страшных лет. В тюрьме он окончательно подорвал здоровье и ослеп. Нельзя было удержать слёз при виде этого глубокого старца – слепого, с изможденным лицом. Но когда он сказал всего несколько слов, мы поняли, что перед нами богатырь духа. На следующий день – снова звонок из Москвы.
На этот раз предстояло встретить митрополита Нестора (Анисимова). Владыка Нестор провел в заключении восемь лет. В тюрьме он тяжело заболел водянкой, и всё его тело было опухшим. Мы встречали его с носилками. Владыка видел всех нас в первый раз, но всё спрашивал и спрашивал сквозь слезы:
– Деточки, родненькие, вы откуда?
– Я, владыка, только из Средней Азии вернулся, – отвечал я.
– А чей будешь?
– Схиепископа Петра духовный сын.
– Петра Ладыгина?! – воскликнул митрополит.
– Да!
Тут же достал он из тюремной кирзовой сумки крест и, благословляя меня, сказал:
– Отныне и до моей кончины будешь моим духовником.
Долго плакали мы со смешанным чувством горя и радости, вспоминая уже почившего к тому времени высокочтимого владыку Петра. Так я, молодой монах, имея от роду 33 года, стал духовником легендарного российского архипастыря митрополита Нестора (Анисимова).
У святых ворот Одесского Успенского монастыря нас встречала вся братия во главе с архимандритом Назарием – 90-летним старцем, ещё до революции награждённым тремя наперсными крестами. Рядом с отцом Назарием стояли четыре заслуженных архипастыря. Все только что прибывшие из мест заключения.
Это были: уже упомянутый мною архиепископ Даниил (Юзвьюк), митрополит Серафим (Лукьянов, 1879—1959 годы жизни), епископ Феодор Аргентинский (Текучев, 1908—1985 годы жизни), духовный сын владыки Вениамина (Федченкова, 1880—1961 годы жизни), и архиепископ Иоанникий Красноярский (Сперанский, 1885—1969 годы жизни).
Когда мы подошли к святым монастырским воротам, владыка Нестор попросил опустить его на колени. Мы исполнили его просьбу, и он долго плакал, припав к монастырской земле. А затем старые архиереи – все уже седовласые старцы, не видевшиеся друг с другом по 10 и более лет и претерпевшие за эти годы суровые испытания, долго и трогательно обнимались.
За что послал мне Господь такую радость – назначили меня келейником всех пяти архиереев. А в мае в Одессу на патриаршую дачу приехал Святейший Патриарх Алексий I. И опять я, недостойный, был награждён большим утешением. Благословили меня каждое утро ходить к Патриарху, вычитывать молитвенное правило. У Святейшего были больные ноги, и когда я вычитывал правило, он всегда сидел на кровати в простой зелёной рясе, опершись на палочку.
Святейший часто приглашал старцев-архиереев к обеду. Пища всегда была очень простая. Завтрак, как правило, состоял из квашеной капусты с мёдом и ржаного хлеба. Обеды были немногим богаче. А какие беседы велись за этим столом! Я тихо сидел, благоговея от мудрых, исполненных смирения и любви речей этих старцев. При мне бывал здесь архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий (1877—1961 годы жизни), канонизирован в августе 2000 года Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания; память 29 мая (11 июня). Бывал и профессор Владимир Петрович Филатов с супругой Варварой Васильевной, а также профессор Владимир Евгеньевич Шевелев и многие другие истинные рабы Божии.
Но недолгой была наша радость. Вскоре, под Ильин день, всем проживающим в Одесском монастыре архиереям было предложено советскими властями разъехаться по разным дальним обителям.
Владыка Нестор, перед тем как уехать в Балтский Феодосиевский монастырь (монастырь вскоре был закрыт, сейчас возрождается), спросил Патриарха:
– Ваше Святейшество, благословите отца Мисаила (моё монашеское имя) быть моим духовником.
Святейший благословил. Это благословение и позволило мне быть вместе с митрополитом Нестором до последних дней его жизни.
С 30 июля 1956 года архиепископ Борис (Вик, 1906—1965 годы жизни) перевел отца Мисаила в Балтский Феодосиевский монастырь Одесской области. Здесь он был помощником уставщика и келейником епископа Гавриила.
Но вскоре, в 1956 году, владыка Нестор был назначен управляющим Новосибирской и Барнаульской епархией.
В те годы во всей Новосибирской епархии, охватывающей почти всю Восточную Сибирь, оставалось лишь 50 действующих приходов. Владыка, несмотря на слабость своего здоровья, часто выезжал в самые дальние, затерянные в Сибирской тайге приходы. Сибирь очень напоминала ему Камчатку, где он ещё молодым иеромонахом совершал миссионерские подвиги. А когда владыка вспоминал про Камчатку, у него всегда наворачивались на глаза слёзы.
О. Мисаил с 1 сентября 1956 года – по вызову митрополита Нестора – духовник и священнослужитель Вознесенского собора города Новосибирска. С 14 марта 1957 года настоятель Покровской церкви села Чебаки Ширинского района, Красноярского края.
Здесь по представлению митрополита Новосибирского и Барнаульского Нестора (Анисимова) от 25 апреля 1958 года ко дню Святой Пасхи за труды на пользу Святой Церкви, за основание иноческой общины при Свято-Покровском храме села Чебаки о. Мисаил был удостоен высокой награды и за Божественной литургией в неделю Входа Господня во Иерусалим возведён митрополитом Нестором в сан игумена. В 1958 году переведен на настоятельское место в Дмитриевскую церковь города Алейска Алтайского края.
О. Мисаил с 22 сентября 1958 года – в Оренбурге.
С 22 апреля по 15 июня 1959 года – настоятель Казанской Крестовой церкви и сверхштатный священник Никольского кафедрального собора города Оренбурга.
15 июля 1959 года митрополитом Нестором (Анисимовым) назначен настоятелем Крестовой церкви с поручением обслуживать приходы – Никольский с. Калиновки и Михайловский с. Донино-Кашинка Кировоградской епархии.
С 20 января 1961 года – настоятель Крестовой церкви города Кировограда.
В 1962 году митрополитом Нестором (Анисимовым) награждён палицей, на праздник Покрова Божией Матери возведён в сан архимандрита.
После смерти митрополита Нестора (Анисимова) в 1962 году два года о. Мисаил был за штатом в Кировограде.
С 1964 года о. Мисаил переехал в Оренбург, жил на улице Куйбышева, 18 а, был за штатом и пенсионером Московской Патриархии.
24 марта 1970 года Его Святейшество, Патриарх Алексий II (Ридигер, 1929—2008 годы) наградил о. Мисаила юбилейным крестом с украшениями.
О. Мисаил в это время жил в Оренбурге, по улице Красноармейская, 12. Он, по благословению владыки Леонтия (Бондаря, 1913—1999 годы), тайно постригал в монахи и в монахини, особенно матушек, бывших послушниц Успенского женского монастыря.
Мечта о том, чтобы попасть на Афон, не оставляла о. Мисаила.
Когда он гостил на даче у Патриарха Алексия I (Симанского) в Переделкине, Патриарх подал ему надежду:
– Ты знаешь, сейчас ожидается разрешение греческих властей на проезд монахов из России на Афон. Молиться надо, чтобы Господь дал, чтобы афонский русский монастырь к России вернулся.
Поясним, что к тому времени в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне оставалось только восемь столетних старичков.
С 4 января по 13 мая 1971 года о. Мисаил – настоятель Георгиевской церкви села Ярышева Гаврило-Посадского района в Ивановской епархии.
В 1971 году о. Мисаил получил приглашение от грузинского Католикоса-Патриарха Ефрема (Сидамонидзе, 1896—1972 годы жизни) переехать на жительство в Грузию.
О. Мисаил продал дом на ул. Красноармейской в Оренбурге, уже присмотрел дом в грузинском городе Лагодехи, дал задаток. Проездом из Грузии в Оренбург зашёл в патриарший собор в Москве, начиналась всенощная. Службу вел Местоблюститель патриаршего престола митрополит Пимен (Извеков, 1910—1990 годы жизни).
При встрече он сделал о. Мисаилу неожиданное предложение:
– Мисаилушка! Куда ты пропал, куда делся! Мы ищем тебя отправить на Афон, а найти не можем.
– Ваше Святейшество, а я уже в Грузию собрался, дом продал!
– В какую Грузию, никакой Грузии, поедешь на Афон!
– Я с радостью, мне старец Пётр предрек, что я буду на Афоне! Матушка Зосимия предсказывала, что я на Афоне буду.
– Завтра в Патриархию приезжай за оформлением документов.
О. Мисаил оформил и потом целых пять лет ждал визы. Приехал в Оренбург, купил дом на Сызранской, 37а.
С 1971 по 1975 год – опять за штатом в любимом Оренбурге.
Назначили на Афон от Московской Патриархии 29 человек, но комиссию окончательно прошли только девять.
Кроме о. Мисаила, был иеромонах Илья (сегодня это известный схиархимандрит Илий (Ноздрин)) и иеродиакон, остальные послушники.
О. Мисаила назначили благочинным, ризничным, уставщиком и духовником Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Также он выполнял послушания встречать и размещать всех паломников.
С Афона в 1979 году он приезжал в Оренбург на лечение, жил около трёх месяцев. О. Мисаила мучила глаукома, операцию сделал профессор Леонид Феодосьевич Линник, заведующий кафедрой глазных болезней областной больницы.
В 1980 году исполнилось 36 лет его монашества. Его вызвали в Священный Кинот Афона (орган управления всеми афонскими монастырями) и в очень торжественной обстановке поздравили с этой датой. Сказали, что о. Мисаил выдержал много испытаний в безбожной России и потому достоин принятия схимы (с именем Серафим).

Схиархимандрит Серафим (Томин) 1923 —2013 гг.
На Афоне о. Серафим (Томин) тяжело заболел, ему сделали в Афинах неудачную операцию по удалению желчного пузыря. Пришлось вернуться в Россию для лечения.
На пристани, когда корабль его увозил с Афона в Россию и он со слезами прощался с братией и монастырем, к нему подошел греческий старец и сказал:
– Отец Серафим! Не плачь. Твоя болезнь – не к смерти. Божья Матерь умолила Сына Своего, чтобы Господь послал тебе через эту болезнь дивный афонский монастырь в России.
Это пророчество, данное о. Серафиму на Афоне, сбылось, когда в 1996 году возник Свято-Андреевский мужской монастырь в селе Андреевка Саракташского района, действующий и ныне по афонскому уставу.
Вернувшись в Оренбург, о. Серафим (Томин) пролежал девять месяцев в областной больнице, его лечили рентгенотерапией.
Патриарх Пимен (Извеков) благословил о. Серафима (Томина) восстанавливать Свято-Данилов монастырь в Москве в качестве благочинного и духовника. О. Серафим не сдавал греческий паспорт, надеясь ещё когда-нибудь попасть на Афон, из-за этого его не прописывали в Москве.
Патриарх Пимен его уговаривал:
– Что вы делаете? Зачем оставляете паспорт?
– Ваше Святейшество, благословите, я поеду на Афон, – обращался к нему о. Серафим.
– Нет, не поедете, я не благословляю, будете с о. Евлогием (Смирновым) восстанавливать Данилов монастырь.
Данилов монастырь представлял в то время печальное зрелище, здесь находилась детская колония, большинство зданий было в аварийном состоянии.
Три с половиной года о. Серафим (Томин) участвовал в его восстановлении – в 1982—1985 годах, братии было всего человек десять.
По благословению Патриарха Пимена схиархимандрит Серафим участвовал ещё два года в качестве благочинного, духовника в восстановлении Киево-Печерской лавры. В Киеве после чернобыльской катастрофы о. Серафим получил облучение ещё большее, чем при рентгенотерапии. Лечился в Москве, Оренбурге.
В 1990 х годах о. Серафим активно участвовал в восстановлении полутора десятков храмов и приходской жизни в городах – Оренбурге, Орске, Кувандыке; в поселках – Саракташе, Пономаревке, Матвеевке, Кармалке.
За многолетнее подвижническое служение Церкви «во внимание к усердному несению Вами возложенного на Вас послушания» в 2000 году о. Серафим был награжден Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием II (Ридигером) Патриаршим Крестом – высшей наградой Русской Православной Церкви.
Последнее послушание старца – Оренбургский Афон.
В 1996 году Оренбургскую епархию посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Патриарх освящал храм в селе Чёрный Отрог. Вместе с митрополитом Леонтием (Бондарем) Патриарху сослужил и о. Серафим. Святейший был знаком с батюшкой много лет и, узнав, что в Оренбургской епархии нет монастырей, но есть небольшая иноческая община, благословил основать монастырь.
Братия тогда жила в доме о. Серафима на Сызранской улице в Оренбурге. В одной из комнат была домовая церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона – покровителя русского монастыря на Афоне. В годы гонений дом о. Серафима служил прибежищем для многих молодых людей, желающих жития монашеского. Многих батюшка постригал по благословению правящего архиерея.
После встречи со Святейшим схиархимандрит Серафим начал подыскивать удобное место для будущего монастыря. По его мысли, это должен был быть какой-нибудь храм в сельской местности, вдали от городов. Таковой вскоре и нашелся в Саракташском районе, в селе Андреевка. Это место как будто было предназначено Богом для основания монастыря.
В 1901 году губернский секретарь Михаил Чистозвонов построил дивный храм, отличавшийся особым изяществом, как написали в «Епархиальных ведомостях» того времени. Кроме храма, была построена церковно-приходская школа и дом для семьи священника. Все постройки чудом не были разрушены в безбожные годы. В храме было колхозное зернохранилище, бывали и пожары, но в целом, после ремонта крыши и внутренней отделки, церковь была готова к богослужению.
В 1995—1996 годах ремонт здесь производился под руководством протоиерея Николая Стремского, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Саракташа, так что к моменту прибытия первых насельников будущего монастыря ремонт подходил к концу, но не было налажено отопление. Поэтому первое время богослужения совершались в домовой церкви св. апостола Андрея Первозванного, которая заняла часть дома священника, построенного ещё Михаилом Чистозвоновым. Там же жили и первые насельники.
Только в 2000 году был построен новый братский корпус на 15 келий. Отец Серафим по состоянию здоровья не мог жить в монастыре, но регулярно приезжал и оставался на два-три дня. Учил братию монастырскому укладу жизни, правильному церковному пению и чтению, наружному поведению и келейному правилу. Старец во всем был первым – и на клиросе, и в различных трудах. Любил мастерить что-нибудь своими руками для нужд монастыря. Так, например, вместе с братией построил он крыльцо перед входом в братский корпус, сложил русскую печь, в которой и сейчас пекут хлеб. Знал он много различных ремёсел и рукоделий. Хотя здоровье не позволяло ему трудиться, как в молодости, – сказывались немощи телесные, – но дух его был бодр.
В 1998 году Андреевской иноческой общине был присвоен статус монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) благословил обитель иконой св. ап. Андрея Первозванного. Икона эта с частицей мощей святого апостола сейчас находится в соборном храме монастыря. В то время правящим архиереем был митрополит Леонтий (Бондарь). Владыка очень утешался тем, что в его епархии наконец-то есть монастырь. Послужить в обители он уже не успел, но несколько раз приезжал в Андреевку и благословлял монастырскую братию.
Лет за пять до кончины он окончательно ослеп. Это было следствие глаукомы. В это время даже чаще, чем раньше, старец приезжал в монастырь хоть на пару часов пообщаться с братией, послушать акафист в храме, через совместную молитву передать духовный опыт. Батюшка чувствовал, что скоро оставит свой монастырь.
Преставился отец Серафим в своей келье в домике на улице Сызранской 20 января 2013 года. Он завещал похоронить себя в монастыре за алтарем соборного храма Архистратига Божия Михаила, рядом с могилой строителя храма – Михаила Алексеевича Чистозвонова, что и было исполнено.
Новая жизнь
С должности пономаря началась моя жизнь в обществе духовных людей, — напоминает о. Серафим, вспоминая январь 1957 года.
Устроился с о. Мисаилом на квартиру. Сами готовим обед. Я сутки дежурю, а вторые отдыхаю. Но отдыхать мне не хотелось. Надо ведь осваивать, как полагается, свои обязанности. За месяц я почти стал всё понимать, даже и при архиерейской службе приходилось участвовать в качестве посошника, или рипидчика. Одним словом, доволен, послушания несу от о. Мисаила разнообразные, ни в чём не прекословлю.
Однажды за послушание отправили в Среднюю Азию за книгами, иконками и ещё кое за чем (возможно, в город Пржевальск). Со святыми молитвами съездил благополучно, но книги не все привёз, ибо не все отдали.
О. Мисаил поскорбел и даже плакал. Но ничего, вскоре примирился с этим положением. Более трёх месяцев прожил я в Новосибирске.
Чебаки
Вдруг 14 марта 1957 года о. Мисаила назначают на приход в село Чебаки Красноярской области настоятелем. Он, конечно, берёт и меня с собой. Я соглашаюсь.
Перед отъездом туда вижу сон. Как будто я надел монашеский пояс отца Мисаила, но он мне великоват, и я говорю:
– Какой хороший, если бы чуть‑чуть убавить.
Проснувшись, рассказываю о. Мисаилу, а он улыбается и говорит:
– Будешь монахом, даже иеромонахом будешь.
Господи! Что уж говорит? Хоть бы монахом.
И вот назавтра, придя от Владыки, он меня заставляет писать прошение относительно пострига. Я очень был рад. Да ведь это моя почти с юных лет мечта.

Село Чебаки. Начало XX века
Помню ещё утешительный сон, предсказывающий мне путь к монашеству.
Я уже выше говорил о поступлении в семинарию, а ещё ранее думал о «золотом пути». Но так как не нашлось верующего человека, решил твёрдо и бесповоротно встать на узкий и тернистый путь иноческого жития.
И вот я стою теперь на перепутье трёх дорог. У себя стою в храме перед панихидным столом, на котором лежат три нательных крестика, и не простые, а вроде золотые. У меня так возгорело желание взять крайний крестик, а батюшка пошёл совершать каждение.
Только он скрылся за народом, как я сразу – цап тот крестик. Но не успел его ухватить, только прикрыл ладонью, как батюшка оказался за моею спиною. Я, конечно, испугался и оттолкнул от себя крест.
И только он скрылся с кадилом в алтарь, как я схватил средний крест, который был красивше первого. И уж тут я проснулся. Думаю, что и есть теперь тот крест моим уделом.
Слава Богу, так оно и получилось.
Владыка Нестор поехал в Москву с отчётом. Попутно будет представлять моё прошение перед Святейшим.
Далёкая деревня
Чебаки – деревня в Ширинском районе Хакасии Российской Федерации. Находится в 80 км на северо-запад от райцентра – села Шира и железнодорожной станции на берегу реки Чёрный Июс. Иногда село ещё называли Покровским, так как здесь был построен Покровский храм. В своё время был богатейшим приходом епархии. Сохранилась дореволюционная история храма. Службы шли ещё до 1928 года. В 1929 году 180 человек проголосовали за сохранение храма. Поэтому после войны он возродился, но вскоре его закроют и снесут.
Постриг с именем Питирим
Мы же с о. Мисаилом служим уже в Чебаках, он священник, я – пономарь.
В один из воскресных дней приходит о. Мисаил в церковь служить, а я, как обычно, должен быть раньше. Приходит он и сразу говорит мне:
– Делай три земных поклона.
Я хоть и растерялся, но сделал. Он говорит:
– Радуйся, есть от Святейшего благословение тебя постричь.
Отслужив Пасху, мы с о. Мисаилом поехали в Новосибирск. Владыка нас принял как своих, у него мы и питались, и ночевали.
Келейник Владыки уже пострижен, имя его Сергий (Горошенко), в честь преподобного Сергия, игумена Троице-Сергиевой Лавры.
Теперь очередь за мной. А какое же мне дадут имя? Господи! Скоро я буду монахом. Жду не дождусь, в какой же день будет назначено пострижение? Жду с каким‑то трепетом, страхом и радостью. Мысли – одна за одной. Неужели Господь сподобит? Ведь это же новое рождение. Прощаются все содеянные грехи от рождения. Такая милость. Такая неизреченная радость – родиться вновь, быть безгрешным. Даже на минуту или на секунду быть святым. Святые не имели греха в своем совершенстве, так и я в этот таинственный момент безгрешен.
Жду долгожданный день. Жду терпеливо, прошу Бога удостоить этой радости. И вот наконец‑то настал радостный, долгожданный день моего пострижения в рясофор.

17/30 апреля 1957 года пострижен в иноки с именем Питирим, в честь св. Питирима, епископа Тамбовского чудотворца. А за Божественной Литургией в воскресный день (Неделя Святых Жен-Мироносиц 22 апреля – 5 мая 1957 года) в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска пострижен в стихарь и посвящен в иподиакона митрополитом Нестором. Он же и постригал.
Какая радость! Я словно ангелом стал. Сам себя не чувствую, а утром в клобуке иду в алтарь, батюшки поздравляют и тоже разделяют со мной радость. А в общем, Бог их знает, рады ли они, но мне кажется – все рады.
Пожили ещё несколько деньков, ходили в фотографию целой группой: Владыка Нестор в парадной форме, то есть со всеми наградами. А ими у него вся грудь увешана. О. Мисаил, о. Сергий, я и послушник Анатолий. Получилось исключительно. Какой же всё‑таки Владыка добрый. Он нас проводил с отеческой любовью, а меня всё звал Питиримушка.
Вернулись в Чебаки. Наши все поздравляют, называют отцом Питиримом, – описывает о. Серафим радость новоиспеченного монаха после пострига, то есть свою юношескую радость.
Но мне как‑то неловко, даже стыдно, когда старшие по возрасту называют меня отцом. Но ничего, со временем привык к этому. Итак, я инок, отпускаю бородку, интересно даже самому на себя смотреть. Быстрей бы уж волосы выросли, а то поклоны нельзя делать, сильно уж мешают. И не подберешь их, и не завяжешь. Хожу по деревне в подряснике и в церковь, и на работу. Хорошо было, другой заботы никакой. Лишь послушание да молитва.
Ездил в Красноярск и там расхаживал по городу. Заходил к схимонахине Иннокентии, она Тихоновского течения, а какая же молитвенница.
Увидев меня, сказала:
– Ох! А какое же у тебя платье долгое! Ну-ну, помоги тебе Господи.
Великой жизни она была. Спустя ещё несколько лет мне пришлось кое‑что слышать о ней от её послушницы (затем монахини Сергии). Запишу хоть один случай для памяти.
– В одну из ночей, – рассказывает м. Сергия, – я проснулась и вижу: моя матушка молится. Я потихоньку одним глазом подглядываю. Словом, любопытствую. Вот она закончила молиться. Потушила свечу и почти вплотную подошла к иконам. И стояла неподвижно долгое время.
Вдруг я смотрю: что же это матушка такая высокая? И когда посмотрела на её ноги, то она стояла не на полу, а находилась в воздухе. Я испугалась и начала потихоньку её крестить. Думаю, это вражонок мне так показывает. Нет, ведь вражонок сразу бы исчез.
Потом немного погодя, она уже стояла на полу и заканчивала своё правило. На утро рассказала ей о виденном. Она строго наказала:
– Пока я жива, никому не рассказывай.


