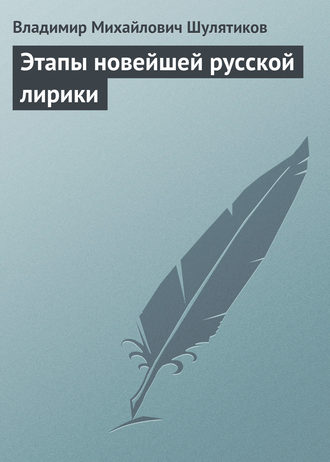
Владимир Михайлович Шулятиков
Этапы новейшей русской лирики
V
Наконец, необходимо упомянуть еще об одном поэтическом приеме, порожденном теми же «опростительными» тенденциями.
Если лирика 60-х 70-х годов была лирикою реалистическою, если поэты 60-х – 70-х годов своими образами преследовали цели выпуклого, передававшего действительность изображения, то «новая» лирика стремится сократить изображение реального до возможного минимума. И для того она пользуется различными вуалями, описывает предметы окутанными дымкой, сумерками, тьмой или отстоящими на далеком расстоянии или же видимыми сквозь призму чего-нибудь полупрозрачного.
«А там, в отдалении, мелькало огнями село сквозь прозрачную зелень садов»… («Мы выплыли в полосу лунного света»…)
«Чуть пробивается блестками день сквозь кружевные покровы ветвей»… («В узком овраге прохлада и тень»…)
«Отрадно сквозь туман звезды видеть рожденье и отблеск мирных ламп за окнами домов… И мягкий лунный свет на дымке облаков; отрадно наблюдать немую жизнь природы и в ночи зимние, портьеры опустя… В чаду нарядных грез забыться, как дитя».
«Спит глухой городок: не звучат голоса, не вздымается пыль под копытами; неподвижно и ярко реки полоса, извиваясь, сквозит за ракитами» («В глуши»).
«Там и море будет видно; чуть доска твоя коснется, а оно тебе сквозь зелень в блеске солнца засмеется» («Жалко стройных кипарисов»…).
Описывается шествие толпы. Но ни толпы, ни пути, по которому она идет, читающий описания собственно не видит перед собою. Все покрыто глубокой тьмой. Намечаются лишь редкие, беглые, выхваченные из тьмы абрисы. «Ночь омрачили тучи» (Мне снилось, что иду куда-то я о толпой»). «…Наш узкий путь навис над бездною глухой… Мерцают факелы, то выхватив из мглы суровое лицо со сжатыми бровями, то мшистый перелом нахмуренной скалы, то ель, склоненную над пропастью ветвями»…
Или уже цитированное выше описание храма из стиха «Из тьмы времен»: «Пред ним (Геростратом) – старинный храм; холодный луч луны, скользя по мрамору, из мрака вырывает лепной узор колонн и выступы стены». Опять незначительная pars pro toto, часть вместо целого.
В наши дни подобного рода описания являются самым характерным достоянием модернистской литературы. К ним сводятся, в сущности, результаты многошумной художественной «революции», произведенной «молодыми» поэтами и беллетристами. Но родословная их восходит еще к надсоновским временам. Пусть они у Надсона не так ярки и определенны, как в новейшей лирике, но «новое слово» в данном направлении было произнесено, несомненно, Надсоном.
И не только это новое слово. А, как мы видели, ряд новых слов.
В последнее время, – особенно среди «молодых» – установилось пренебрежительное отношение к нему; его поэзию объявили чем-то архаичным, бесповоротно-пережитым. Нелепейшая оценка. Не что иное, как элементы «новизны» способствовали некогда громадному успеху его, успеху среди ново слагавшегося, переживавшего свои юношеские годы буржуазного общества. Идеологию этого общества он передал в необыкновенно выразительных тонах. Последующие поэты занимались лишь дальнейшей разработкой тех же идеологических тем. И не отворачиваться от него, не петь отходную его поэзии должны «молодые», а признать его своим предтечей, с почетом включить его в свою семью.
Наметивши на примере поэзии Надсона главнейшие мотивы, выдвинутые литературным ренессансом 80-х годов, мы остановимся теперь на характеристике отдельных из них, характеристике их оттенков и их развития.
Перед нами произведения А. Н. Апухтина, – поэта, далеко не обладавшего талантом Надсона и далеко не отразившего своей лирикой полноты «новых» мотивов. Тем не менее, это – крайне типичная фигура на фоне вышеназванного ренессанса. Группа мотивов, говорящих о томлениях «квалифицированной» буржуазии, «аристократов духа», выявлена им с достаточной рельефностью[31].
Апухтин находится в оппозиции к современной ему жизни. И находится в оппозиции не потому, что является представителем экономически-обездоленных социальных низов, а из тех оснований, с которыми мы уже встретились при анализе надсоновской лирики: его тяготят монотонность и однообразие окружающей среды. Жизнь для него – «бесцветное, пустое повторение» одного и того же («На новый, 1881 год»). Жизнь – это царство посредственности, вседневной суеты, пошлости, бессмысленности.
«Ваш мир унынием н завистью томим, – заявляет поэту король сказочного замка счастья («Сон»), – вы притупили ум в бессмысленной работе… погрязли вы в расчете, и, сами не живя, гнетете жизнь другим! Вы сухи, холодны, как Севера морозы, вы не умеете без горечи любить»… Жизнь – это «пустыня» («Музе»), она тянется, «как постылая сказка» («Снова один я…»). «Ни мощный ум, ни сердца жар, ни гений не созданы надолго для земли, и только то живет без горьких опасений, что пресмыкается в пыли!» («В. М.-му».)
Последняя цитата указывает на то, во имя чего поэт не мирится с жизнью и в чем для него сокрыта ценность жизни. «Мощный ум», «гений», с одной стороны, толпа посредственностей и ничтожностей, с другой стороны, – такова «высшая» антитеза в недрах человеческого общества, какая доступна представлению поэта. Соотношение между двумя названными категориями и определяет его оценку текущего момента.
Оценка получается пессимистическая, ибо представителям «квалификации» приходится вести слишком напряженную борьбу со своими антагонистами.
Интенсивность этой борьбы, вместе с тем, диктует Апухтину своеобразную «формулу прогресса». Он разрабатывает понятие о таком ускоренном темпе «поступательного» движения, о таком лихорадочном совершенствовании средств и способов борьбы за жизнь «квалифицированных верхов», какие только могут быть мыслимы.
Всякая остановка в движении и совершенствовании, – учат идеологи новейшей буржуазии, – есть могила. Абсолютное, абстрактное развитие выставляется последними (и в том числе Надсоном) как верховный идеал. Возможны различные оттенки подобного идеала; возможно установление различных максимальных и минимальных скоростей по пути достижения требуемых результатов. Раз обладатели «квалификации» поставлены в особо неблагоприятные условия, раз они могут одерживать победы лишь ценою величайших усилий, и притом победы незначительные и редкие, то их идеологические системы будут нам говорить в минорном тоне о громаднейшей ценности момент побед, будут создавать культ отдельных мгновений по сравнению с которыми сама вечность – ничто. Не достигаемое, а миг, в который достигается желаемое, – окажется тогда выдвинутым на первый план.
О таком именно разрешении проблемы повествует апухтинская лирика.
Как пловец утомленный, без веры, без сил,
Я о береге жадно мечтал и молил,
Но мне берег несносен, тяжел мне покой,
Словно полог свинцовый висит надо мной… и т. д.
Не берег, а бесконечный процесс плавания, не тихая, ясная погода, а буря и редкие моменты «приветливого говора волн», не солнце, а луч солнца, – программа поэта начертана здесь с большей определенностью. И он остается ей неизменно верным. Все наиболее характерные его стихотворения лишь вариации на данную тему.
Счастье! – недостижимо. Его олицетворяет поэт в образе короля волшебного замка. Он говорит поэту («Сон»): «Поэт, я счастье! Меня во всей вселенной теперь уж не найти… Гордиться можешь ты перед толпой надменной, что удалось тебе в мой замок сокровенный хоть раз один войти и сердцем отдохнуть». Но это было только во сне. Если же подает король совет, «над землей, случайно пролетал, тебе я брошу миг блаженства и любви; – лови его, лови: люби не размышляя! Смотри: вот гаснет день, за рощей утопая… Недолго этот миг – лови его, лови!…» Проповедуется философия «carpe diem»[32].
Поэт описывает муки переживаемой любви. И любовные желания его – аналогичны мечте о «чуть слышном приветливом говоре волн». «Одиночеством, усталостью томимый («Как бедный пилигрим»…), безумно жажду я любви недостижимой»… Но безумная жажда любви сводится почти к ее отрицанию. Гора рождает мышь. «Не нужны мне, – восклицает Апухтин, – страстей мятежные огни, ни ночи бурные, ни пламенные дни… Ни речи страстные, ни долгие лобзанья»… «Ему только бы «луч любви!..» «Я жду, зову его». И если он блеснет, если его возлюбленная подарит его «в пожатии руки, в немом сияньи взора, в небрежном ленете пустого разговора», тогда поэт будет на верху блаженства. «О, как я этот миг душою полюблю, о, какою радостью судьбу благославлю». И за этот миг пусть потом вся жизнь будет сплошным мученьем. Пусть она «в бессилии угрюмом терзает и томит меня нестройным шумом!»
Осень. Отцветают астры. Поэт слышит, как склонившиеся над ним листья шепчут грустную повесть. «Давно ли мы цвели под знойным блеском лета, и вот уж осень нам грозит, немного дней тепла и света судьба гнетущая сулит». Но это для них ничего не значит. Они теперь переживают самый счастливый миг, миг, «догорающего дня». «Ну что ж! Пускай холодными руками зима охватит скоро нас, – мы счастливы теперь: под этими лучами нам жизнь милей в прощальный час». Листья впадают в пафос «мига». «Смотри, как золотом облит наш парк печальный, как радостно цветы последний раз блестят! Смотри, как пышно-погребально горит над рощами закат!» Вернется весна, проснется природа, обновятся деревья зеленью. Но, «если к жизни вернутся липы наши, не мы увидим их возврат, и вместо нас, быть может, лучше, краше другие листья заблестят». Пусть будет так, но это не отнимает у листьев их истинного счастья. И они повторяют: «пускай холодными руками зима охватит скоро нас, – мы счастливы теперь под бледными лучами, нам жизнь милей в прощальный час». Будем ловить момент. Carpamus diem. «Помедли, смерть! Еще б хоть день отрады!..»
Но развитие культа мига на этом все же не останавливается. Есть еще иной, крайний предел его. Если (победа в; борьбе за существование приобретается «мигами» и «моментами», если «миги» и «моменты» оказываются ценнее годов и целой жизни, лучи счастья ценнее самого счастья, то наиболее совершенным идеалом для обладателей «квалификации» должна явиться такая ситуация, при которой будет достигнут максимум подобных мигов, моментов, «лучей», при которой получится наиболее радикальное отрицание всего «ничтожного» и «посредственного», при которой жизнь представит собой сплошное чередование «мигов», сплошные «последние моменты», сплошную «радостную гибель». Другими словами, от культа радостной гибели один шаг до проповеди нирваны.







