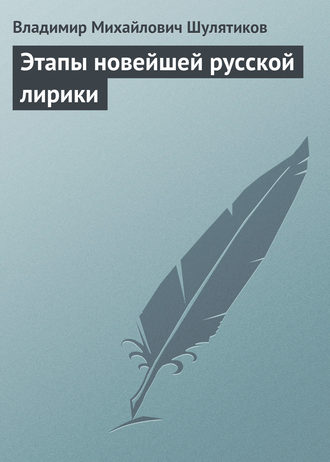
Владимир Михайлович Шулятиков
Этапы новейшей русской лирики
Первоучители ревизионистского направления знали «великое», «нечеловечески-великое» «Прометеево страдание». Их потомок творит в себе нового кумира, «Воспоминание» у Бунина, действительно, возводится на степень какого-то божества. Загляните в поэму «Листопад», там вы познакомитесь с «Воспоминанием», имя которого нельзя писать иначе, как с большой буквы! Из всего существующего и возможного на земле воспоминание оказывается наделенным наибольшей продолжительностью и устойчивостью. Мало того, реальные явления приобретают, – как мы видели, – свою максимальную реальность в глазах поэта именно благодаря животворящей силе его божества. «Печаль воспоминаний» («Курган») способна даже дарить бессмертие. Но вместе с тем оно – одна из самых абстрактных форм «страдальческого» начала, какие только известны лирическому ревизионизму: в качестве таковой оно сохраняет от реальных явлений минимум их реальности, а иногда сводит последнюю на нет.
Далекое, мирное счастье!
Не знаю, кого я любил,
Чей образ, и нежный и милый,
Так долго я в сердце хранил.
Но сердце грустит и доныне,
И помню тебя я, как сон, —
И близкой и странно далекой,
Как в светлой реке небосклон.
(«На Днепре»)
Объект грусти стушевался, потерял всякий реальный облик, уплыл в бесконечную даль, но грусть осталась, осталась почти как вещь an und für sich. Но предел удаления от образности и реальности здесь все-таки не достигнут. Возможность его достижения поэту известна.
Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.
А будут дни – угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уж ни счастья, ни страданья.
А только всепрощающая даль.
(«Спокойный взор»)
Но здесь уже мы приближаемся к «нирваническому» разрешению проблемы. Процесс абстрагирования, процесс последовательного уничтожения реальности завершается в перспективе, нарисованной поэтом, актом отрицания противоположностей: ни счастья, ни страдания. Как и подобает позднему представителю учения о «великом страдании», Бунин имеет дело с противоположностями, вполне «уравненными», приобретшими совершенно одинаковую ценность. «Не надо думать в радости и горе! Люби и грусть и радость, песни жизни». «Печаль и радость равно прекрасны в вечной жажде – жить» («Из дневника»). Именно как таковые они вступают у него во всевозможные сочетания. И представление о них как о таковых ведет к представлению о наиболее тесном сочетании их, при котором грани между ними окончательно стираются, при котором они достигают полнейшего слияния, и их сосуществование превращается в существование безразличного нечто, «всепрощающей дали», или, по нирванистической терминологии, – «ничто».
Мы не будем здесь повторять сказанного нами по поводу как процесса уравнивания противоположных начал, так и нирванических настроений. И для характеристики бунинского «нирванизма» ограничимся несколькими словами.
Укажем, что проявляемые иногда нашим поэтом буддийские тенденции, или, точнее, некоторая склонность к ним, носят на себе несомненную печать «страдальческого» происхождения. Погружение в нирвану, отказ от радостей и страданий – для него не что иное как подвиг страданья. Вспомните диалог падающих осенних листьев и ветра. Листья жаждут нирваны. Ветер отвечает, что нирвану нужно купить ценою великих мук. «Великое страдание» здесь названо своим именем. «Достигайте в несчастье радости мук беспредельных. Приготовьтесь к великому мукой великих потерь»[39]. В том же стихотворении автор дает понять, что стремления к нирваническому «небытию» он отнюдь не рассматривает как бегство от страданий: листья заявляют о своей готовности бороться; они отрицательно относятся лишь к бессильным, бесполезным, нудным страданиям, на которые обречены в данный момент. «Страдальческий» колорит буддийских симпатий Бунина удостоверяется и следующим примером. Поэт предается нирваническим размышлениям у панорамы морских заливов:
Млечный путь над заливами смутно белеет,
Точно саван ночной, точно бледный просвет,
В бездну Вечных Ночей, в запредельное небо,
Где ни скорби, ни радости нет.
И осенние звезды, угрюмо мерцая,
Безнадежным мерцанием тусклых лучей,
Говорят об иной – о предвечной печали
Запредельных Ночей.
(«Звезды ночи осенней, холодные звезды…»)
Состояние по ту сторону печали и радости характеризуется как состояние печали. Земной, будничной печали противополагается страдание высшего типа. Роль нирваны, как простой антитезы возвышенного, змеиного, героического – обыденному, конкретного – абстрактному, намечается здесь с достаточной определенностью. Ad astra![40] От презренной земли к звездным высотам! От понятия, уже завуалировавшего первоначальное положительное содержание, к понятию, набрасывающему еще более густое покрывало, – таков неизменный путь буддийских экскурсий «страдальчески» настроенных лириков.
«Не устанем воспевать вас, звезды!» («Звезды».) Но устанем воспевать вас, запредельные, предвечные тайны! Бунин сообщает, что единственными поверенными его горестен и радостей, в дни его детства и юности, являлись звезды. «В молодые годы только с вами я делил надежды и печали». Теперь, когда юность миновала, он старается найти среди них образы прошлого. «Вспоминая первые признанья, я ищу меж вами образ милый». Пройдут дни, – поэта с его горестями и радостями не станет. «И мечта, быть может, воплотится, что земным надеждам и печалям суждено с небесной тайной слиться!..» Возвышенные, «нирванические» размышления опять указывают на «страдальческую» подоплеку запредельного идеала. Страдание не переходит в абсолютный покой, абсолютное небытие: оно лишь сливается с великим запредельным «нечто» и таким образом канонизируется.
При этом необходимо отметить интересную подробность.
Переход от низменного к возвышенному, от не канонизированного к канонизированному страданию у Бунина менее резок, чем у поэтов старшего поколения. Пусть поэт иногда употребляет героические выражения, пусть говорит он иногда о «муках беспредельных» – это опять-таки пафос, взятый напрокат, опять-таки заимствования из архивов прошлого. Героического во всей поэзии Бунина нет ничего. Его «запредельная печаль» есть лишь несколько более абстрагированная «будничная» печаль (заметьте: речь идет именно о слиянии с «небесной тайной», а сливаться могут только близкие друг к другу, родственные элементы).
До более красочного представления о «нирване» поэт и не мог подняться… ибо объект, от которого отправлялся он по пути абстрагирования, не давал для того подходящего материала. Бунинская грусть и печаль, как мы указывали вначале, – слишком бедны и серы. Они бледнее «тоски» Минского. У последнего, как-никак, мы еще находим некоторый отзвук «гражданской» скорби хотя бы в виде прорывающегося временами протеста против пошлости как источника страданий. В поэзии Бунина нет и этого. В его поэтическом мировоззрении пошлость скрылась; всюду царит беспричинная, ничем не вызванная печаль. И если иногда поэт заявляет о своей склонности бежать от этой печали, им руководит при этом единственно такой мотива он находит их, как и радости, слишком мгновенными. «Вижу я курганы в тихом поле… Много лет стоят они, и нет дела им до нашей бедной доли, до мгновенных радостей и бед» («На распутье»). «Жизнь не замедляет свой вольный бег, – она зовет вперед, она поет, как ветер, лишь о вечном!.. Никто не знает, к чему все наши радости и скорби, когда нас ждет забвенье и ничто»… («Из дневника».)
Жизнь не замедляет вольного бега… Быстро, быстро развертывается социально-экономическая борьба. Быстро, быстро приходится «квалифицированным верхам» изобретать новые приспособления к меняющимся условиям жизни. Их идеология улавливает этот процесс. Вес громче и выразительней начинает она говорить о мгновениях, минутах я мигах. Все абстрактнее становится содержание, которым она заполняет эти мгновения, минуты и миги.
Здесь мы поставим точку.
Путь дальнейших поступательных флангов русской лирики мы охарактеризуем в рамках другой статьи. Там же придется ближе остановиться на вопросе о «примитивистских», «опростительных», «энергетических» мотивах. Последних мы коснулись только при оценке поэзии Надсона. Несомненно, они типичны и для всей рассмотренной нами группы лириков. Но анализом их мы не занялись потому, что, во-первых, этого не позволили размеры настоящего очерка, а во-вторых, сделать это удобнее в связи с характеристикой наиболее ярких форм «примитивизма» и «энергетизма», составляющих суть последних криков новой поэзии, суть модернистских, символических, декадентских авантюр истекшего десятилетия.
Для поэтов, дефилировавших перед читателями, гораздо более важную роль играли «страдальческие» мотивы. В развитии означенных мотивов, в последовательных метаморфозах «великого страдания» заключается история движения лирики за длинный период времени, начиная с восьмидесятых годов. История эта, как мы доказывали, есть история поучительной, постепенно совершившейся социальной дифференцировки, идеологическая иллюстрация процесса сложения буржуазного общества, укрепления его на завоевываемых позициях.
Лишь в наши дни экономические явления, служащие подоплекой поэтического ренессанса, наметились с рельефностью, которая позволяет оценить по достоинству их историческую роль. Предыдущие десятилетия были эпохой, когда, в соответствии о подготовительным характером «материальных» процессов, неясными, малопонятными, казались идеологические отражения. Но теперь, бросая ретроспективный взгляд на прошлое, мы должны точно и определенно установить линию идеологической «эволюции», вскрыть истинный смысл кампании во имя «квалификации» – кампании, предпринятой с замечательным упорством и последовательностью, осуществляемой известными общественными слоями. И в качестве видных участников этой кампании, в качестве пионеров нового курса буржуазного мышления – лирики, о которых была речь, приобретают для нас новый интерес.







