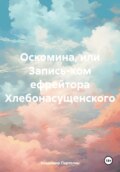Владимир Иванович Партолин
Сашок
– Дай юлу.
– Держи, – подал с пола дядька игрушку. – Про чёрный парашют без парашютиста забудь, засмеют.
И ты забыл. Но знаешь, сегодня достоверно известно, что в 30-40-вые годы Германия проводила интенсивные работы по созданию дискообразных летательных аппаратов с нетрадиционным способом создания подъёмной силы. Неспроста, должно быть, после войны в 50-тые годы юла была самой популярной игрушкой. Первые образцы делали штампованными из металла и раскрашенными красной или жёлтой по стыку двух половинок каймой – будто здесь огнями светится. А появились позже пластмассовые, те уже с явными фонарями и прожекторами делали, даже продавались с лампочками горевшими от батарейки.
Два лета подряд ты не гостил у бабушки в Голубицах. Одно проболел желтухой, другим – в солдатском полевом лагере пробыл. А осенью 52-го года собирались к отъезду: отца твоего служить перевели в Дальневосточный округ. Попрощаться пришла бабушка, из города приехала тётя Лида с дочкой Натахой. Сашок из Голубиц не явился, дома не жил, пропадал где-то. Пригласили соседей по квартире, молоденьких лейтенанта и жену его. Совсем ещё девчонка, та не отпускала от себя близняшек, твоих сестёр. За столом бабушка рассказала, как разнесли руины молокозавода.
– Солдатики-сапёры борковские прибыли, учёные из Ленинграда наехали. Всё излазили. Объявили, мин и… этих… как их… всё забываю. А, а-но-малий. Аномалий нет. Вось як. И пачалось. В два дня бы растащили, да кладка – ломом и с трёх замахов не сколешь. Нахимов и дед Лухмей прикатили дубовый чурбан с наковальней, хотели бетона из фундамента накрошить, да где там. А предупреждала, – повернулась бабушка к молодожёнам, – пупка ня надрываць, знаю ту крепость, опалубницей прапрацавала на той стройке, яшчэ да вайны. Немцы строили. Надзейна, як сабе.
Сашка ругала:
– Ни кирпичика не взял. Сама наносила погреб в сенцах обложить, так обменял в Белом на вагонку. Дошка згние, а цэгла з Германии завезены, вечны… Цегла – кирпич. У меня в бригаде доярки все блокадницы, нахваталась у них, теперь вот мешаю белорусские слова с русскими.
Спустя четыре года Натаха под диктовку бабушки написала: «А тебе, Васятка, детка, внучок мой любимый, дядька твой Саша привет передаёт. Говорит, «пламенный». Вырос он, Нахимова вот-вот перегонит, а я ему теперь и вовсе по плечо только. Спрашивает, когда приедешь погостить». Дочери жаловалась: «Ох, Олюшка, Саша от рук отбился. Школу пропускает, ни с кем кроме Володьки не водится. С мелиораторами дружбу завели, шляются у них днями и ночами в Заболотье, где те на постое. Боюсь, пить научат. В Голубицах их Нахимов отваживает, а там некому. Председательшу Авдотью не слушают, в сенокос и в копку бульбы пропадают из Голубиц. Тётке Лиде грубит. Наташеньку, она с отличием шестой класс закончила, забижает: в кино сходить в Белое с собой не берёт».
В 57-мом году Наташа в письме сообщала: «Несчастье у нас. Сашок с Вованом не заявились к ночи по домам. Ни кого не забеспокоило – привыкли, неделями ведь пропадали. Но я знала, где они и что случилось. Вован Саше и мне показал на молокозаводе расщелину между бетонными плитами – ход там под землю – в которую он, один без нас, лазил. Попробовал и Сашок, но застрял, ни туда, ни сюда. Я сбегала за подмогой. Нахимов с дедом Лухмеем попытались было ту щель распереть чурбаном, так раскололся надвое, наковальня сорвалась и зашибла деда. Ховали его, друзья сбежали из Голубиц, пропадали всё лето. А на сорок дней по деду Лухмею приехал из Белого участковый милиционер Короткевич и сообщил, что беглецы нашлись. Жили в бору, в лесной заимке, далеко за Заболотьем. В той самой заимке, где до революции обитал лесник Прохор, а в двадцатых и тридцатых до войны за лесом смотрел лесничий Прохор-младший – супруг бабушкин, ваш, тётя Оля, и Сашка отец. Позавчера Саша вышел на каналы к мелиораторам, нёс на себе Володю. Обоих порвала рысь. Сашу в борковской полковой медсанчасти выходили, Володю не спасли».