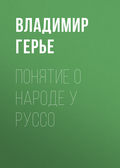Владимир Герье
Призвание России на Востоке
В другом месте автор оговаривается, что опасается двух вещей: он очень не желал бы, чтобы его русские приятели подумали, что он дозволяет себе какую либо критику в русских делах; он совершенно далек от этого по характеру и цели своего сочинения; он выражает также опасения, что его немецкие читатели недостаточно интересуются армянскими делами и по этому поводу восклицает: «здесь идет речь о деле, которое касается нашей чести как нации. Как значительная часть нашей „образованной“ публики отделалась (abgethan hat) от армянских дел или, вернее, дозволила отделать их известной, не подлежащей оценке, печати, поистине позорно».
Автор, впрочем, не касается вновь этих ужасов; лишь случайно и как бы издали они дают себя чувствовать его читателям; когда он, наприм., рассказывает о своем слуге из Трапезунта, который несколько месяцев пред тем был зрителем того, как турки избили всех его родственников, лишь случайно не заметив его; или когда автор описывает, как ежедневно толпы несчастных беглецов наполняли монастырские дворы в Эчмиадзине и сидели пред дверью патриарха, в ожидании маленького пособия, получаемого ими до отправления их в какую-нибудь из армянских деревень, где крестьяне безропотно брали не себя тяжелое бремя давать им пропитание.
Интересны разговоры, которые имел автор с русскими армянами по поводу истребления их единоплеменников в Турции; он постоянно встречал с их стороны глубокое, горестное изумление, выражавшееся в вопросе: «как это допустили по отношению к христианам? Если бы мы еще были язычниками, но ведь мы тоже христиане!»
Автор справедливо обращает внимание на то, что это чувство солидарности с христианами у армян поддерживается сильным влиянием на армян церкви. Напрасно он старался объяснять им своеобразное и затруднительное положение европейских великих держав в армянском деле; «для рассуждений об иностранной политике, – говорил автор, – я нашел у армян очень мало способности и весьма мало склонности; глубокое, разъедающее сердце отчаяние составляло господствующее повсюду настроение, когда заходила речь об этом предмете – и в заключение всегда слышалась жалоба, а христианская Европа взирает спокойно, с ледяным равнодушием на резню христианского народа! Когда ребенок истязуется взрослым, когда большая собака грызет маленькую, всякого проходящего берет зло и он вмешивается, – а мы для вас только зрелище. Бог вам судья».
Сострадание к армянам не сделало Рорбаха безусловным их апологетом: описывая свое пребывание в Тифлисе, он останавливается долго, можно даже сказать слишком долго, на нареканиях, которые ему приходилось слышать по отношению к армянам и на агитации против них в местной печати, нередко прибегающей даже к знаменитому «videant consules», т. е. призыву против них властей.
Рассматривая причины неудовольствия против армян на Кавказе, Рорбах приходит к заключению, что они коренятся исключительно в экономической почве; вызываются же они отчасти коммерческими приемами, которые свойственны далеко не одним армянам, а издавна присущи торговым обычаям Востока. Наш автор считает не полезным отрицать это зло или выставлять его пустячным делом (harmlose Sache). «Напротив, говорит он, мое твердое убеждение, что в армянском народе ядро здоровое, началось с моих наблюдений, что те из армян, которые усвоили себе европейское образование, ясно понимали недуг, захвативший часть их народа, и глубоко о нем сожалели».
Но их соседей вооружает против армян не то, что у них сходного; «причина этого очень простая: армяне в духовном отношении стоят много выше народов, среди которых живут, и потому легко побеждают их в конкуренции. He следует, однако, думать, что умственная сила обнаруживается у армян лишь в практических делах. Я полагаю, что мало на свете народов, обладающих таким уважением к знанию таким и стремлением к основательному учению, как армяне. Уже для ребятишек их школа нисколько не представляется страшилищем, но пользуется, в городском классе, как и в деревне, как у взрослых, так и у детей почтением и уважением наравне с церковью. Сделать что-нибудь для школы считается религиозной заслугой; лениться или баловаться в школе, так наставляют маленьких армян, то-же самое, что вести себя неприлично в церкви».
He одними такими рассуждениями старается Рорбах внушить своим соотечественникам более верное представление об армянах; он еще лучше достигает этой цели тем, что знакомит читателя с настоящим ядром армянского народа – с крестьянами, возделывающими землю и виноградники в долине Аракса и на предгориях Арарата и Арагаца.
В историческом очерке жизни армянского народа Рорбах показывает, как в течение многих веков армяне бывали принуждаемы обстоятельствами покидать родину и выселяться на чужбину: то их к этому побуждало вторжение диких завоевателей и разорение их городов; так, по разорении города Ани сотни беглецов нашли убежище на генуэзских кораблях, которые их перевезли в Крым, откуда они перебрались частью в Астрахань, частью в Галицию; то постоянный, невыносимый гнет турецких властей заставлял многих по одиночке уходить из родной деревни. «На чужбине армянин становился рабочим, ремесленником, промышленником, торговцем, банкиром, спекулянтом, крупным помещиком, но никогда он не становился тем, чем был дома, – крестьянином. Армянский народ – настоящий крестьянский народ – ein echtes rechtes Bauernvolk, живущий своим полем, стадом, виноградником, – не городской, а сельский народ. Сколько-нибудь значительных городов с исключительным или хотя бы преобладающим армянским населением весьма немного; во всей, наприм., русской Армении можно назвать только Александрополь с 20.000 жителями, помимо военных, и разве еще гораздо менее населенные Ахалкалаки. В стране армянских крестьян нужно искать армян, если хочешь верно о них судить».