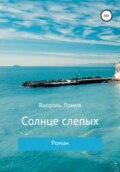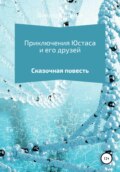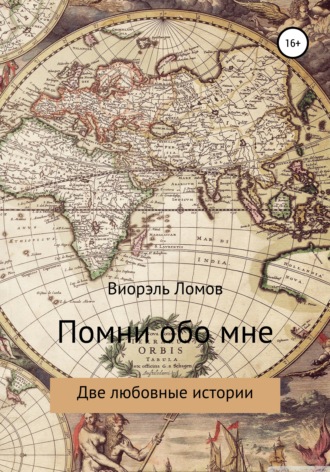
Виорэль Михайлович Ломов
Помни обо мне. Две любовные истории
XLI
Став к тысяча девятьсот шестидесятому году профессором и уважаемым в институте человеком, Надежда Алексеевна за каких-то десять лет подмяла под себя не только кафедру, но и пол-института. Она была в расцвете сил, в зените славы, в пике женского обаяния. Ободренная успехами на марсовых полях институтских междоусобиц, она, не встречая явного сопротивления, легкими набегами попыталась ограничить и свободу мужа. Надин установила обязательный доклад о том, куда он уходит, новый распорядок дня; внесла коррективы в его манеры. Ей, в частности, перестали нравиться шутки, отпускаемые профессором по любому поводу и в любом месте. Но когда она как-то заявила: «Теперь в моем доме всё будет так, как я скажу», Георгий Николаевич мурлыкнул:
– В чьем доме? – и, не дожидаясь, естественно, ответа, вновь углубился в свои дела.
– Георгий! Иди, твою Серову показывают! – Надежда Алексеевна подумала: «Сейчас прибежит. Что-то не снимают ее больше. Жива? Голос, и правда…»
Суворов бросил свои дела и уселся в кресло. Можно было по пальцам перечесть дни, когда он устраивался возле телевизора из-за художественного фильма. Названия старых картин Георгий Николаевич не помнил, новых не запоминал. Он вообще редко ходил в кино, а с приходом в дом телевидения совершенно перестал смотреть фильмы.
– Чего их смотреть? Время только терять. Доступно – значит, нежеланно. И вообще, мне за два часа дают ответы на вопросы, которые я не могу разрешить всю свою жизнь.
Доступность дешевого вина, дешевых закусок и дешевых женщин всегда была Суворову не по нраву, хотя он нисколько не осуждал ее. А насчет женщин он вообще был убежден, что дешевыми их делает лишь нищета и скупость самих мужчин.
Если Георгий Николаевич и смотрел фильмы, то довольно рассеянно, мысли его при этом, пользуясь возможностью, улетали куда-то далеко-далеко. Редко кто из актеров заставлял поверить Суворова в истинность киношного чувства. Но вот Валентина Серова чем-то неуловимым напоминала ему Софью, хотя и не была на нее похожа. Когда он слышал из другой комнаты ее голос, ему становилось грустно. И он откладывал дела, шел к телевизору и смотрел на нее или, не вставая из-за стола, слушал ее голос. Впрочем, фильмы с ее участием шли очень редко. Всего несколько раз за последние десять лет. А когда в доме появилась Лёля и голос ее и смех звучали ежечасно, он уже не так остро реагировал на Серову. Надежда Алексеевна знала об этой слабине мужа, она хотела бы найти в актрисе какой-либо изъян, но он не находился.
«Сколько б ни было в жизни разлук, в этот дом я привык приходить», – пела Серова, а Суворову казалось, что он видит и слышит Софью. Где она? Что она? В Тифлисе или в монастыре? Ссохшаяся старушка или, наоборот, раздобревшая почтенная матрона, а может, и…
– Говорят, она была любовницей Рокоссовского, – проронила Надежда Алексеевна.
– И что? – спросил Суворов.
– Да нет, ничего.
XLII
На открытии институтского музея были произнесены положенные речи, разрезаны необходимые ленточки, сделаны соответствующие записи в «Книге отзывов». Собравшиеся похлопали в ладоши, осмотрели стенды и подались на банкет. Все уже ушли, а Суворов не мог отойти от стенда, на котором были представлены студенты и преподаватели, не вернувшиеся с войны. В среднем ряду с фотографии на Георгия Николаевича в упор смотрела Инесса Рембо и, казалось, спрашивала его: «Я-то не могу прийти к тебе, но почему ты забыл ко мне дорогу?»
– Ты женишься на Ирине Аркадьевне? – спросила Инесса в последний их вечер.
– Нет, на Надежде.
– Как? – воскликнула она. – Ну почему? Почему?
– Так надо, Инна.
– Кому? !
«Пропала без вести» – было написано внизу. «Вот так и под любой жизнью можно подписать, – подумал Суворов, чувствуя воистину волчью тоску на душе. – Что же, и все мои прошлые годы пропали без вести? Странно: никакого видимого результата от многолетней титанической работы и чудовищной затраты физической и душевной энергии; нет следа от нее, будто буксир с грузом прошел по воде, волной закрыло след, он сомкнулся и исчез навсегда».
Георгий Николаевич встал, у него закружилась голова. В первый раз он чувствовал такую всеобщую слабость во всем организме (давление, наверное, упало) и собственную беспомощность, и оттого в нем вспыхнул приступ раздражительности.
– Прекрасный букет, – пробурчал Суворов.
«Надо гнать печаль-кручину, гнать всеми доступными способами. Подумаешь, давление! Мы то и дело меряем давление. Как бы это смерить давление, которое оказывает на нас жизнь? В каких оно единицах? В барах, должно быть. Для раба самая подходящая единица – бар. Мы не рабы, рабы не мы – твердят без устали рабы…Когда на меня надавили в первый раз? Сирень набухала. Кажется, в мае тридцать восьмого».
Суворову позвонили на кафедру и попросили подняться на третий этаж в кабинет, куда он никак не собирался заходить сам. Внутренние органы его мало интересовали. Таблички на двери не было. Чиновник поинтересовался строительством железных дорог в стране, хотя, по всему было видно, знал о том буквально всё. Суворов, чтобы потянуть время, ударился в историю вопроса.
– Еще до первой революции, – сказал он, – нашелся один бойкий француз, Лойк де Лобель, неплохой, кстати, экономист. В 1904 году он от имени американских предпринимателей вышел в правительство России с ходатайством о предоставлении концессии на постройку Сибирской железной дороги. В качестве компенсации запрашивали всего ничего:право пользоваться в течение девяноста лет сибирской и дальневосточной землей в двадцатипятиверстовой зоне вдоль всей линии. Это чуть больше, чем территория Франции или Испании. А у нас всего-то одна полоска. Десять лет это предложение рассматривали, а потом война, революция…
– Позволю себе поправить вас, Георгий Николаевич. Именно это предложение за полвека до него внес военный инженер, штабс-капитан Романов, занимавшийся изысканиями в нижнем течении Амура. Он еще предлагал направить на строительство пять тысяч казенных рабочих.
– Благодарю вас, а ее и построили всего пять тысяч. Да, всё, что предлагают извне, сначала рождается внутри.
– Любопытно.
После этого хозяин кабинета подробно и доброжелательно расспросил о положении дел в институте, словно сам находился не в институте, а где-то в Гонолулу.
Суворов положение дел в институте нашел заслуживающим всяческих похвал и поощрения, а преподавателей и руководителей института, которыми по ходу беседы то и дело интересовался чиновник, аттестовал как прекрасных работников, знающих специалистов и верных тем идеалам, которые они сами выбрали себе.
Чиновник, пожилой, не из новых, предложил Суворову чаю. Подвинул сахар, печенье:
– Я не совсем понял, Георгий Николаевич…Да, как с Академией, профессор?
Суворов прекрасно видел (чиновник и не скрывал этого), что вопрос этот вклинился неспроста. Что-то ему надо? Давай, выкладывай скорей, не тяни. Впрочем, известно что.
– Пока никак, – ответил профессор.
– Жаль, – сказал чиновник, придав голосу убедительности. – Мне кажется, вы больше кого-либо заслуживаете звания.
– Наверное, есть какие-то препоны, Василий Степанович? – предположил Суворов.
– А вы не думали вступить в партию? – прямо спросил чиновник.
«Это еще не всё, – подумал Суворов, – это только начало».
– Увы, всё как-то некогда. Задание оттуда, – он поднял глаза кверху. – Нельзя сорвать.
– Нельзя. Ну а все-таки?
– Я полагаю, что такой ответственный шаг в жизни нельзя делать с бухты-барахты. Здесь нужно и самому подготовиться, и выполнить какое-нибудь архиважное задание.
– Вы уже сделали достаточно, профессор, и для нашей страны, и для народа, и для дела партии. Вполне. Многие за всю жизнь не делают столько. Мне кажется, вы много еще могли бы сделать для дела партии. Дополнительно к сделанному. Мы отвлеклись, прошу прощения. Я не совсем понял, что означает…– чиновник посмотрел на свои записи: – «Верных тем идеалам, которые они сами выбрали себе»?
– А то и означает, – улыбнулся Суворов.
– Да? Подробней, пожалуйста. О профессоре Штейнгарте, профессоре Орлове?
– Насколько я понимаю, это и будет моим дополнительным вкладом в общее дело?
Чиновник сделал вид, что не заметил иронии в его словах.
– Вполне достойный вклад, профессор.
«Всякий раз он мне намекает на Академию наук, – подумал Суворов. – Что ж, переживем».
– Видите ли, уважаемый Василий Степанович, задание мое настолько ответственно и безотлагательно, что у меня совершенно нет времени на то, чтобы обращать внимание еще и на отдельные черты характера уважаемых профессоров Штейнгарта и Орлова, не говоря уж о том, чтобы вникнуть в суть их образа жизни и мыслей. Вот и сейчас, как ни приятна наша беседа, я теряю драгоценные часы, которые мог бы посвятить общему делу. Там от меня ждут другого, – он с любопытством стал рассматривать лепнину, оставшуюся от царизма.
Чиновник тоже посмотрел на потолок и усмехнулся.
– Благодарю вас, Георгий Николаевич. Мне было очень приятно познакомиться с вами, – в его словах была искренность. – Да, – вернул он его от двери, – забыл спросить. Вы Глотова, Алексея Демьяновича, случайно не знаете?
– Студент?
– Нет, не студент. Служащий. Пропал человек, как в воду канул.
– Простите, ничем не могу помочь. Могу идти?
– Да, пожалуйста.
Суворов, забыв о делах на кафедре, вышел на улицу, дошел до ближайшего скверика, опустился без сил на скамейку под сиренью и бездумно просидел на ней два часа. Слышал лишь крик Глотова, угасший в молчании архива. Продрогнув, хотел было идти домой, но стала тревожить невнятная мысль. «А ведь еще пригласят сюда, – подумал он, – а то и куда посерьезнее. Надо съездить к тетушке, проконсультироваться».
Суворову показалось, что он тогда уже знал о своем будущем всё.
XLIII
В коробках сверху лежали старые пожелтевшие газеты. Совсем недавно их касалась рука Николая. И весь он тогда ушел в архив, как улитка в раковину…
Елена физически ощутила присутствие мужа, будто он тут, рядом с ней, достает разные вещи, смотрит на них, думает о чем-то…
В коробках сверху лежали старые пожелтевшие газеты. Николай сунулся в одну коробку, другую, но сухое шуршание пересохшей бумаги, к которой прикасались его тонкие пальцы, было нестерпимо зубам и наполняло его душу какофонией мертвых звуков.
«Он хуже чужого человека, – с неприязнью подумал Николай об архиве. – И что носились с ним отец с матерью? Жизнь угробили из-за него. Как мышки прожили свой век».
Он в раздражении захлопнул крышку, резко встал и располосовал свои новые белые брюки о жестяной уголок. «Поделом, не суйся, не хватало еще порезаться. Пусть гниет тут всё!»
Он взял реестр, составленный когда-то отцом, сел в кресло и стал просматривать его, иронично улыбаясь:шаль, пять лошадок каслинского литья, так…чего еще ценного? В конце реестра был особый раздел, в котором значилось серебро и всякие финтифлюшки. Ага, платиновый перстень. Пятая коробка, справа в углу…
Николай извлек мешочек, там были золотые часы, перстни. Перстень как смотрел на него. Он взял, полюбовался им, протер о рукав рубашки. «Баксов за триста загоню, – решил он, – будет на что в Питер смотаться». Удалось продать за триста пятьдесят долларов.
Ночью незнакомый голос глухо спросил его: «А ты записал в реестр, что продал платиновый перстень за триста пятьдесят долларов?» Николай проснулся и долго не мог уснуть, ему всё казалось, что в комнате кто-то есть.
Утром он, естественно, забыл о сне, но когда днем к нему подошел незнакомый мужчина и спросил, продает ли он платину, Николай тут же поспешил домой и напротив платинового перстня сделал отметку: продан тогда-то, за столько-то и свою подпись.
Он сел на стул и, раскачиваясь, стал мрачно рассматривать весь этот хлам. Он еще до женитьбы дал слово родителям, что об архиве не узнает ни одна живая душа. Дал и забыл, как о дальнем родственнике. И вот теперь, когда пора ему самому принимать решение, он искренне недоумевал, стоил ли архив того, чтобы так рисковать собой. И кому это надо? «Уж коли я, живой человек, никому не нужен с моими способностями, моим доскональным знанием Жан-Поля и Шефтсбери, Маццини и Морриса, которым я могу наполнить сотни пустых студенческих голов, кому нужна эта мертвечина? ! Драгоценности, понятно, возьмут, картины, может быть, а остальное? Возьмут, а потом еще и судить станут за укрывательство или еще чего». Николай понял, что ненавидит его. Не постоянной серой ненавистью, какой одни подлые люди ненавидят других, а как один страстный, неординарный человек может ненавидеть другого такого же: острой, огненной, пронзительно-желтой ненавистью, погружающей человека в пучину отчаянного одиночества и одинокого отчаяния. Конечно же, для Николая архив значил очень много. Всё его детство прошло, прикрытое, как шкафы и ящики, такими же пыльными, плотными покрывалами, скрывая его от всех, скрывая непонятно зачем и на протяжении стольких лет. Он не знал ни друзей, ни приятелей, которых мог бы привести домой и сыграть с ними в обычные детские игры. Едва ли не с пеленок он знал, что он младший в семье, даже не младший, а какой-то приемыш. Все мысли и разговоры, планы и прогнозы, которые заходили в семье, касались не его здоровья или успехов и проблем обучения, а крутились вокруг архива, его сохранности, его будущего, судьбы документов, вещей, безделушек. И как бы кто о нем ничего не пронюхал. Кому он сдался?
Николай развернул салфетку, неожиданно очень большую и очень приятную на ощупь. Так и есть, очередное стихотворение. Похоже, Лавр писал стихи исключительно подшофе. На удивление убористым почерком. «Белый полдень, красный вечер, ночь темным темна. Сходят в вечность с алых сходней жизнь моя и я. Ну а там, на крае сходней, средь густой травы, нас неведомый Господень встретит: “Вот и вы”. И ромашковое утро золотой водой смоет там, где легкой пудрой лег мой путь земной».
«Странно, что Лавр написал так…Скорее это мои стихи», – подумал Николай.
Николай вспомнил это стихотворение два года спустя. Две операции обрекли его на затворничество. Загнан в клетку как зверь. Он хотел рассказать Лене об архиве, но в нем так глубоко сидел страх матери и скрытность отца, так крепко держало обещание, данное им перед женитьбой, о том, что тайна архива останется тайной до самой их кончины, так цепко пленила сама эта тайна, оберегаемая столько лет, что он всё откладывал, откладывал, пока не понял, что теперь уж точно ничего не скажет Елене, и она сама узнает всё потом…«Странно, что она сама ни разу не спросила даже, что это за вещи. Когда же это было? Мама запретила ей заходить без дела в ее комнату. Елена еще пожала тогда плечами и бросила небрежно: “Как прикажете, Надежда Алексеевна”, а у него спросила потом: “Там что, Кощей на цепи? ” Почему они так не любили друг друга?..»
Он и сам толком никогда не смотрел, что находится в комнате матери, так как всё было некогда, да и на это требовались душевные силы. Отец признался как-то, что несколько месяцев потратил на то, чтобы перебрать, перечитать, систематизировать все вещи. Составил реестр. Говорил о какой-то «Царской книге», о материалах по изысканию БАМа, о дневниках чуть ли не самого Александра Васильевича Суворова, стихах Лавра, каких-то письмах и записках эмигрировавших родственников из Туниса, Австралии, Китая. «Всю жизнь прожить в обнимку с коробками! То-то он последние годы даже ночевал в своем кабинете. Прикорнет на диванчике, укроется пледом. А вот маму, похоже, доконал не архив, а мысли». Случайно он подслушал сетования матери на судьбу после того, как она оправилась от первого инсульта. Будто бы ей однажды пришло в голову, что это ее боль переселилась в него и зажила в нем самостоятельной жизнью. Она неустанно муссировала эту мысль и совсем потеряла покой. И всё повторяла, что это ей божье наказание за то, что она так безжалостно поступила со своей матерью. Что она сделала с ней? «Я погубила ее! Я погубила! – бормотала она иногда целыми вечерами напролет. – И Георгия. Он с ней был бы куда счастливее, чем со мной. Даже с той своей Инессой, или с Софьей…»
И однажды, незадолго до ее кончины, среди всей этой невнятицы вдруг слова, удивительно ясные и четкие, обращенные к нему, заставили сжаться сердце, да так, что и по сию пору не отпустило: «Грустно, Николенька, если б ты знал, как грустно. Врут врачи. Врут, врут, врут! Не в сосудах, не в тромбах дело, не в режиме питания и сдерживании эмоций, нет, Николенька! Судьба человека в руках его совести».
Сколько писем. Разным почерком. Близкой родни не осталось нигде. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Тифлисе, ни в Орле. По всей видимости, и за границей никого. Суворовых много, но родни среди них нет. Так, однофамильцы или самозванцы. Николай зажег свет, с трудом, опираясь на спинку стула, который тащил перед собой, доковылял до коробки, сел на стул, снял с коробки попону, вытащил из нее тяжелую одежду, толстый альбом с пожелтевшими фотографиями, несколько старинных книг, в самом низу лежала тяжеленная книга в переплете из мягкой кожи. Справившись с нею, Николай разложил ее на столе и тут же стал листать. Он был поражен, наткнувшись на дневник Романовых, который те вели на протяжении трехсот лет. «Неужели подлинный?» – стучало у Николая в висках. Забыв о боли, он сутки напролет не отрывался от книги. Он только раз допустил к себе сиделку сделать укол.
В дневнике были сокровенные мысли всех русских самодержцев, тайны, которые наверняка сведут с ума историков, хоть и оставят безучастными обывателей, много фактов, противоречащих устоявшимся представлениям, и много таких, которые проясняли повороты в истории России и сопредельных с ней государств. Да, курс всемирной истории – самая смешная книга, которую довелось читать Создателю. Многое Николая удивило, многое огорчило, многое порадовало, многое разочаровало, но по прочтении книги его вдруг охватило такое сильное чувство гордости за Россию, которое он, к стыду своему, испытывал лишь тогда, когда исполняли гимн Советского Союза на чемпионате мира по хоккею. «Неужели того чувства мне больше не вернуть? Неужели оно навеки из души ушло в архив памяти?»
Почти все самодержцы были искренни и честны перед собой (или все-таки перед дневником? ); искренне хотели процветания и могущества России (во всяком случае, писали так); и все честно признались в конце жизни, что по каким-то причинам этого у них не получилось. И все они, исключительно все, оказались жертвой чужой алчности и собственного идеализма. Так что, в конце концов, требовалось от них – быть честным перед собой или перед страной и народом? Видимо, общей честности, как и чести, не бывает.
«Твори, Бог, волю твою!» – бросилась Николаю чеканная фраза последнего, отчаянного призыва самодержца, на чью голову было вылито столько всякой хулы. Настоянной, увы, на горькой правде.
XLIV
По своему обыкновению, по регламенту, Николай Павлович в перерыве меж напряженных раздумий и венчающих их трудов (занимающих ежедневно едва ли не восемнадцать часов) прогуливался. Не спеша он шел обычным своим маршрутом. Ничто и никто ему в этом не препятствовал, и ритм его широкого шага и не менее широких мыслей был ровный и выверенный– от первого шага до последнего, от интуитивной искорки, невнятного слова до умозрительной глобальной системы. В эти минуты царь вдруг очень ясно осознавал колоссальную ответственность за всё и отдавал себе отчет, что он единственный, кто с этой ответственностью справится. «Твори, Бог, волю свою!» – умилялся он таким простым и таким высоким словам. Прогулка, разумеется, была неотъемлемой частью режима, так как во время ее мысли и замыслы и приобретали необычайную ясность и стройность, лишний раз свидетельствующие об их божественном происхождении.
Иногда он по наитию сворачивал в одну из потайных дверей, проходил в соседнее помещение и там, стоя за колонной, в нише или за глухой портьерой, слушал, о чем судачат подданные. Эта привычка образовалась у него с той злосчастной зимы на стыке первой и второй четвертей этого века. «В стыке– всегда слабина, самое ненадежное место. Особенно если стык из разнородных металлов», – подумал он. Первая четверть представлялась ему хоть и золотой, но мягкой до неприличия, а вторая, слава Господу, отлита из хорошего железа, не хуже, чем первая четверть века прошлого. Окажись в этот момент напротив Николая Павловича трехметровое зеркало, оно с трудом вместило бы в себя величественную гигантскую фигуру царя. Да и Бог его знает – не встретился ли в зеркале тяжелый взгляд Николая с пронзительным взглядом Петра? Он нагнулся и посмотрелся в маленькое круглое зеркальце, которое любит передразнивать придворных дам. Царь сделал себе рожу и прислушался к болтовне. Подданные говорили, разумеется, о нем. О ком же им еще говорить? «О Боге, во всяком случае, говорят в храме», – сделал мысленную оговорку Николай Павлович. О чем говорят, как говорят и что имеют в виду, когда говорят – всё это он давно уже выучил наизусть. Но всё равно нет-нет да и услышишь что-нибудь любопытное. Говорили всегда исключительно в положительном смысле, ибо хорошо знали, что никакую тайну нельзя поверять даже ямке на пустыре. Находились, понятно, острецы, которые рисковали осуждать его дела. Нет-нет, не внешность, разумеется, не облик, не манеры – император усмехнулся, опять погляделся в зеркальце и сделал рожу вторично, – но осуждали в самых деликатных выражениях и с пиететом, и соотнося его образ не иначе как с богами, героями и царями священного писания и греческих мифов. Осуждали в том смысле, который допускал возможность диаметрально противоположной трактовки, более сильной, чем первоначальная. Николай Павлович был доволен: при дворе уже было пять-семь непревзойденных мастеров слова, которые могли стяжать славу Российскому императорскому дому в любом уголке Европы. «Пора, пожалуй, учредить особый Кабинет острословов. Назову кабинет…назову его…пожалуй, так и назову». Болтовня была обо всем. Значит, ни о чем. Послушав мелкотравчатые рассуждения своих детей, царь обычно неслышно удалялся, взлетая мыслями туда, куда не дано было взлетать другим, где вечно находился отрешенный его дух. «Удивительно, как смог этот низкорослый гвардейский офицер увидеть – под собой– Казбек как грань алмаза?»
Вдруг до слуха его…под собой? ! хм…донеслось невнятное: «…Нелепо…да-да…Нелепо…»
«Что такое!» – нахмурил брови царь. Он кашлянул, и тугой звук, как гимнастический мяч, а еще вернее ядро, улетел за портьеру. Там он попал в цель, и голоса только два раза произнесли«Ой!» Подданные склонились в приветствии, и в них появилось что-то змеиное, неуловимое и столь же опасное. «Любопытно…весьма любопытно, – подумал Николай Павлович. – У моих детей…»
– А-а, это вы, мои друзья! – произнес он, и густой его голос, казалось, согнул его друзей совсем уж в неприличную дугу. – Продолжайте, вы мне не мешаете. О чем, позвольте полюбопытствовать, речь? О дамах или о турках? Кхм!
Царь застыл в раздумье. «Что же тогда мне они ответили?» Он не мог вспомнить. Потер себе виски – они были горячие. Он взглянул в неизменное, еще со времен бабки-матушки зеркальце и не понравился сам себе. В глазах своих он вдруг увидел растерянность, которая давно уже поселилась в его душе, но которую он усилием своей железной воли сдерживал внутри, пока был здоров. В раздражении швырнул зеркало на столик. Зеркало разбилось. Царь нахмурился. Он, конечно, не был столь суеверен, как вся его многочисленная родня, но эта примета совпадала с общим настроем его мыслей и состоянием здоровья в последние два дня. «Надо же, все вокруг, как сговорились, и разом стали чихать и кашлять. Инфлюэнца…Грипп, хм…Сколько лет-то прошло? Пять-семь? Как же так, забыл? Да их словно и не было, этих лет».
В голове шумело, и ясных мыслей не было и следа. Каша какая-то! Он в раздражении шагнул к потайной двери, чтобы сделать выговор всё равно кому, кто находится ненароком там. Но комната была пуста. Именно в эти последние пять-семь лет он всё реже заставал кого-либо там, нарочно дожидающихся его. Царь подавил раздражение и сел на диванчик, которым пренебрегал всю жизнь. «Мягко и удобно», – подумал он и тут же встал с располагающего к сибаритству ложа и направился в свой кабинет. И вдруг он понял, что кабинет не приемлет его такого. «Какого?» – задал он себе вопрос. Ответ был беспощадный: слабого, растерянного, больного. Таким его не знали родные, таким его не знали при дворе, таким он не знал самого себя. Он для всех был образцом мужественности и собранности, для всех он был рыцарь. Когда на Сенной площади он один въехал в толпу, взволнованную эпидемией холеры, только что разгромившую больницу, убившую докторов, неистово кричащую бог весть что и готовую на всё, что только может русская толпа, когда он, устыдив всех в малодушии и отступничестве от Бога, воскликнул: «На колени, и просите у Всемогущего прощения» – и тут же сам опустился на колени, вся площадь замерла и все как один тоже опустились на колени.
– Да кого вы добиваетесь, кого вы хотите, меня ли? – гремел над площадью его воистину божеский глас. – Я никого не страшусь, вот я!
В эти мгновения Николай видел себя соразмерным всей необъятной и могущественной (самой могущественной из всех когда-либо существовавших на земле) империи.
После этих слов вся площадь рыдала и кричала «ура». «Рим также лежал бы у моих ног», – подумал он тогда. «Хотя что Рим, – подумал он сейчас, – так, тьфу. Нет, я никогда ничего не боялся, так как меня во всех моих делах направлял Господь. А ведь это я сказал Пушкину про бунт. Откуда ему было знать? И что же, теперь я боюсь ее?.. Плаксив стал как баба! И что же, теперь я боюсь инфлюэнцы? Или, как модно сейчас, гриппа?»
Вдруг ему показалось, что истинный смысл этого слова заключается в коротком, но таком же губительном для него (губительном? ) слове «Крым». «Когда же я дал слабину?» – думал он, потирая лоб. Ему показалось, что он стал еще горячее. Во рту пересохло, а тело сковала страшная слабость и ломота. «Да-да, недели две назад, когда вдруг все вздумали болеть. Инфлюэнца…Грипп…Крым…Мандт рекомендует лежать. Он всем рекомендует лежать…Но что-то жестковато стало мое ложе. О Господи, прости грехи наши! Надо же, каких-то шестьдесят тысяч иноземцев в Крыму свалили Россию. Свалили? Что я говорю! Как я смею так думать? ! Полежишь тут!» Император встал и пошатнулся. Постоял с минуту, приходя в себя. Затем безотчетно проследовал в один зал, другой…Ему казалось, что он тащит на себе весь груз прошлого, всю Россию. Куда?
В полумраке зала он вдруг увидел странную фигуру. Нелепый старичок, сутулый, кожа да кости, с растрепанными седыми волосенками, изможденным лицом, изрезанным морщинами, в одном нижнем белье, стремительно вприпрыжку, припадая на ногу (она была в туфле, а вторая в сапоге), пересек по диагонали залу, подбежал к нему, резко воскликнул что-то, что – Николай Павлович не понял, но что-то ужасно обидное, очень ехидно хихикнул, блеснул бесцветными глазами, подмигнул нагловато и в мгновение ока очутился возле противоположных дверей, там раскланялся со своим отражением в зеркале, шарахнулся от него, кукарекнул, пропел что-то густым басом, подпрыгнул козликом и исчез.
«Почему он без мундира?» – думал царь, с досадой почему-то на самого себя. Этого старика царь определенно знал, но не мог вспомнить, кто таков. «Что за скоморох? Откуда взялся в дворце? Точно с портрета сошел. Глаза горят, как у разбойника. Горят, как у…Суворов», – опешил государь и лишился последних сил. И тут же ему ударило в голову – слова, которые вылетели из уст полководца и, казалось, еще не совсем растаяли в полумраке залы, были: «Просрали Россию, Ваше Величество! Просрали!»
Спустя несколько дней он уже почти машинально повторял по всякому поводу: «Твори, Бог, волю твою!»
– Как там Михаил и Николай? – спрашивал он и понимал, что хотя он и по-настоящему озабочен, как они там, в Крыму, по большому счету его интересует, как там вообще в Крыму. Тоже грипп? Он только никому не хотел в этом признаться, даже самому себе, на пороге, на пороге…
– Горчаков…– сказал он.
– Что Горчаков, Ваше Величество?
– Нет, ничего…Севастополь…Австрия…Бог с ней, с Австрией. Ее уж, почитай, нет. Бессарабию, Новороссию…до Днепра, не дальше! отдайте, но Крым и Севастополь, слышите, Крым и Севастополь– не смейте!
– Он в бреду, – услышал царь.
– Кто в бреду? – ясным голосом спросил он. – Это вы, доктор, в бреду! – он осекся.
Он вдруг едва не сказал: «Рухнет всё – рухнет всё!» Также отчетливо, как Суворова в зале, хотя и в полумраке сознания, он увидел себя, огромного, величественного, возвышающегося над Россией, и почувствовал, как последние силы покидают его, как он падает на нее, валится…Он с ужасом видел, как земля из-под него разбегается, буквально прыскает во все стороны, и всё шире и глубже под ним разрастается черный овраг…Император взметнул последним усилием воли не слушающуюся его руку, сверкнул грозно глазами в последний раз и с прозрачной мыслью: «Небеса рано или поздно всё равно падают на землю»– и тут же: «Когда власть направлена только на то, чтобы удержать, она ничего не удержит» – очень четко произнес:
– Держи всё – держи всё!
Как когда-то в молодости, он вышел в город один. Широкой грудью глубоко вдохнул свежий воздух, почти весело огляделся. Город лежал пред ним ниц, дворец, площадь, даже Александрийский столп. Город замер и не дышал. Тишина была страшная. Не было даже западного ветра. Сегодня-то царь был уверен, что никто из подданных не прячется за колоннами или под деревьями, охраняя его жизнь, честь и достоинство. «Чудаки, – холодно улыбнулся Николай Павлович, – они полагают, что я сам не смогу постоять за себя. Я – наместник Бога, властитель всей этой земли. Я – не смогу, а они смогут? !» Николай Павлович почувствовал, как гримаса гнева искажает его лицо, но справился с мелкими чувствами. «Вот он, мой город, столица моей империи. Моя земля гудит и дрожит под моим шагом. Даже он, этот истукан, мой. Здесь всё подвластно мне!» Рукой прикоснулся к груди и понял, что дрожит сам. Вновь ощутил досаду. «Красуйся, град Петров…»– прошептал чужие строки. Провел рукой по решетке, от холода ее заныли зубы. Дрожь не унималась. Она как бы вливалась в него извне, и то ли питала его досаду, то ли сама досада рождала дрожь. «Неужто я негодую? – подивился император. – На что? На кого? “Добро, строитель чудотворный! – шепнул он, злобно задрожав…”»
Он не решился идти к истукану и от того пришел в отчаяние. «От чего? От ледяного гранита и бронзы? Куска скалы и отливки? Или в них живет дух? Чей?.. – никогда еще он не задавал себе таких вопросов. – Как же это я раньше не видел сходства “Каменного гостя”с “Медным всадником”? Ведь там один и тот же мотив. Истукан является к человеку. И – побеждает его? Ну, Пушкин, ты не просто сукин сын, ты…»