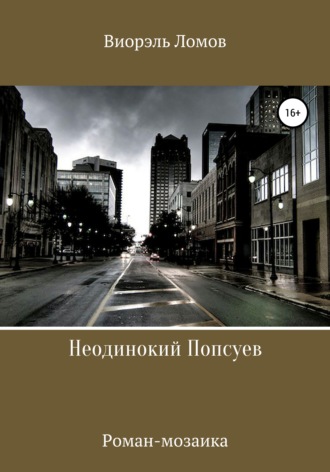
Виорэль Михайлович Ломов
Неодинокий Попсуев
Мальчики и девочки держали в руках записочки, на которых были написаны их имена и имена их суженых, подходили друг к другу и спрашивали: «Ты кто?» «Маргарита. А ты?» «Руслан. Не знаешь, где Людмила?» «Нет. А где Мастер?» «А кто это?» «Не знаю. Вот написано».
Сережа не стал разыскивать свою даму. Он поставил стул посредине зала, встал на него и воззвал к избраннице, озвучивая как бессмертные строки, так и ремарки к ним:
Ле Бре.
Но, ради бога, кто она?
Сирано.
Она? Она? Сама весна.
Ее очей глубоких ясность
Несет смертельную опасность.
Сама не ведая того,
Она – натуры торжество,
Ловушка дивная природы,
Мой ум лишившая свободы, —
Мускатной розы пышный цвет,
Амура хитрого засада.
В ее улыбке – солнца свет.
Малейшим жестом, негой взгляда
Блаженство рая, муки ада
Сулит она душе моей.
Походкой легкою своей
Она проходит, молодая,
Очарованьем красоты
Богини образ воскрешая,
В Париже, полном суеты.
Ей не хватает лишь колчана,
Чтоб все сказали: «Вот Диана!…»
Ле Бре.
Я понял…
Сирано.
Верен мой портрет!
Ле Бре.
Твоя кузина?
Сирано.
Да, Роксана.
После этого Сережа добавил отсебятину:
– Я Сирано, но не любой! Я первый номер! Не второй!
И тут к Попсуеву бросилась Катя Петрова, которая жила в том же доме, что и Сережа, только в другом подъезде:
– Я! Я твоя первая Роксана! Вот у меня написано: Роксана номер один, а ты мой Сирано номер один! Мы навсегда теперь вместе!
В роли главного инженера
В огромном двойном окне драмтеатра висело объявление: «Современному театру требуется главный инженер. Мужчина не старше 45 лет. Желателен опыт руководящей работы, а также опыт работы на электротехническом, сантехническом, вентиляционном и осветительном оборудовании». «Оставил завод, оставлю след и в искусстве, – подумал Попсуев. – Главный, не хило».
Зашел в просторный, прохладный холл. У входа простенький стол, два стула, мусорная корзина. Тихо. Даже глухо. В нос ударил запах китайской лапши. Вахтерша, держа в одной рукой кипятильник, второй ковырялась в пиале, вылавливая там что-то лиловое.
– Добрый день, – сказал Попсуев. – Я по объявлению, на работу. К кому?
– К кому? А вон к тому, дверь в перламутре. Что же это такое? – она понюхала выловленный кусочек. – Морква? Чи буряк?
Дверь и впрямь была в перламутре, массивная, под потолок, казалось, за ней восседает черт знает кто. Им, как явствовало из таблички, был «Директор Современного театра Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ненашев Илья Борисович».
В предбаннике с узким высоким, как в средневековом замке, забранным решеткой окном секретарши не оказалось, и Попсуев открыл следующую дверь, пониже, темную и без финтифлюшек. Глазам Попсуева предстал, нет, не рыцарь на коне, предстал огромный кабинет с тремя широченными окнами по трем стенам, громадной хрустальной люстрой и зелеными явно импортными обоями в широкую золотую полосу. Пол устилал небывалых размеров зеленый же ковер, придавленный по центру гигантским столом заморского дерева, за который не стыдно было усадить самого Черномырдина. «Мебель затаскивали через окна, – подумал Попсуев. – Однако рояль тут не помешал бы, вон туда. И пять-семь рядов кресел».
– Заходите-заходите! – радушно приветствовал гостя кругленький человек, выкатывая из-за стола. – Вы Хочубинский? Харон Израйлич?
– Я мужчина не старше сорока пяти лет. Попсуев, Сергей Васильевич. По объявлению. – Попсуев махнул в сторону окна.
Круглый человек крепенько, но не сильно пожал ему руку.
– Чрезвычайно рад. Ненашев Илья Борисович. Заслуженный работник культуры РэФэ. – Усадив посетителя в одно из располагавших к приятному сиденью кожаных кресел, человечек подкатил к центральному окну и поглядел на зеленый дворик. Там под раскидистыми кустами цветущих роз прохаживались дама в шляпке в стиле Ренуара и мужчина с ней под руку в стиле Тулуз-Лотрека.
– По объявлению, какому?
Попсуев снова махнул в сторону окна с улицы.
– А, по объявлению. – Ненашев ткнул пальцем в стекло. – Константин Сергеевич выгуливает Изольду Викторовну. Главреж Консер (мы так для простоты зовем его) и прима.
Попсуев понимающе кивнул.
– Тристан и Изольда.
Директорское лицо осветила улыбка:
– Года не те… Староваты. Ну да сердца-то юны?!
По широкому внешнему подоконнику прохаживались говорливые голуби.
– Птицы, а!
– Да, птицы, – подал голос и Попсуев, прислушиваясь к их успокоительному воркованию. – Голуби.
– Загадили театр!
Илья Борисович постучал костяшками пальцев по стеклу и энергично помахал кулачком вслед взлетевшим птицам.
– Очень, очень приятно, Сергей Васильевич! – директор подошел к Попсуеву, как киношный Ленин, сунул руку за обшлаг пиджака и стал покачиваться на носочках скрипучих туфелек. – Чем обязан?
– Я по объявлению, – повторил Попсуев, слегка приподнявшись с кресла и едва не бухнув: «Владимир Ильич». – Мужчина… На главного инженера.
– А-а-а! – попридержал его коротенькой ручкой Ненашев. – Да-да. На роль главного инженера, прелестно, прелестно! – воскликнул он. – Как же, как же, имеется такая вакансия! Вакансище!
«Прелестно» у него прозвучало с придыханием: «Пхгелестно».
После того, как Попсуев уточнил, нужен ли театру именно главный инженер или достаточно простого, директор воскликнул:
– Разумеется, главный, самый главный, какой вопрос! Ведь сознайтесь – простых инженеров и нет?
Закрой глаза – точно Ленин – в исполнении всенародно любимых артистов. Вот только почему-то «батенька» не говорит. По всему было видно, что Илья Борисович всю жизнь культивировал в себе благожелательность к посетителям, которых если и не считал, так называл «главными», отчего и сам выглядел не менее чем «главный», и превратился, в конце концов, в эдакий колобок радушия с живыми глазками, сочными губами, элегантно грассирующим говорком. Похоже, одним этим он располагал к приятной беседе любого ходока, даже по самому щекотливому вопросу, причем так, что щекотало одного только собеседника.
Попсуев согласился, что слово «простой» выдумано не от великого ума. Илья Борисович, как видно, привыкший при человеке «снизу» (даже самом главном) более сам говорить, чем слушать, непринужденно широкими мазками и звучным бархатистым голосом нарисовал театр военных действий по электрическому, сантехническому и прочим направлениям. Осветительную аппаратуру он и вовсе назвал «светотехническим плацдармом», причем слышалось опять же: «святотехнический». Просто вылитый Владислав Стржельчик в роли начальника Генштаба Антонова в киноэпопее Озерова «Освобождение» или, спаси Господи, даже какой-нибудь наипочтеннейший иерарх РПЦ.
Не сходя с места, Ненашев тут же назначил Попсуева командующим театральным тылом. И хотя директорской решительности позавидовал бы сам Наполеон, по некоторым его словечкам, по манерам и внешнему облику видно было, что Илья Борисович глубоко чужд бастионам, рукопашным и вообще всяким боевым действиям, где проявляется мужской характер. Вряд ли когда он нюхал порох, но зато был прирожденный тыловик, выпивоха, картежник и интриган. В терминах далекого военного времени – успешная тыловая крыса, которой, конечно же, можно быть, имея только прирожденные способности на это, соответствующую корпуленцию да еще закрома.
– Окопы для солдата хороши, – вырвалось у Попсуева.
– Что вы говорите! – восхитился Ненашев. – Чем же?
– Не так кусают тыловые вши.
– Прелестно! Просится на музыку. Буонапарте, кстати, начинал свое восхождение с окопов. На заводе кем изволили служить? – поинтересовался Ненашев. – ИТР?
– ИТР и т.п. Много кем. Мастером…
– Великим? – поднял мохнатые брови Ненашев, изобразив на лице ироничное почтение.
– Зачем? Простым и старшим. – Попсуев стал загибать по-русски пальцы: – Начальником участка, технологом цеха…
– Прелестно. Гамма профессий, прелестно! Это весьма пригодится вам, весьма. Кто был никем, тот станет всем, прошу прощения за невольный каламбур, ха-ха! Главное для главного, отличить приму от рампы, а Софокла от софитов. Сдается мне, вы отличите.
– Да должен, – согласился Попсуев. – Софит от софитов отличу.
– Да что вы? И как? Множественным числом?
– Нет, единственным образом: софит – это потолок, панель такая, а софиты – светильники на этом потолке. Это меня один итальянец просветлил, художник Луиджи Ванцетти.
– Не тот, что на электрическом стуле с Сакко?
– Однофамилец. – Попсуев почувствовал, что этот порхающий диалог стал слегка напрягать его своей бессмысленностью. – А мой предшественник… как бы поговорить с ним? Дела принять?
– Увы, Сергей Васильевич. Принять дела от него никак нельзя. Дела-дела… как сажа бела… да и поговорить… Архангельский, увы, покинул нас. – Илья Борисович воздел глаза и тут же что-то записал себе в поминальник.
– Уехал?
Директор изобразил переживание на лице.
– Посадили? – Пред Попсуевым предстала унылая, но широкая картина хищений и растрат. «Надо мне это?» – подумал он.
– Кабы, – вздохнул Ненашев. – Убит – и взят могилой. Убит разгневанным режиссером за срыв генералпробе3. Представляете, совратил приму накануне прогона!
– Приму можно совратить?
– Увы, – вздохнул Илья Борисович, покачал головой и пощупал себе грудь. Заметив легкое недоумение на лице без пяти минут главного инженера, директор поспешил успокоить его: – Не беспокойтесь, Блюхера больше нет с нами.
– Сидит?
– Что вы, сидит да сидит! На театре «не содют». Лежит. Там же, рядом с Архангельским. В семнадцатом секторе, между двумя цыганскими баронами. «Я цыганский барон…» – вывел речитативом Илья Борисович, выжидающе глядя на Попсуева.
– «Я в цыганку влюблен…» Понятно. И ладно, – сказал тот, решив не углубляться в эту запутанную историю. «Собственно, какое мне дело до того, что было до меня, – рассудил он. – Архангельский, Блюхер, бароны, прима… Так и до Немировича с Данченко можно дойти. А дальше?»
– У нас тут весьма строго с производственной дисциплиной, – ни к селу ни к городу добавил директор. – Да и с техникой безопасности. Уже столько директоров погорело на театральных пожарах. Персонал, майн херц4, кого ни возьми – поджигатель, просто сволочь какая-то! Не театр, а Москва двенадцатого года, которая восемьсот, разумеется, тысяча, горит каждый день. Гиляровского бы сюда, короля репортажа.
– Может, на каждого огнетушитель повесить? – ляпнул Сергей.
– А что! – даже взвизгнул от удовольствия Ненашев. – Представляю! Костя с огнетушителем! Или Изольда! – и тут же сделал пометку в поминальнике.
– А прима кто? – поглядев в окно на куст Ренуара, спросил Попсуев, чувствуя усталость от избытка энергии Ильи Борисовича. Почему-то вспомнились мухи на липучке, которых видел черт знает когда в заброшенной деревне под Волоколамском.
– Узнаете, скоро всё узнаете, Сергей Васильевич. Да завтра уже. Начало в девять, плюс минус фюнф минутен5, не завод ведь.
– С завода я еще не уволился.
– Кайне проблем6, совместите, Сереженька, совместите. В ваши годы!
Попсуев удивленно взглянул на директора, но тот его удивления не заметил.
– Да, еще, – задумался директор. – У нас тут с премиями не разбежишься, но варианты есть. В театре деньги хоть и любят, но служенье муз и прочая ерунда, в общем и целом бескорыстно. И это надо взять за основу.
– Да, самая бескорыстная любовь – к деньгам.
– Прелестно! Об этом, кстати, говорил еще наш Ильф. – Ненашев потряс руку Попсуеву, как близкому родственнику.
«А Петров – не наш?» – хотел спросить Попсуев, но благоразумно сдержался.
– Как вы думаете, Сергей Васильевич, рояль вон туда не помешает?
– Не помешает, Илья Борисович. Даже поможет.
– И прекрасно! Завтра же закажем!
На стене крест-накрест висели две старинные рапиры.
– За заслуги? – указал Сергей на оружие.
– Да, перед отечеством. Были и мы когда-то рысаками, – ничтоже сумняшеся ответил Ненашев и холеной рукой робко коснулся острия.
«Такой ручонкой спагетти наворачивать на вилку или банкноты считать, – подумал Попсуев, – да на шпажку оливки надевать или кубик сыра».
Радушно, с поклонами попрощались. Секретарша так и не появилась. Вахтерша живо поинтересовалась:
– Ну что, берут? Слесарем? Наконец-то! Вторую неделю засер. Завтра выходишь?
– Да, – кивнул Попсуев, решив, что ослышался – засор, наверное. Чередующиеся гласные «о», «е» фантастически обогащают язык, а «ты», «вы» – существенно упрощают.
Вышел из театра Сергей несколько подавленный. Общение с Ненашевым утомило его и наполнило раздумьями и непонятной досадой. Неужели на самого себя? «Так всё-таки, не хило или хило?» – думал он, а воображение рисовало какие-то странные картины, где он и Ненашев находятся вроде как и в одном месте и в одно время, но в разных мирах. Причем он видит Илью Борисовича, а тот его нет. А может, просто и видеть не хочет…
Божеский вид примы
После репетиций народная артистка России Изольда Викторовна Крутицкая по два часа просиживала в уборной, приводя себя в божеский вид, хотя и к репетициям готовила себя не менее тщательно.
– Душись, душись, только не задушись, – завернув к приме, приговаривал Константин Сергеевич Асмолов, отмечая, что духов и мазей на туалетном и приставном столике прибыло, а к ним масса затейливых и не очень коробочек и шкатулок. – Поехали, поехали, Изольда, сколько можно? Ведро вылила на себя. Всё равно ведь смоешь.
– Ой, блин, достал, Костик! – восклицала та, разглядывая подбородок и шею и смакуя новое вполне театральное словечко «блин», успешно сменившее похожее, но более ругательное. – Вы, мужики, как кони, всё гарцуете! А мы не кони…
– И-го-го! – радостно соглашался Консер. – Вы бабы! Ты осторожнее, брякнешь на премьере «блин»! У Моэма этого слова отродясь не было.
– Только рады будут. Массаж нужен, массаж. Никуда не годится! Без него и кураж не тот. Брыльки эти! И вообще подтянуть всё туда, к ушам…
– Что, и грудь?..
– Гурченко видел? Плисецкую? Посмотри, как?
– Крачковскую видел. О, майн гот!7
– Ты тоже, что ли, зашпрехал, как Илюша? Это, знаешь ли, нехороший симптом. Да, пора подтягивать.
– Пора, мой друг, пора. Сосет внутри. Прямо пылесос. СОС! Ты готова?
– Да готова, готова, – слегка раздражалась прима. – Я всегда готова. Какие вы всё-таки, мужики…
– Сволочи?
– Не я сказала. И вообще, это звание надо заслужить. Сволочь, Асмолов, звание народное.
– Согласен, согласен. – Главреж подцепил приму под руку и увлек в кафе, элитное, но народное, значит, сравнительно недорогое.
К вечеру Илья Борисович всё чаще и чаще произносил немецкие фразы и слова, а к ночи буквально сыпал ими. Темнота делала его немцем.
– Поддал! – отмечали в театре, используя этот факт, кто как умел и хотел.
До театра Ненашев работал в Германии, то ли на Майне, то ли на Одере, по снабженческой части. Сносно зная немецкий язык, с немцами и соотечественниками общался только по-русски, но как только выпивал, размягчался и «въезжал в чуждую культуру» в широком диапазоне от «Шпрехен зи дойч»8 до «Гитлер капут»9. «Шпреханье» вскоре превратилось в привычку, а потом и в потребность. Вследствие этого (официальная версия) настал и отрезвляющий «капут»: его сократили и вернули в СССР, как часть национального достояния, причем, минуя столицу, сразу в родной город.
Тут подвернулось директорское кресло в Нежинском драмтеатре. Как выпускнику института культуры и неплохому знатоку человеческих слабостей, может, и еще почему, ему не составило особых трудов занять его, хотя поначалу он был в нем откровенно мал и даже незаметен.
Главное в руководящей должности – не притворяться. Надо себя так вести, чтобы самое изощренное и самое тупое притворство выглядели одинаково естественным и непритворным. На похоронах от прочувствованных искренних слов Ильи Борисовича рыдали навзрыд, а на именинах умирали со смеху, хотя он говорил одни и те же слова и исполнял одну и ту же роль лицемера. Не видя между этими мероприятиями особой разницы (во всяком случае душевные затраты у него были одни и те же), Ненашев везде являл собой радушного и добросердечного хозяина театра, совершенно равнодушного и к покойникам, и к живущим, исключая разве что находившихся при власти и при деньгах.
Природная смекалка, которая больше рабочей сметки на величину пронырливости, о которой в народе говорят «без мыла влезет», и тут позволила ему стать почти незаменимым, причем всем – театру, чиновникам, городу. Уже поплыло в СМИ – «театр Ненашева», «эпоха Ненашева», а вскоре и театр (фасад с колоннами) стал эмблемой города. Уже года два, как Илья Борисович на равных с Консером решал, что ставить и кого приглашать в театр. Попсуев ему чем-то приглянулся (может быть, дикой непохожестью на человека театра), и он тут же велел изъять объявление о приеме на работу из окна.
О том, что это прима, Попсуев догадался по крику, с которым актриса металась по театру, ища какого-то паразита, судя по всему, насолившего ей. Так орать могут позволить себе разве что незаменимые примы.
– Я его изничтожу! – не замолкал ни на минуту ее хорошо поставленный грудной, стелющийся голос.
Два раза пролетая с этим возгласом мимо Попсуева, Крутицкая успевала крутануться волчком и показать фигуру (хотелось бы написать «фигурку», но это словечко не вмещает героиню) и охватить пришельца своим негодующим – не относящимся, естественно, к нему – взглядом. Причем умудрялась одновременно нарисовать на своем атласном личике вопрос «Кто такой?», звучавший уже не контральто, а ближе к женскому – меццо-сопрано и даже сопрано.
Сергей вспомнил, как любил вешать лапшу на уши девицам. «Под большим секретом» он сообщал им, что согласно выводам специальной теории относительности изящность женщины зависит от ее темперамента. Мол, вернее всего мужчины клюют на холерический тип, потому что, чем стремительнее женщина пролетает мимо мужчины, тем миниатюрнее она ему кажется. Многие из девиц, услышав это, «убыстрялись», будто обретали дополнительный заряд. А вот Изольда Викторовна, похоже, и сама дошла до этого, без подсказки.
Сигареты «Прима» имеют весьма опосредованное отношения к пристрастиям примадонн. Конечно, называть драматическую актрису примой, примадонной не совсем верно, но если она действительно примадонна и в ней бездна музыкального слуха и обаяния, а каждый ее взгляд или слово звучит как увертюра? Тогда, думаю, можно называть без натяжек. Тем не менее Изольде Викторовне кто-то регулярно подбрасывал в сумочку или сапожок смятую пачку ростовских сигарет «Прима», да еще с крупными коричневыми крошками вонючего табака, чем нередко приводил народную артистку в исступление.
Разумеется, ей льстило, что на нее последний придурок тратит свое время и воображение (да и сбережения!), и оттого с удвоенной энергией металась по театру, как фурия. Ее контральто разом звенело во всех уголках здания, от подвала до чердака, в последний год почти всегда требовательно и жестко, отчего иным хотелось выскочить из театра вон. От нее прятались даже рабочие сцены, так как она пускала в ход не только язык, но и руки, а хуже того, крепкие до безобразия ногти. Даже директор с главрежем в эти часы старались на глаза ей не попадаться. Еще глаза выдерет, дура.
Ненашев в принципе не любил «бабдур», и соглашался на них лишь в силу роковой необходимости: без примы театр, увы, не театр, а бордель. А вот Консера заботило одно лишь искусство, которое без «бабдур» вообще одно извращение. В театральном искусстве, где в особом почете высокий балаган, кукольного умения звонко вскрикивать и складываться в акробатические фигурки ă la Кама Сутра, явно недостаточно. Нужна еще алчная пустота примы, каждый раз наполняемая новым непредсказуемым содержанием и отчасти женским опытом.
Изольда Викторовна, как никто другой, умела проникать в образ, наполнять им себя под завязку и щекотать тем самым нервы обывателю. Компот приходилось расхлебывать всем. И плевать, что на дне оставались муть и червячки.
Тем временем Изольда Викторовна, не найдя начальства, начинала гневаться уже не шуточно, пока ей не подворачивался какой-нибудь театральный кнехт, на котором она и срывала свое негодование.
– А вы кто?! – Попсуев даже вздрогнул, услышав грозное восклицание за спиной.
– Дед Пихто! – ответил Сергей, взглянув на пышущую гневом даму неопределенных, значит не юных лет, спикировавшую на него на третьем заходе. «Стервь, – отметил он, – но хороша, хотя и на закате».
– Что вы тут делаете? – прима строго, «в образе», смотрела на него. Грудь ее нешуточно волновалась (здесь: волнение на море), а глаза и губы влажно поблескивали.
– Что?
– Что вы тут делаете, я вас спрашиваю?!
– А вам-то что? Вы кто?
Вопрос убил Изольду Викторовну. Она полагала, что ее-то уж в театре обязаны знать все наизусть. И вообще – всяк сюда входящий забудь обо всех, кроме нее. Особенно входящий с таким разворотом плеч.
– Как кто?
– Да, кто? – Попсуев понял, что его сейчас «понесет». – Какого черта, судар-рыня?! – с рокотом и хрипотцой ă la lettre10 Высоцкий вырвался из него вопрос.
– Нет-нет, никакого. Обозналась, – обескураженная (впервые в жизни) актриса ретировалась, но, разумеется, с благоприобретенным достоинством.
Через час нашла его, взяла за руку и, как ни в чем не бывало, доверительно глядя ему в глаза, спросила воркующим голосом:
– Так вы теперь наш главный технический руководитель? Сергей Васильевич, можно, Сергей? Я Изольда, Сергей. Изольда Крутицкая. Актриса. Ведущая актриса, народная артистка театра. День и ночь веду, блин, театр к очередным творческим свершениям.
– Мне, кхм, в другую сторону. Короче, где тут щитовая? – не совсем ласково прервал Попсуев лисьи речи.
– Короче? – прима любезно согласилась показать ему, как сразу же понял Сергей, не самый короткий путь. – Короче! Путь к любви всего короче.
– Йес, к аморэ, миа дольче, путь короче, а не дольче11, – подхватил Сергей.
«Дольче» взяла его под руку и повела, расспрашивая обо всём, как старинная знакомая, даже о неведомых Попсуеву тетушках из Белгорода. При этом заразительно смеялась и прикасалась в ритме белого вальса через два шага на третий бедром. Слегка, но чувствительно, так что даже пошатывало.
Не успела прима задать Попсуеву десятка-другого вопросов, как их нашел директор.
– Щитовую ищете? Со щитом или на щите! Айн момент, Сергей Васильевич, провожу. Боюсь, Изольда Викторовна, не совсем в курсе, что это такое.
Прима вспыхнула от искусственного негодования, но сдержалась.
– Я вас найду, – пообещала она Попсуеву.
– Найдет, – подтвердил Ненашев, когда та скрылась за поворотом. – Эта черта найдет.
Илья Борисович провел Попсуева до щитовой, две минуты с любопытством смотрел, как тот возится непонятно с чем, и потом вернулся к себе. «Хлопнул» коньячку и, шлепнувшись в кресло, блаженно разглядывал голубей, разгуливавших по широкому подоконнику.
– Ах, майн либе Августин, Августин, Августин, – мурлыкал он, вспоминая изумрудную лужайку на берегу то ли Эльбы, то ли Одера и белокурую фрау Эльзу в шляпке с зонтиком в таком роскошном, таком восхитительном белье, которое и снимать ни к чему. «Какая ж Изольдочка настырная баба! Отшлепать бы ее!»
Попсуев от щитовой направился в свою конуру в полуподвальном помещении. Всё это время в его голове крутилось имя Изольда. «Венера Анадиомена, – подумал он о ней, – антично полновата, зато самый смак!»
Сергей чувствовал смутное беспокойство, некогда испытанное им, когда на диспетчерской точно так же повторял имя Несмеяны. «Все они, такие сладкие, женские имена, когда их в первый раз пробуешь на зубок. Дольче. Но чем дольше, тем, увы, не дольче…» Не успел Сергей додумать эту мысль, как почувствовал вдруг такую тоску, что захотелось волком завыть от одиночества, от которого (он четко знал это) его никто не мог избавить, разве что одна Несмеяна…
Прима нашла Попсуева после обеда и тут же стала жаловаться на черствость начальства. Хотя у искусства a priori не может быть начальства, оно (начальство) почему-то всё-таки было, и в достаточных количествах. Но только не над ней, Изольдой Крутицкой!
Сергей терпеливо слушал, поддакивал приме и после того, как она попросила дружеского участия, с готовностью откликнулся:
– К вашим услугам, сударыня!
.– Мы должны с вами сдружиться. У нас это получится. Чую всеми фибрами. Есть сродство душ. Как это у вас в электротехнике – химическое сродство электронов?
– Позитронов.
– Позитронов. И общий взгляд на вещи. Вы так понимаете меня!
– Изольда Викторовна! – крикнули в конце коридора. – Вас Консер!
Крутицкая обворожительно улыбнулась Попсуеву и, грациозно качнувшись, направилась к главрежу. Каждый шаг актрисы можно было выделить в отдельное произведение искусства и в рамку. А сама просто летящий электрон, неисчерпаемый как атом, ищущий очередной позитрон, который от встречи с ней аннигилирует к чертовой матери, а попросту исчезает за плинтусом. «От бедра!» – хотелось в восторге крикнуть, глядя на нее, как в авиации: «От винта!» Ей-богу, сотни мужских торсов не стоят одной ее лодыжки, а сотни извивов пропеллера одного изгиба ее идеального бедра!
За поворотом закричали. «Как же тут интересно, – подумал Попсуев, – как в лесу. Похоже, на вахте орут. Так и есть».
– Где слесарь? Где этот чертов слесарь? – орала вахтерша за столом. – Да что же это такое: как кого ни возьмут, так алкаш!
– У вас проблемы, сударыня? – подошел Попсуев.
– Проблемы не у нас, проблемы у тебя, – огрызнулась сударыня. – С утра, кто обещал устранить засор?
«Значит, ослышался», – подумал он, с досадой отмечая, тем не менее, что атмосфера всеобщей вздрюченности стала его напрягать.
– Есть другие задачи, – бархатисто сказал он голосом Ильи Борисовича.
– В театре одна сверхзадача, – отрезала вахтерша, – не допускать вони!
– О! – только и смог выговорить главный инженер, навсегда усвоив стратегию всякого искусства и его главный (увы, недостижимый) результат.
– А тут что, пожар был? – в стене на месте двери зиял черный проем, внутри было всё черным-черно.
– Да, возгорание, – равнодушно бросил Илья Борисович. – Сгорело пару стульчиков, дорожки, тряпки…
– Просторно, – заглянул вовнутрь Попсуев. На него пахнуло старой гарью.
– Зальчик. Тут два года назад выбирали руководство театра, моего предшественника. Гвалт стоял, народная стихия. Рок-опера.
– «Рок»? – оценил Сергей – А вас тоже выбирали?
Ненашев снисходительно пояснил: – Зачем же? Через месяц народный избранец ушел, а мне предложили это место.
– По объявлению?
Ненашев не расслышал.
– А что же не ремонтируют?
– Смета есть, вот и займитесь, Сережа.
– Но я не строитель, – остановился Попсуев.
– А это так важно? – поднял брови Ненашев. – Я тоже массовик-затейник.
– Но это же строительство, СНИПы…
– О чем вы, голубчик? Какие СНИПы? Что такое СНИПы? Это внутренняя перестройка: убрали перегородочки, пол бросили, потолочек подшили. Косметика. Архитектор подмахнет, согласовано.
– От внутренней перестройки страна развалилась…
– Сергей Васильевич, вы, случайно, не коммунист?
– Я сам по себе.
– Смотрите, а то я уж, было, оробел. Нам тут коммунизма не надо. Да и демократии. Нам нужно одно искусство.
– С его сверхзадачей.
Баварский с нижегородским
На планерке Ненашев сообщил, что ремонт малого зала, его стараниями и талантом главного инженера театра завершен. Попсуев хотел уже спросить, с чего это взял Илья Борисович, что ремонт завершен, если к нему еще и не приступали, разве что разгребли пожарище, помыли да покрасили, но директор мягко пресек дискуссию, попросив завезти со склада кресла и шкафы.
– Видите, какой дизайн, – похвастал Илья Борисович, показывая рекламные проспекты. – Жуткие деньги ушли, будет, чем москвичам нос утереть. Шкафы для книг и подарков, а кресла!
В этот день Сергей так и не сумел спросить у Ненашева, к чему такая спешка, и как потом с мебелью доводить ремонт до ума. Но на следующий день недоумение рассеялось, когда в коридоре директор подловил его и, взяв за локоток, повел к себе. Растворив огромную фрамугу, Илья Борисович насыпал на подоконник пшено из пакетика. Голуби стали топтаться чуть ли не по его рукам.
– Я решил с ними не бороться, – пояснил он. – Коньячку?
– Благодарю вас. У меня еще поворотный механизм.
– Пустяк! Колесо обождет. Это ж не колесо истории, ха-ха-ха! – Ненашев достал коньяк. Он глядел на Попсуева маслянистыми бусинками черных глаз и, похоже, что-то соображал.
После рюмки-другой отличного коньяку Попсуеву стало тепло и всё безразлично, прошлое, настоящее, будущее. Гори оно!.. «Весь мир – театр». Шелестела жизнь за окном, ворковали и пихали друг друга на подоконнике голуби, ненасытные и злобные…
– Вот, Сергей Васильевич, смета на следующий год, соблаговолите подписать, вот тут.
Попсуев взял протянутые листы.
– Тут ваша фамилия. – Попсуев поднял глаза на директора. Илья Борисович зашмыгал взглядом.
– Фамилия? Мы тут все одна фамилия. Как в Сицилии, ха-ха! Я вас тут провел своим замом. Вот бэфель12, ознакомьтесь. С минувшего понедельника. Распишитесь – вчерашним, вчерашним днем. А смету подписывайте сегодняшним числом.
Сергей расписался в приказе, стал изучать смету.
– А почему кресла выписываем, шкафы? Мы же завтра завозим их со склада.
– А варум? Цу велхем цвек?13
– То есть, как, зачем? – Попсуев обескуражено смотрел на Ненашева.
Илья Борисович налил еще коньяку. Сергей обратил внимание, что себе он наливает меньше, чем ему.
– Сереженька, дело в том… ну, за удачу… дело в том, Сергей Васильевич, что завтра мы ничего не завезем… нихтс…
– Не завтра, так послезавтра…
– Зи нихт ферштеен14, – мягко прервал его Ненашев и доверительно сообщил: – Никогда не завезем. Зачем? Считайте, что они фербреннен, сгорели. Еще до вас. Фойер15! Шутка. Бёзен штрайх16. Нет их. Фьють. А вам я премию выпишу, за экономию. В этом году сэкономим, без экономии никак нельзя, а завезем в следующем.
– Хорошо, вам виднее, Илья Борисович. Да и это до меня было. А до меня – хоть потоп.
– Логика инженера, главного! Ну, нох айнмаль17, и по домам. Вы, Сергей Васильевич, сегодня отдыхайте, завтра делайте этот круг. Ауф видер зейн18.
– Аривидерчи, – попрощался Попсуев.
– О, Ла Скала! Гуте нахт19, – приложил к груди пустую бутылку Ненашев.
– На солнечных скалах! / Певца из Ла Скала! / С улыбкой оскала! / Я пылко ласкала! – продекламировал Попсуев и, открывая протянутой рукой двери, вышел вон, не заметив секретаршу, милую особу, про которую говорили, что «всё при ней, даже Ненашев».
– Какой человек! – глядел вслед главному инженеру директор. – Какой матерый человечище! – и, достав новую бутылку, тут же кнопочкой вызвал секретаршу, чтобы поделиться с нею своими наблюдениями.
Попсуев нашел коробку и направился в туалет собрать разбросанные обрезки труб. И тут погас свет.
– Костик? Костя, это ты? – послышался голос примы – его Попсуев уже не спутал бы ни с каким другим. – Ты куда делся?







