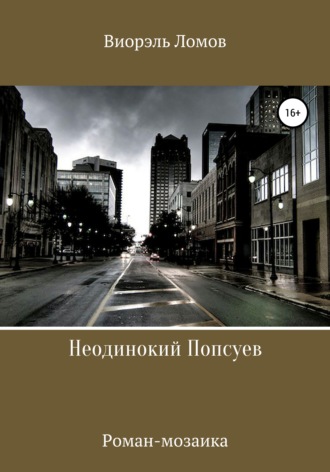
Виорэль Михайлович Ломов
Неодинокий Попсуев
– Ты куда? – кричали спасателю, смеялись, тыкали в него пальцем. Но он благополучно добрался до пристанища петуха, и тот сам съехал к нему в руки.
– Ну что, Петя, славный наш моряк, наплавался? – погладил Попсуев петуха, как кошку.
– А то, а то, а то! – ответил тот и неожиданно распрямил крылья, забил ими и, изогнувшись как гимнастка, во всю глотку заорал на всю ширь реки. А потом от полноты чувств клюнул Попсуева в руку, но не больно.
– Вот, Никодим, тебе подарок. За себя боюсь, я изверг, сожру мореплавателя, у тебя ему спокойней будет. Курочек подсадишь, потомство у Крузенштерна пойдет.
Снова встретились
Сергей встретил Несмеяну в трамвае. Они зашли в разные двери, а в середине вагона столкнулись, сели рядом и с минуту молчали. В эту минуту стало ясно, что в каждом из них есть то, чего не выразить словами и взглядами, разве что прикасанием. Такая минута не создана для общения, но подготавливает его. А когда две бездны соприкоснутся, они дадут вечность.
– Как живешь? – спросили одновременно друг друга и не подумали улыбнуться.
– Выйдем, – сказал Попсуев, увидев гостиницу «Южная». Он поднялся и направился к выходу. – Зайдем в бар.
В баре никого не было. «Это знак, – подумал Сергей. – Нам никто больше не нужен». Он взял коньяк, кофе, пирожные.
Они сидели на высоких стульях за стойкой, глядели друг другу в глаза, ждали чего-то друг от друга и не решались первым произнести слово или взять другого за руку, хотя оба хотели этого. Попсуев заметил на ее коленке маленькое белое пятнышко. Это была крохотная дырочка в незаметной штопке. У него сжалось сердце. Ему стало жалко Несмеяну. Видно, в ее центре туго с зарплатой. Он вспомнил дырку в своем носке в первый приход к ней…
– Хорошо, – сказала Несмеяна, выпив коньяк. – Кофе и коньяк хорошо. Это что, пролог? К чему?
– К эпилогу. Давай особо не мудрить.
– Ты хочешь по-простому? Сразу в номер?
– Ой, не надо! – оборвал ее Попсуев. – Разве что изменилось?
– А разве нет?
– Разве нет, – спокойно ответил Попсуев. Он решил воспользоваться ее же оружием – спокойной уверенностью в истинности своих слов. Вот только хотел говорить при этом ласково, нежно, искренне, а получалась словесная рубка. И никакой уверенности в своей правоте!
– Мне закрыть глаза на всё, что произошло?
– А что произошло?
– Произошло – для тебя, может, и ничего, а для меня – всё.
– Не думал, что тебя это трогает. Ведь ты сама выгнала меня из дома.
– Я? Выгнала тебя? Прощай. – Несмеяна слезла с высокого стула. – Полагаю, заплатить есть чем?
Попсуев молча глядел ей вслед, боясь остановить ее голосом или силой.
Неожиданно она вернулась.
– Чего ты хочешь от меня, изверг?
– Я – ничего. Я хочу покоя.
– У тебя нет его? Бедняжка.
– Не жалей меня.
– Ты же семейный человек, Попсуев. Неужто не обрел счастья в семейной жизни? Дачу купил у Семушева? Сыночку родил? Чего тебе надо еще для спокойствия? Меня? Со мной его не будет.
– И не надо. Зато со мной будешь ты!
– Тише, чего раскричался? – Несмеяна взобралась на стул. – Кто это придумал такие насесты? – она в раздражении смотрела на Сергея.
– Не я.
Только сейчас Попсуев понял, как ему плохо было без Несмеяны. Ее отсутствие он ежедневно ощущал, как потерю самого себя. Он не знал, чем заниматься, о чем думать. Не стало в жизни ни неба, ни горизонта. Исчезла из мыслей глубина, а осталась одна лишь необозримая унылая ширь, пустыня египетская. Нет больше полутонов, которые и дают только прелесть проживаемым дням, напоминающим утренние или вечерние сумерки, когда испытываешь нежность к другому человеку. О чем бы ни думал Попсуев, Несмеяна была неотвратима, как зима. В России много чего может и не быть, вот только зима будет всегда. «Но зимой должна управлять Снежная королева!»
– Чем занимаешься? – спросил он.
– По выходным хожу на рынок. Обхожу все ряды, рассматриваю продукты, прицениваюсь…
– Зачем?
– А низачем. Так просто. Время наполняю содержанием. Походишь пару часов, купишь чего-нибудь и домой плетешься. Чем не досуг? Полезное с приятным. Хватает на неделю, до следующего воскресенья.
«На рынке забываешь обо всём и не думаешь ни о ком, – не сказала она. – Там всё продается и всё покупается, и кажется, что и в жизни так. Там столько всего, на что тратишь деньги, а значит, и жизнь, и это рождает иллюзию полноценности жизни».
– А я по выходным просто хожу по улицам…
– И как? Что видишь нового?
– Пустоту. Слышал, ты… в больнице была? – осторожно спросил Сергей.
– Была, – просто ответила Несмеяна и засмеялась.
– Ты чего?
– Думала, спросишь: «Что делала там?» Умерла. А потом вдруг ожила, – Несмеяна задумалась, но тут же спохватилась: – Но это уже не я. Другая я. Когда ты сказал «Давай особо не мудрить», я почувствовала тошноту. Вот тут.
– Прости.
– Да-да, словно попала в яму с нечистотами. Как ты мог?
– Прости, это был не я. Это во мне тоже другой. Только не новый, прежний.
Другого Сергей ощущал в себе, как головную боль, но в то же время совершенно бесплотно, как и угрызения совести, которые всегда следовали за его приходом. Вернее, после того, как он уходил из него непонятно куда. Скорее всего, прятался под камень в глубине сердца. «Да нет, какой камень? Другому не надо прятаться, его и так не увидать в темноте».
– Я знаю это, – произнесла Несмеяна. – А я видела Небесную Русь.
– Что? Когда?
– Когда умерла. Я раньше боялась слова «смерть», а теперь нет. Оно обычное, как «утро», «день», «вечер», «ночь». Там похоже на Углич. Площадь, посередине возвышенное место, вровень со стенами, башнями, колокольнями… Колокола ударят, и звон не плывет, а разом наполняет всю пустоту, какая есть на свете. И будто стою я возле стен собора. Из белого камня, крупного, неровного, соразмерного общему замыслу. Гляжу на стену и думаю: это Небесная Русь, каждый человек – камень в кладке, без него будет брешь, и стена падет.
– А мы там были?
– Мы? – Несмеяна на мгновение изменилась в лице. – Там нет места грешникам. Но места для них есть.
Попсуев не мог оторвать глаз от Несмеяны, сияющей внутренним светом, исходившим от ее лица, глаз, улыбки, легких движений рук. «К ней страшно прикасаться. Она не создана для прикосновений. Прикоснешься к ней – и убьешь».
– Как он прекрасен, – сказала Несмеяна, – тот мир. Там нет гниения и суеты. Машин нет и толпы, нет мух и асфальта нет! Дороги без переходов и перекрестков, там горизонта нет! И вверх, вверх, вверх, – Несмеяна подняла руку, и Попсуев невольно залюбовался грацией жеста, – одна над другой зеленые террасы, залитые музыкой. Одни мелодии знакомы, а другие нет.
«Полет бабочки, – думал Попсуев, – ее рассуждения это полет бабочки».
– Это тебе приснилось?
– Нет, это я видела там. Как там чисто и светло. – Несмеяна отсутствующим взором глядела перед собой. Сергей догадался, что она видит то, что не видит он; он провел ладонью перед ее глазами, Несмеяна очнулась.
– Тебе тоже снятся сны? – снова спросил он.
– Это не сны.
– А что?
– Это явь. Там как на даче зимой в ясный день, только тепло.
Попсуев хотел верить ее словам, но что-то мешало сделать это. «Это другой».
Несмеяна помолчала и продолжила: – Я провела детство на море, обожала морской простор, зелень юга, загорелых ребят, мускулистых, без царя в голове, а сегодня для меня нет ничего милее речушки и плакучей ивы.
В этот момент Несмеяна напомнила Сергею льдинку, пронизанную лучом солнца. Такая была на оконном стекле на даче…
– Хочешь, покажу кое-что? Пустяк, наблюдение. Как-то на даче подумал о тебе… и написал.
– Покажи.
Попсуев вынул из кармана блокнот.
– «Красота», – прочитала Несмеяна. – Многообещающе. Сядем вон туда.
Из «Записок» Попсуева. «Красота»
«Двое мужчин на улочке и муха на стекле встретились и дальше двинулись вместе, то останавливаясь, то обгоняя друг друга. Потом муха улетела, а мужчины скрылись за рамой.
Снова в окне пусто. Лишь непослушные ветки отцветающей сирени причесывает северный ветер, они топорщатся, как старые девы, пытаясь сохранить пристойный вид.
Трепещущие от выскальзывающей из них жизни, бабочки-капустницы спешат разбиться парами по кустам смородины – разморенные крылышки снизу, ликующие сверху, и после нескольких мгновений четырехкрылого единения вновь распасться на два бескрылых одиночества, подхватиться порывом ветра и усыпать белым цветом утоптанные дорожки и сетки изгородей.
А потом на стекло снова села муха, и рядом с ней оказались мои соседи. Слева от меня живет бывший летчик, справа бывшая балерина. Знакомясь, они говорят: «летчик», «балерина».
Им веришь, так как ему на вид лет пятьдесят, и он вполне еще может летать хотя бы на местных авиалиниях, а ей лет сорок, и она в состоянии танцевать в массовке в глубине сцены. Но он не летает, она не танцует. Три года мы соседствуем, и я знаю это точно.
Они оба на пенсии, хотя и работают, он в Аэрофлоте, она в театре. Оба одиноки, как их профессии, которым они посвятили жизнь. Летать всю жизнь может только человек, не имеющий на земле корней, а танцевать – лишь тот, кто корнями держится за небо.
Они чуть старше, чем выглядят. Не внешне, а внутренне. Там им не перед кем особо молодиться. Он приземист и быстр, как боксер; в небесах он и самолет были величинами одного порядка. Она же тонка и неуловимо порывиста, и ни на миг неотделима от той природной грации, которую во Франции называют женственностью.
Она чуть-чуть выше его, но это не портит общего приятного впечатления, когда смотришь сразу на обоих. Его никогда не увидишь небритым, в драных штанах, а она всегда опрятна, как ромашка. Казалось бы, чем не пара? Они будто созданы друг для друга, но вместе их видят редко…
Три года назад я не знал, что объединяет их. Я просто любовался ими, как нечасто бывает в импульсивной жизни, когда само слово «любование» предполагает некую протяженность во времени и эластичность чувств. Тем более, на даче, где не замечаешь даже природу.
Сегодня знаю: их объединяет одиночество. Не то, что лишает крыльев, а то, что срывает с места. Когда они порознь, оба, словно в восходящем потоке, а когда вместе, парят как птицы, и он показывает, как надо летать и не падать, а она, как надо ступать по небу.
Не знаю, были ли они обременены семьями. В глазах их не видно ни тени раскаяния или обиды, и на них нет копоти домашнего очага, следов клятв, цепей и других атрибутов семейного счастья. Ясно было, что каждый из них все время жил без своей половины, особо о том не жалея, разве что рассеянно думая о «планах», пребывая временами между небом и землей.
У летчика дом из бруса, несколько угрюмый, с баней и гаражом, и только лук и картошка, а у балерины домик кукольный, радостный и уютный, две теплицы и черные, пушистые, как перина, грядки со всевозможной зеленью, какую только можно вырастить в наших краях. У него две яблони, а у нее сливы и вишни. Эти дома строили не они, но постройки удивительным образом пришлись каждому по вкусу и по душе.
Однако есть у них и нечто общее, что сказалось в геометрии крохотных площадок перед крылечками обоих домов. У него лужайка, три на три метра, с короткой густой травой, которую он равняет самодельной косилкой из раскуроченного пылесоса «Радуга». У нее квадратная клумба, тоже три на три, с простыми цветами, флоксами и садовой ромашкой. А посреди лужайки и грядки, у него и у нее, раскинулись два роскошных куста красной смородины, грозди которой до того красивы, что их не хочется обрывать. Их никто и не обрывает, и они висят до поры, когда за них не берутся птицы.
Он любит замереть в старом кресле рано утром, когда солнце уже теплое, а воздух еще прохладный, и любоваться игрой росы и мельтешением живности; а она вечером, когда солнце прохладнее воздуха и падает за дальнюю кромку леса, и цветы и куст превращаются в черные или лиловые силуэты на золотисто-голубом фоне неба, будто нарисованные на заднике сцены, любит качаться в легком кресле-качалке. Удивительно, именно в эти часы погода чаще всего балует их обоих, благоволя к этой простительной слабости.
По пятницам, за час до того, как она сядет любоваться закатом, летчик приносит косилку и подравнивает зеленые клочки и полоски за домом и вокруг теплиц. Потом он садится на скамеечку, взятую, словно из реквизита к «Жизели», она в кресло-качалку, говорят о погоде, видах на урожай, и так ни о чем.
А в субботу рано утром она приносит ему в глубокой тарелке мытую редиску или огурчики с пупырышками, колкими, как первый загар, и они, молча посидев как зачарованные перед алмазно-изумрудной лужайкой, начинают пробовать овощи, обсуждая их сочность и вкус. И хотя только семь часов утра, овощи милее чая и кофе. Тарелку летчик возвращает в следующую пятницу.
Всё. Больше ничего не происходит вот уже целый год между ними, и если сперва все соседи гадали, когда же будет не свадьба, так банька (некоторые даже наблюдали), то потом потеряли к этим странным посиделкам всякий интерес. Право, скучно, когда просто сидят.
Год назад я прикидывал, с кем из них лучше махнуться участками, чтобы они, соединившись, объединили и дачные хозяйства, но сегодня о том я больше не беспокоюсь.
Балерину звать Ксения, а летчика Петр. Петр и Ксения, Ксения и Петр – получалось очень хорошее сочетание, гармоничное и устойчивое. Не было случайных звуков в этих словах. Не было лишь самого случая, чтобы соединить их должным образом.
Случалось иногда, что они на двоих брали подводу навоза или машину земли. Как-то брали уголь, березовые чурбаки. Я им сразу же разрешил ссыпать их возле моего участка, и они каждый растаскивал в свою сторону, она на аккуратной колясочке для кукол, он в широкой тележке, не иначе, с каменоломни.
Петр несколько раз брался помочь ей, но она останавливала его порыв мягко, но решительно:
– Зачем, Петр Семенович? Мне нужна физическая нагрузка. Перетаскаю. – И перетаскивала иногда до поздней ночи.
Он поглядывал в ее сторону, но не смел более предлагать свою помощь. Все хорошо помнили, как пять лет назад, когда они оба почти одновременно приобрели свои участки (Петр только-только въехал), к ней ввалился Геннадий из дома наискосок.
– Чего забор-то поехал, соседка? Сикось-накось! Мужик-то где? – проорал он. – Нету, что ли? Это поправимо! Айн, цвай, драй, фир, ин ди шуле геен вир!
Через пять минут Геннадий принес из дому топор, клещи, гвозди, рейки. Заходя во двор, деловито отодвинул хозяйку в сторону, подравнял линию изгороди, по горизонту и высоте, заменил несколько планок, а через час заявился сияющий, с портвейном, запахом лосьона и песней «Вологда».
Ксения подошла к забору, отодрала прибитые им планки, выбросила их на дорогу, отворила калитку и молча указала на нее рукой. Пальчики ее брезгливо подергивались: вон, мол, поди вон! А на лице и даже во всей фигуре было такое выражение, которого мужику лучше бы и не видеть никогда. Актриса, словом. Вышел Гена, поджав хвост, и больше помощи не предлагал.
На моей облепихе есть причудливое сплетение веток, напоминающее «Демона» Врубеля, только не сидящего, обняв колени руками, а вставшего на краю пропасти и готового вот-вот сорваться в бездну. Ветер только усиливал впечатление.
Вот как раз под этим демоном рядом с мухой появились Петр и Ксения. Как этюд, рожденный тою же невидимой кистью, что вывела и демона. Летчик и балерина стояли напротив друг друга, почти обнявшись, и разговаривали. Она изящным росчерком длинных пальчиков рисовала в воздухе что-то похожее на обещание, а он загонял квадратную ладонь то в штопор, то в мертвую петлю, а тело, казалось, повторяло эти пируэты.
Меня будто вынесло что из дома. Я вышел и направился по дорожке к калитке. Голоса стихли, послышалось:
– Договорились?
– Договорились.
Они даже не удосужились поздороваться со мной. Что-то случилось, решил я. И не ошибся.
Вчера, то есть, в пятницу, они удивлялись, что впервые вечер приобрел малиновый отсвет. Ни разу еще она не наблюдала такой удивительной прозрачности воздуха, насыщенного легким малиновым ароматом, звоном и цветом. Будто малина созрела в небесных садах, и дождь и солнечный свет омыли ее, просеялись на землю радужной пылью и осели на всем сияющими капельками радости.
Из-за поворота появилась женщина в шляпке с четырьмя детьми-погодками. Старшему мальчику было лет десять. Они будто вышли из шестидесятых годов, когда из дома не просто выходили на прогулку, а совершали ритуальный выход в парк или кукольный театр. Во всяком случае, в приличных семьях. Отсутствие небрежной детали в одежде и прическе детей заставляло думать, что их мать либо запуталась во времени, либо находится в плену ложных иллюзий относительно нынешних канонов пристойности и добропорядочности; дальше этого подобные соображения не шли, так как все в детках было гармонично. Как бывает гармонично то, что уже навсегда ушло из жизни.
– Они словно оттуда… – заметил летчик, забыв, о чем он только что говорил.
– Вы правы, Петр Семенович, сейчас так за собой и за детьми не следят.
– Да, Ксения Всеславна, мы многое потеряли, перейдя к демократической форме одежды.
– И к единственному ребенку в семье.
Воцарилось молчание, в котором вопросы с обеих сторон, словно набухшие капли, вот-вот готовы были сорваться с уст.
– А у вас есть дети? – спросили одновременно и облегченно вздохнули.
– Сын, – сказала она. – В Англии, учится.
– Дочь, – ответил он. – Замужем, в Киеве.
О своих половинах ни слова. Точно их и не было на свете. Никогда? Что ж, будем считать, что никогда.
– И как он там?
– Нравится. И не нравится. Чванливые, ровней чужаков не считают.
– А в Киеве, как и у нас, если не обращать внимания на всяких горлопанов.
Оба смолкают и любуются всем, что им подарил Господь…»
Так какая красота спасет мир?
– Да, красота. – Несмеяна закрыла блокнот. – Пойдем, прохладно стало. Это ты не обо мне подумал. О себе и об этой Ксении. Я ее, кстати, знаю. А Петр? Петр – ты? Да, ты. На пенсии – не рановато? Что ты хотел сказать этой вещью?
Сергей услышал в ее голосе потаенную грусть.
– Тебе не понравилось? – тихо спросил он. От напряженного ожидания ее похвалы у него даже пересохло во рту.
– Не в этом дело. Ведь пишут не затем, чтобы понравилось, хотя в основном для этого. Пишут, чтобы сказать нечто сокровенное.
У Сергея сердце екнуло, оттого что Несмеяна произнесла слово «сокровенное». «Она почувствовала мое раскаяние, но не увидела его».
– А что, не ясно, о чем я хотел сказать? – с усилием выговорил Сергей.
– Ясно. Очень даже хорошо понятно. «Красота спасет мир».
– Вот!
– Но не такая же красота! Ты утверждаешь, что нормальные отношения людей сегодня кажутся уже ненормальными, и они, эти нормальные отношения, и есть Красота, которая спасет мир. Какой мир? Пошлый и похотливый? Не спасет. Знаешь, почему? Потому что твоя «красота» – часть этого пошлого мира, – Несмеяна провела рукой с блокнотом перед собой. – У тебя о красоте слишком много слов, но они мир не спасут. Даже если весь мир дружно проскандирует их, они не спасут его.
– Ты права, Несь… Но и я прав.
В парке на лужайке хороводились собаки, пять кобелей и сука.
– Как у людей, – махнул рукой Попсуев на собачью свадьбу.
Несмеяна ничего не ответила. Когда взошли на мост через реку, Несмеяна остановилась и долго смотрела вниз. Там возле серой уточки кружили три селезня, один из них, самый крупный, то и дело прогонял соперников от своей избранницы. Несмеяна вдруг рассмеялась:
– Не только у собак, у птиц то же самое… – а потом вдруг заплакала и воскликнула: – Как ты мог! Как ты мог, Сергей?!
– Прости меня, – сказал Попсуев. – Я скотина.
Через долгую минуту молчания Несмеяна произнесла:
– Я простила тебя. Прости и ты меня. Ты не скотина.
– Не прогонишь? – спросил Сергей, когда они подошли к дому Несмеяны.
– Я тебя никогда не прогоняла, – ответила она.
– А как же записка: «Одобряю выбор, проваливай навсегда»?
– Какая записка? Не помню. До больницы? Я тебя не прогоняла. Ты сам ушел. А наш уговор помню. Восемь дней осталось.
Несмеяна открыла дверь, Попсуев с щемящим чувством зашел в прихожую.
– Восемь так восемь, – вздохнул он. – Если восьмерку положить на бок, получится бесконечность. А что тут чемодан?
– Не успела убрать. Задвинь его за шторку.
И снова в окна светила круглая луна и не давала уснуть обоим. Им так много хотелось сказать друг другу, но что-то мешало сделать это! Оба боялись того, что могло навсегда разлучить их. Под утро Попсуев забылся, а когда очнулся, обнаружил на столе записку на томике Стефана Цвейга.
«Сереженька! Вернись к Татьяне, не разрушай семью. Она тебя любит. Меня не ищи. Я давно собиралась уехать, да всё тянула, думала, встречу тебя, тогда и поеду. Бог дал, встретила. «Единственное средство побороть любовь – бежать от неё», – так, кажется. Неся. P.S. Ключ отдай тете Лине. И подари ей Цвейга».
Из «Записок» Попсуева
«…– Тебе, Сергей, пиво. – Берендей достал из огромной сумки ящик пива. – А вам, господа Валентин и Викентий, Михаил и Иннокентий, ящичек горилки и две палки колбасы. Колбаса-то с жирком! С перцем! Твердая! Последний день Помпеи! Это я не тебе, Полкан. Лежи, лежи. Не начинали еще. Не обойдем.
Полкан-Помпей, не мигая, следил за происходящим на столе, стараясь не упустить главного момента – нарезки колбасы. Обычно ему перепадали самые сладкие хвостики, шкурки и, разумеется, отдельные кусочки, не вписывавшиеся в габарит контрольных образцов нарезки. Полкан, как вполне искушенный в подобных церемониалах пес, старался получить свое до праздничного салюта, когда делятся на четвертушки, восьмушки и еще мельче последние кусочки хлеба, колбасы и огурца, и когда ему предлагают выйти освежиться на воздух, точно пили не они все, а он один…
…не верится, что мудрые мысли делают человека мудрым. Слушать надо собственное сердце. Не хочется думать о чем-то, где присутствуют умные слова. Хочется полежать у реки на зеленой траве или желтом песке, хочется забыть о том, что живешь в мире, населенном не муравьями и травинками, а людьми и их мыслями. Хочется уйти от решения проблем, которые люди ставят перед собой с единственной целью: всё время чувствовать себя человеком, то есть животным, изгнанным из Рая…»
Эпилог-триптих
«Февраль. Достать чернил и плакать!» Створка первая
…Его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу… Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг…
Амброз Бирс
Когда настал февраль, а зима была еще в самом разгаре, и казалось, что земля остыла окончательно, и тепло не наступит больше никогда, Попсуеву стало совсем нехорошо. «Я не могу больше без нее, – решил однажды Сергей. – Я не могу больше без Несмеяны. Надо найти ее». Отбросив в сторону сомнения, взял купленные еще до Нового года французские духи и направился к ней. Сергей был уверен, что она дома, что она вернулась. Она встретит его, откроет дверь и скажет: «Пропащий вернулся!» И он ответит: «Я не пропащий, но я вернулся!»
Погода была отвратительная. Не сильный, но упругий, сырой, пронизывающий до костей северо-восточный ветер к вечеру усилился, переходя в метель. Усилился и мороз, резко и сухо. Из-за поворота выполз трамвай, квадратный, неуклюжий, холодный. Чуть ли не тот, в котором они встретились в последний раз. Внутри вагона, казалось, перекатывается оледенелый ком желтоватого света, стоял жуткий колотун. Пассажиров не было. Кондукторша толклась в будке водителя, согреваясь калорифером и болтовней, а вагоновожатым был не иначе как сам Харон.
«Дуют ветры в феврале, / едут люди в Шевроле, / а я еду на трамвае / из гостей навеселе, – проползали в голове строчки, как серые дома за стеклом. – Что же это я полушубок не надел? А, надо было пуговицу пришить. Время пожалел. Можно ли оценить время, которое у тебя есть? А то, что потерял? А то, которого у тебя уже никогда не будет?»
И тут Сергей заметил, что едет в противоположную сторону. «Как же так?» – подумал он. Попсуев вышел из вагона, но решил пересесть не на обратный трамвай, а пройти переулком к автобусу. Прячась от обжигающего встречного ветра, поднял шарф до глаз и надвинул шапку на брови. Глаза слезились, козырек мешал обзору, хотя он и не нужен был, обзор, на этом тихом тротуаре. «А вокруг никого – ни машин, ни шагов, только ветер и снег», – вспомнил старую песню.
Девочка вдруг выросла перед его глазами и зажмурила глаза, и было у нее бледное-бледное личико, как двенадцать лет назад, когда она поднялась с асфальта. «А ведь она появляется всегда в переломный момент моей жизни, – вдруг пришло Попсуеву в голову. – И всегда предупреждает о чем-то. О чем? Да о том, о чем я ее не предупредил, – об опасности для жизни. Не попытался даже спасти ее, хотя мне это ничего не стоило. И кроме меня некому было спасти ее. Достаточно было согнать с перил. О чем же сейчас она предупреждает меня? Или в очередной раз указывает на мою…»
– В-вжи-кх!
Навстречу ему, едва не сбив с ног, пронеслась машина. Темная, огромная, с выключенными фарами. Пола пальто и рукав чиркнули по ледяной плоскости. Не успел Сергей еще осознать то, что был на волосок от гибели, а уже развернулся вслед машине, махал кулаком и орал нечленораздельно и яростно. Черная машина уходила вдаль. Красные огни делали ее еще более зловещей. Чего их занесло на тротуар? Сбить хотели? Пьяные? Придурки!
Попсуев сплюнул и пошел дальше – и тут же ощутил ужас. Обернулся – машина была в десяти метрах от него! Сергей прыгнул вверх, пролетел над машиной, оттолкнувшись от нее левой и тут же правой ногой, удачно приземлился – на четвереньки, как кошка. Машина с шипением проскользнула под ним. Сергей увидел себя как бы со стороны – целая серия кадров – и пожалел, что не осталось свидетелей столь славному трюку. Вот только по всем законам физики он должен был перекувыркнуться и растянуться на асфальте.
Автомобиль, затормозив, круто развернулся и с включенными фарами вновь устремился на него. Он был в десяти метрах, когда рядом с Сергеем вновь оказалась та девочка и в ужасе прижалась к нему. Ему бросился в глаза номер машины. Это был BMW Свиридова!
Попсуев забыл обо всём на свете. Перед ним был смертельный враг, а в нем одна лишь ярость, вулкан ярости. Через секунду его жизнь и его смерть столкнутся лоб в лоб – н-не-ет!!! Дальнейшее, как в рапидной съемке, пропечаталось отдельными кадрами в память, но было как бы и не его. Он уперся ногами в землю, как, наверное, упирались в нее былинные богатыри перед схваткой с врагом, неистово устремил себя в сотую, тысячную долю последней своей секунды, так что всё стало протяженным, как кошмар, руками подцепил наползающий на него никелированный бампер и опрокинул машину набок. Он дрожал от возбуждения и переизбытка непонятно откуда взявшихся в нем сил. Небывалый прилив энергии прошел по нему двумя упругими потоками, снизу и сверху. Будто земля и небо даровали их ему. Не опрокинь он автомобиль, его самого разнесло бы на части.
Машина, хрипя и продирая бок, как издыхающий дракон, сыпала искрами, стеклами, била дверцей, как хвостом. Остановилась, лишь вращались колеса. Через несколько секунд выпал один человек, второй. Попсуев направился к ним. Первый, прихрамывая, заковылял прочь. Второго парализовал страх, и он, защищаясь рукой, судорожно кривил рот, стараясь выдавить из себя какие-то слова. Сергей, всё еще дрожа от возбуждения, подошел к нему с намерением бить, бить, бить… – но удержался, хотя чувствовал, что способен был в этот момент и убить, будто кто-то другой специально подзуживал его. Он толкнул пятерней парня, тот повалился на землю. Но самого Свиридова не было.
Попсуев ощутил тяжесть пальто, шапки, пустоту в себе… Дунь ветер, и его подхватило бы, как полиэтиленовый пакет. Словно в подтверждение, порыв ветра едва не свалил его на землю, но он удержался и заставил себя уйти с этого места. В теле, будто чужом, была лишь слабость и дрожь. Собственно, и тела-то не было, какие-то затихающие вибрации ужаса, ярости и вдохновения. Словно умер только что и попал в другую реальность, где сила становится слабостью, а слабость силой, где всё знакомое стало чужим, а незнаемое своим.
Спустя какое-то время, когда Сергей очутился на освещенном проспекте и к нему вернулась способность воспринимать себя, мир, случившееся, он даже улыбнулся от чувства гордости за себя и презрения к подонкам. И тут Попсуева забрала такая тоска, будто зима ворвалась к нему с диким воем в душу…
Хорошо, что за поворотом показался Несмеянин дом. Сергей нажал на кнопку звонка. Тот прожужжал, как летняя муха, далеко и тревожно. «Как можно жить с таким тревожным звонком», – подумал Попсуев. Открылась дверь. Глаза. И в глазах он. Он, и никто другой!
– Зайду?
– Заходи.
Остановилось мгновение.
– Чай будешь?
– Меня только что чуть не сбила машина.
– Где?
– Да тут неподалеку, в Третьяковском переулке.
– Неподалеку? Это ж в Октябрьском районе.
И только тут до Попсуева дошло, что он не помнит, как добирался пешком из того переулка до Несмеяниного дома…
…Гасли один за другим фонари. Исчезали снежинки в сиреневом свете, угасали матово-серебристые струйки поземки. Таял сиреневый цвет, цвет жизни.
Мужчина лежал, утопая в боли и любви. Боль шла вглубь, горячая, ледяная, разрастаясь там и заполняя всего его изнутри, вытесняя любовь, которая сочилась наружу, почти невидимая в ночи, пульсирующая как угасающий, дрожащий сиреневый свет последнего непогасшего фонаря. И в этом свете были все, кто когда-то любил его, даже те, кого он никогда не любил. Они медленно шли мимо него, смотрели на него с любовью и растворялись в сумраке ночи.
– Всех вас я люблю, – признался Попсуев. – Простите мне все!
Подъехала машина. Над ним склонились люди.
– Жив еще. Может, успеем. Носилки неси…
Силы небесные. Створка вторая
– Ты гля… – Викентий едва не выронил вареник изо рта. Выскочил на крыльцо, за ним следом напуганный пес. – Полкаш, видал? Чего это, а?
Пес задом протиснулся в конуру под крыльцом и шумно задышал.
– Сцышь, брат? И я сцу. А ты не сцы! С нами силы небесные!
Викентий с трудом проглотил вареник и, задрав голову, ошеломленно глядел в небо, где, только что осияв синюю местность, аки молния, и страшно тарахтя, пролетело что-то. «Почудилось, – решил Викентий. – И ему, что ли?» Полкан явно струхнул. Откуда молния зимой, да еще 31 декабря?
– НЛО? – спросил сторож. – Как думаешь? Или метеорит?
Полкан дышал.
– А что, вернутся и нас с собой заберут. А? Сгодимся там… где-нибудь. Всё лучше, чем тут, а, как думаешь?
Пес не спешил с ответом.
– Пошел я, продрог. – Сторож почувствовал холод и вернулся в дом, оставив дверь приоткрытой. Через несколько минут вышел на крыльцо.
– Ну, ты чего? Хату выстудишь. Иди, вареник дам.
Пес не купился на вареник. «Напугали, паразиты!» И тут вновь осияло землю, и над обществом с тарахтением пролетело то же, только теперь туда, откуда прилетело. Но не скрылось, а стало опускаться на луг возле реки. «Удобное место для посадки, – одобрил Викентий, – далековато, правда, до точек человеческой цивилизации, если, конечно, хотят выйти на контакт. Надо, значит, самому идти. Больше тут некому. Вряд ли кто остался на ночь. Прям сериал «Секретные материалы»!» Днем сторож слышал, как со стороны Трех лилий раздавались шум и голоса. Берендей, наверное, приехал. Из-за снежных завалов не пошел к нему. «На снегоходе, мог бы и сам ко мне заглянуть», – запоздало обиделся Викентий.







