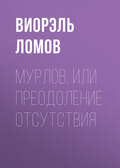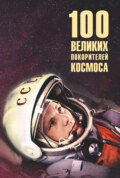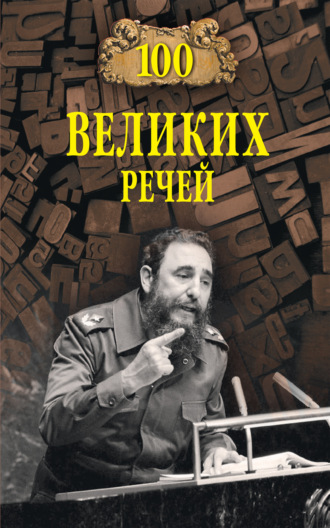
Виорэль Ломов
Сто великих речей
Речи Цицерона «Против Катилины» (63 г. до н. э.)
Более чем из 110 политических и судебных речей Цицерона судьбоносными для Рима стали четыре его речи против римского политического деятеля (претора, наместника провинции Африка), главы антиреспубликанского заговора Луция Се́ргия Катилины (108—62 гг. до н. э.). За заслуги в подавлении заговора Катилины римский сенат впервые пожаловал Цицерону почетный титул «Отец Отечества».
Раскрытие и подавление заговора Катилины для агонизировавшего республиканского Рима были что мёртвому припарки. Цицерон лишь немного отсрочил наступление диктатуры. А может, и ускорил. За 7 лет, прошедших со времени произнесения им речей против Верреса (см. предыдущий очерк), Рим еще больше погряз в пучине алчности и коррупции, роскоши и разврата. Сам же Цицерон в 63 г. до н. э. достиг высших степеней признания римским обществом и был избран консулом. Его консулат обострил противостояние между ним и другим неоднократным соискателем консульства – ближайшим сподвижником недавно умершего диктатора Суллы, членом сената Луцием Катилиной, разорившимся патрицием, с младых лет неистово жаждавшим захватить власть в Риме и установить режим личной диктатуры. Снискав доверие народа своей политической программой по ограничению полномочий сената, предоставлению земли городским плебеям и отменой старых долгов, Катилина «имел успех среди низших слоев населения, разорившихся ветеранов Суллы и обедневших нобилей». Античные авторы (Саллюстий, Плутарх и др.) не жаловали заговорщика, оставив для потомков его зловещий портрет – убийцы и мерзавца. Так, например, Саллюстий писал, что «в столь большой и столь развращенной гражданской общине Катилина… окружил себя гнусностями и преступлениями… Ибо любой развратник, прелюбодей, завсегдатай харчевен, который игрой в кости, чревоугодием, распутством растратил отцовское имущество и погряз в долгах, дабы откупиться от позора или от суда, кроме того, все паррициды (убийцы отца, родичей. – В.Л.) любого происхождения, святотатцы, все осужденные по суду или опасающиеся суда за свои деяния, как и те, кого кормили руки и язык лжесвидетельствами или убийствами граждан, наконец, все те, кому позор, нищета, дурная совесть не давали покоя, были близкими Катилине и своими людьми для него». Особое внимание историк обратил на молодых людей, податливых и нестойких, которых Катилина легко подкупал всевозможными способами.
Катилина вовлек в заговор большинство сулланцев – немалые силы на территории всей Италии, в т. ч. войска под командованием центуриона-сулланца Гая Манлия. Узнавшие о планах Катилины, Цицерон и сенат нанесли по заговорщикам упреждающий удар. На созванных заседаниях сенат передал консулам чрезвычайные полномочия и привлек Катилину к суду по обвинению в насильственных действиях.
Тогда Катилина решил идти ва-банк: убить Цицерона, его сторонников сенаторов, устроить резню и грабежи в Риме, поджечь город в 12 местах. Однако покушение на Цицерона сорвалось. Консул усилил охрану города, срочно созвал сенат и произнес свою первую обвинительную речь против Катилины, где он, не предъявляя улик, предложил заговорщику покинуть Рим. «Припомни же, наконец, вместе со мной события достопамятной позапрошлой ночи, и ты сразу поймешь, что я с гораздо большим усердием неусыпно охраняю благополучие государства, чем ты готовишь ему гибель», – произнес консул. Катилина пытался оправдываться, но сенат не внял ему – слишком свежи были в памяти проскрипции (истребление граждан без суда и следствия) по воле Мария, а затем Суллы. Той же ночью Катилина сбежал к верным ему войскам. После этого Цицерон на форуме произнес вторую речь против Катилины, в которой предостерег заговорщиков от каких-либо выступлений. Катилина и Манлий были объявлены государственными преступниками. Цицерон, провозглашенный «Отцом Отечества», произнес на форуме третью речь против Катилины, а через день и четвертую, в которой поддержал требование о смертной казни руководителей заговора, еще не покинувших Рим – Лентула, Цетега, Габиния и Статилия. Главарей казнили. Сулланская армия Катилины была разбита в бою правительственными войсками. «Самого Катилину нашли далеко от его солдат, среди вражеских тел. Он ещё дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой он отличался при жизни» (Саллюстий).
Практически все речи Цицерона были крайне эффектны и успешны, соответствуя всем ораторским правилам. Именно речи помогали ему как политику управлять государством. Специалисты считают, что Цицерон ставил перед оратором «три основные задачи: доказать свое положение, т. е. продемонстрировать истинность приводимых фактов и аргументов; доставить эстетическое удовольствие; воздействовать на волю и поведение, побудить людей к активной деятельности». Сам он неукоснительно следовал своим заветам и заслуженно стал не только «Отцом Отечества», но и «отцом латинской литературы и красноречия». Все четыре речи Цицерона против Катилины были опубликованы в 60 г. до н. э. и стали единым эталоном ораторского искусства.
Историки отмечают, что Цицерон непомерно тщеславился тем, что раскрыл и подавил заговор Катилины и всячески превозносил самого себя в своих трудах. Плутарх отмечал, что «ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав ещё раз старой песни про Катилину… он наводнил похвальбами свои книги и сочинения, а его речи, всегда такие благозвучные и чарующие, сделались мукою для слушателей». Оно так, но, с другой стороны, имел право.

Цицерон обличает Катилину. Художник Ч. Маччари. 1889 г.
О красоте слога, эмоциональном напряжении речей Цицерона можно судить по нескольким летучим фразам. Вот как начал Цицерон свою первую речь против Катилины: «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что́ делал ты последней, что́ предыдущей ночью, где ты был, кого сзывал, какое решение принял?»
Тут же идет фраза, которую и ныне все ораторы любят произносить на латыни: «O tempora! O mores!» – «О, времена! О, нравы!». Есть, правда, разница между древним миром и современным. Произнесённая консулом Цицероном, она подвигла римлян к решительным действиям, а сегодня превратилась в заезженную цитату, говорящую более о бессилии оратора изменить установившийся порядок вещей.
Речь Цезаря в битве при Фарсале (48 г. до н. э.)
Древнеримский государственный и политический деятель Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) остался в истории как искусный полководец, писатель и публицист. Талант оратора помогал ему в ожесточенной борьбе с политическими противниками и в подъеме духа офицеров и солдат своей армии. Исторические и литературные источники сохранили вдохновляющую речь Цезаря, обращенную к воинам перед битвой при Фарсале (Фессалия, Греция) в 48 г. до н. э. Эта битва явилась генеральным сражением Гражданской войны в Риме (49–45 гг. до н. э.), в которой Цезарь победил своего главного врага Гнея Помпея Великого, после чего сконцентрировал в своих руках власть консула и чрезвычайные полномочия диктатора.
В 53 г. до н. э. после гибели в битве с парфянами при Каррах (Месопотамия) полководца Марка Лициния Красса Первый триумвират (союз трех – Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея и Красса) распался. Триумвиры Цезарь и Помпей, которые ранее вместе противостояли сенату и фактически были хозяевами республики, оставшись вдвоем, в неуемном стремлении к единоличной власти над Римом превратились к 50 г. до н. э. в заклятых врагов. У каждого полководца была своя армия: у Помпея в Италии, у Цезаря в Цезальпийской Галлии, где он исполнял обязанности проконсула. В противостоянии бывших триумвиров сенат поддержал Помпея, наделив его чрезвычайными полномочиями, а проконсула пригрозил объявить врагом народа, если он с войсками явится в Рим. Цезарь пошел ва-банк. 10 января 49 г. до н. э. он приказал пятитысячному XIII легиону и тремстам кавалеристам перейти через речку Рубикон и вступить на территорию республики. Так началась очередная гражданская война. Помпей и сенат не смогли оказать сопротивление узурпатору. Помпей вывел войска из Рима, а затем и из Италии в Грецию. Цезарь, поддержанный гражданами, занял Вечный город.
После короткого победоносного похода в Испанию он перебросил свои легионы в Грецию, где намеревался покончить с Помпеем. Из-за малочисленности армии (15 тыс.), усталости, вызванной длительными переходами, и недостатка продовольствия Цезарь проиграл первую битву, произошедшую 10 июля 48 г. до н. э. у города Диррахия. Потеряв 900 легионеров и 200 кавалеристов, полководец тем не менее сохранил боеспособное войско и сумел мобилизовать офицеров и солдат к решающему сражению у Фарсала.
Сразу же после битвы при Диррахии Цезарь произнес речь, в которой «сказал войску, что поведет его на врагов при более благоприятных условиях, и призывал их не забывать своей готовности, а друзьям он добавил, что прежде надо избавить войско от великого страха, порожденного поражением, а врагов лишить сознания, что их дела находятся в цветущем состоянии. Он… немедленно направился в Аполлонию, а оттуда ночью стал скрытно отступать в Фессалию… В течение семи дней усиленно передвигаясь, расположился лагерем у Фарсала» (Аппиан). В битве под Фарсалом 9 августа армия Помпея была разгромлена и рассеяна. Помпей бежал в Египет с намерением набрать там новое войско, но при высадке с корабля на берег был коварно убит по приказу советников юного египетского царя Птолемея XIII. Провинции и зависимые царства Востока поспешили признать власть победителя. Путь к пожизненному диктаторству Цезаря (44 г. до н. э.) был расчищен, но он привел полководца и к преждевременной смерти.

Цезарь в битве при Фарсале
Перед фарсальским сражением Цезарь обратился к войску с речью, которую можно найти в «Римской истории» древнеримского историка Аппиана Александрийского.
«О, друзья, наиболее трудное мы уже одолели: вместо голода и нужды мы состязаемся теперь с людьми. Этот день решает все. Вспомните, что вы обещали мне при Диррахии и как вы на моих глазах клялись друг другу не возвращаться без победы. Это те самые люди, на которых мы идем от Геркулесовых столпов, которые убежали от нас из Италии, те самые, которые нас распустили без вознаграждения, триумфа и даров, нас, сражавшихся в течение десяти лет, нас, совершивших столько войн и одержавших бесчисленное множество побед, нас, приобретших для отечества 400 племен иберов, галлов и британцев. Хотя я их призывал к справедливости, они меня не послушались. И щедрость моя на них не подействовала. Вы знаете, что я некоторых отпустил, не причинив им никакого вреда, надеясь, что ими все же будет оказана нам хотя бы некоторая справедливость. За все это в совокупности вы мне сегодня воздайте, за все о вас, если вы это сознаете, попечение, верность и щедрость в вознаграждении.
К тому же вам, войскам, во многих трудах испытанным, одержать верх над новобранцами тем более легко, что они склонны, как мальчишки, еще к недисциплинированности и непослушанию своему военачальнику, о котором я узнал, что он со страхом и вопреки своей воле выступает в бой, так как счастье его уже склонилось, и он во всем стал вял и медлителен и не столько повелевает, сколько подчиняется. Все это я говорю только об италийцах; что же касается их союзников, то о них не думайте вовсе, не принимайте их в расчет и не сражайтесь с ними совершенно, ибо сирийцы, фригийцы и лидийцы – рабы и всегда готовы к бегству и рабству. Им, я это твердо знаю, и вы это сами скоро увидите, даже сам Помпей не поручит сражаться в боевых рядах. Следите только за италийцами, не обращая внимания на то, что союзники, наподобие собак, будут бежать вокруг вас и поднимать шум. Но обратив врага в бегство, италийцев как своих единоплеменников щадите, а союзников истребляйте, чтобы навести ужас на тех. Но прежде всего нужно, чтобы я видел, что вы помните свое обещание победить или умереть; поэтому разрушьте, выступая в бой, возведенные вами укрепления, засыпьте ров, чтобы у нас ничего не оставалось, если мы не победим, чтобы враги видели, что вы не имеете своего лагеря, и сознавали, что у вас нет иного выхода, как занять их лагерь».
Среди специалистов нет единого взгляда на достоверность речи Цезаря при Фарсале. Одни предполагают, что слова речи целиком были придуманы Аппианом, другие сомневаются, что она, будучи произнесенной, вряд ли была услышана десятками тысяч воинов (в битве на стороне Цезаря приняли участие от 22 до 30 тыс. человек). Одно не подвергается сомнению, Цезарь речь произнес. Этого требовало не только тягостное ожидание начала сражения, но и долг полководца, который перед каждым боем обращался со словами напутствия своим воинам. Полководец должен был ясно, кратко и с силой призвать их к сплочению и воодушевить на победу. То же самое сделал перед сражением и Помпей. Его речь также приводит Аппиан.
В связи с этим представляет большой интерес исследование американских ученых, которые осуществили акустическое моделирование речей Юлия Цезаря перед армией (https: //pikabu.ru/story/). В моделировании были учтены особенности окружающей местности и ландшафта, геометрические свойства, площадь, которую занимали войска, и плотность построения, шум от гремящих доспехов и природных объектов, возраст, опыт и качество речи оратора (Цезарь отличался выдающимся красноречием!), громкость его голоса и даже настроение войска (подавленное или возбужденное) и явление дифракции, учитывавшее акустический эффект грунта.
Согласно результатам, речь Цезаря при Деррахии могли сразу слышать все 14 тыс. легионеров, а при Фарсале только от 500 до 700 человек. Если речь полководца могла услышать только одна когорта из 500 человек, – предположили акустики, – то Цезарь должен был находиться между линиями марширующих когорт и перед каждой когортой повторять свою речь. Историографы с этим вариантом согласились.
Создатель риторики Марк Фабий Квинтилиан (I в.)
Всеобщим и неоспоримым званием лучшего учителя красноречия для ораторов от I века до нынешних дней обладает римский ритор, автор сочинения в 12 книгах «Об ораторском образовании» («Наставления оратору») – Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96). «Наставления…» – самый полный учебник ораторского искусства, дошедший до нас от Античности. Квинтилиан, впервые в мировой истории основавший государственную школу, стал первым педагогом-профессионалом, воспитавшим многих знаменитостей древности: государственного деятеля, писателя и адвоката Плиния Младшего, историка Тацита, римского поэта-сатирика Ювенала и др. Тысячи политиков, государственных деятелей, адвокатов учились на его книгах искусству красноречия. Квинтилиан считается реформатором литературного стиля, исследователем проблем латинского языка.
Выдающихся музыкантов-исполнителей взращивают великие учителя. Знаменитых ученых формируют крупные научные школы – вспомним философские школы Пифагора и Аристотеля или семинары крупнейшего физика XX в. академика Петра Леонидовича Капицы. Капица сказал как-то: «Крупный учёный – это необязательно большой человек, но крупный учитель не может не быть большим человеком». Квинтилиан – тому пример. Блестящий педагог, который не только видел и развивал таланты в своих питомцах, но и наставлял учеников грядущих веков законам риторики, архитектонике выступлений, высоте помыслов.
Будучи потомственным оратором, Квинтилиан получил блестящее образование в Риме и быстро приобрел славу первоклассного оратора. На некоторые его выступления съезжались любители красноречия со всей Италии. Перелопатив всю накопившуюся к середине I в. греческую и римскую литературу по ораторскому искусству, он выработал собственные каноны риторики. После непродолжительной адвокатской деятельности Квинтилиан занялся воспитанием юношества в качестве учителя красноречия. Основав государственную школу, в которой воспитывал из своих учеников достойных римских граждан, Квинтилиан за свои труды получал достойное жалованье в 100 тыс. сестерциев из казны императора Веспасиана (69–79.). Не оставляли вниманием учителя и дети Веспасиана, римские императоры из рода Флавиев – Тит (79–81) и Домициан (81–96). Домициан, например, поручил Квинтилину воспитание внуков своей сестры Домитиллы и наградил его знаками консульского звания.
После 20 лет учительства педагог, пользовавшийся непререкаемым авторитетом, оставил школу и переключился на литературные сочинения. Приступая к своему труду, Квинтилиан хотел создать его для своих детей, но он потерял их в процессе написания. Однако свое сочинение он довел до конца. Работа «О причинах порчи красноречия» до нас не дошла. Могло не дойти и «Об ораторском образовании», если бы не настойчивые требования издателя-книгопродавца Трифона обнародовать этот труд.
«В предисловии к 1-й книге Квинтилиан заявляет, что он будет иметь в виду образование совершенного оратора, которым, по его мнению, может быть только хороший человек (vir bonus); поэтому оратор должен обладать не только особенным даром слова, но и всеми хорошими душевными качествами. Такого оратора, который был бы истинным философом не на словах, а на деле, и в то же время был бы совершенным и по научному образованию, и по способности красноречия, правда, еще никогда не существовало, но стремиться следует всегда к самому высокому» (В.И. Модестов).
Квинтилаин с первых же строк, не тратя слов на реверансы, берет быка за рога. Образование оратора, заявляет автор, должно начинаться с трех лет. Он произнес однажды (и эта фраза стала крылатой): «Ab ovo Ledae incipere» – «Начинать от яйца (или же яиц) Леды», то есть подробно исследовать любое дело и воспитывать с пеленок. Вот как он начинает 1-ю главу «О воспитании будущего оратора» 1-й книги.

Марк Фабий Квинтилиан дает уроки риторики. Гравюра 1720 г.
«Как только родится сын, отец должен с того же самого времени возложить на него самые лучшие надежды. Это сделает его более заботливым с самого начала. Ведь мы несправедливо жалуемся, будто бы природа весьма немногим людям дала способность к наукам и будто бы большинство, по своему тупоумию, напрасно тратит труд и время. Напротив, мы найдем немалое число людей восприимчивых и способных к учению. Это заключается в природе человека: как от природы дано птицам летать, коням бегать, диким зверям быть свирепыми, так нам достались в особенный удел разум и понятливость; это заставляет думать, что наша душа небесного происхождения. Тупые и не поддающиеся учению умы появляются столько же против законов природы, как и всякие другие уроды и чудовища в физической природе, но таких бывает очень мало. Доказательством этого служит то, что дети подают иногда блестящие надежды, Которые потом, с годами, исчезают; следовательно, не природа виновата, а недостаток воспитания служит тому причиной. Я согласен, что один имеет более ума, чем другой; это доказывает только, что один может сделать больше другого, однако не найдешь никого, кто бы не достиг чего-нибудь прилежанием». No comment!
Квинтилиан последовательно и терпеливо, понятно и возвышенно наставляет учителей и отцов учеников тому, как правильно воспитывать мальчиков в домашних условиях и затем в школе, которую сам считал более предпочтительной системой обучения. Педагог считал, что обучать ребенка надо, используя подражание, наставление, упражнение, состязательность, имея главную цель – «господство ученика над самим собой». Обязательными элементами обучения педагог считал изучение грамматики, морали, музыки и тому, что сегодня называют социализацией. Автор перечисляет греческих и римских писателей, поэтов и прозаиков (сам он превыше других ставил Платона), важных для образования, раскрывает сущность риторики, ее главные элементы – изобретение, расположение, словесное выражение, память и произнесение или действие. Заканчивает свое сочинение Квинтилиан наставлениями оратору относительно его жизни и деятельности, что делает это сочинение образцовым и в нравственном отношении – «оно проникнуто уважением ко всему высокому и приближается по строгости нравственных воззрений к миросозерцанию стоиков».
Хотя сочинение Квинтилиана мало помогло делу римского красноречия, которое в императорском Риме стремилось к упадку, всё же, по мнению русского историка В.И. Модестова, «дух, которым оно проникнуто, вызвал к жизни, хотя на короткое время, новый период блеска в римской литературе, когда благодаря также воскресшей свободе слова литература заговорила языком Тацита, Плиния Младшего и Ювенала».
Специалисты отмечают, что «в целом Квинтилиан оказал огромное влияние на педагогическую мысль поздней Античности, в том числе и христианскую». Долгое время он был самым читаемым латинским автором, его книги считались образцом для писателей, писавших по-латыни в Новое время. Для педагогов последующих веков Квинтилиан остался «первым классиком гуманной педагогики», для ораторов – непререкаемым авторитетом и образцом, автором классического «Наставления…» и россыпи поучений и афоризмов.
«Люди с удовольствием слушают то, чего бы сами сказать не хотели».
«Обвинять легче, чем защищать: легче наносить раны, чем исцелять их».
«Чем меньше ума, тем напыщенней речь; так малорослые тянутся вверх на цыпочках».
«Те, кто хотят казаться мудрыми среди дураков, среди мудрых кажутся глупыми».
«То, что режет слух, с трудом достигает разума».
«Главное в ораторском искусстве состоит в том, чтобы не дать приметить искусства».
«Слишком старательные поиски слов часто портят всю речь. Лучшие слова – это те, которые являются сами собой; они кажутся подсказанными самой правдой».
«Я не только утверждаю, что оратор должен быть честным человеком, но и что оратором быть невозможно, не будучи человеком честным».
И т. д.