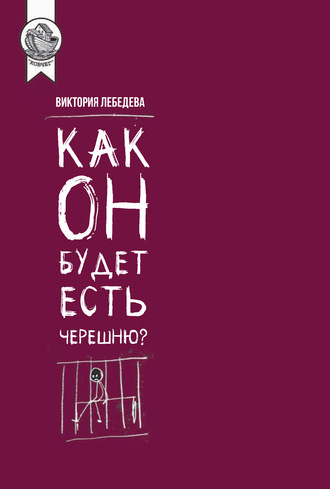
Виктория Лебедева
Как он будет есть черешню?
Глава 5
Слушание назначено на одиннадцать, и Илья Валерьевич велел нам прийти за час, чтобы обсудить «кое-какие нюансы», но мы, конечно, оказались на месте почти за два с половиной. Коридоры тут как в фильме ужасов, не совру: серые стены, редкие лампы дневного света и тревожный полумрак. По стенам железные стулья, тоже светло-серые, с дырками. Чувствуешь себя на таком как на дуршлаге – холодно и жестко. По ногам откуда-то сквозняк, хотя на улице с самого утра страшная жара.
Сейчас мы сидим в коридоре уже втроем с адвокатом, и про истекшее до прихода Ильи Валерьевича время, проведенное здесь, я ничего не помню, кроме того что оно очень медленно шло. Мы сидим, Илья Валерьевич перелистывает нашу папку, в которой справки, грамоты и характеристики. Что я думаю про Илью Валерьевича? Честно признаться, уже не знаю. Сначала он меня немного пугал, но в тех обстоятельствах, при которых мы познакомились, меня пугало все, так что это не показатель. А сейчас? Нормальный (вроде) спокойный мужик чуть за пятьдесят, немножко усталый. Точно не понторез, и, общаясь с ним, мы не чувствуем себя идиотами, хотя, видит бог, мы не знаем о нашей ситуации почти ничего. Если задать Илье Валерьевичу конкретный вопрос, он дает конкретный ответ – насколько возможно, и это представляется очень ценным. Мы начитались в интернете всяких ужасов о бесплатных адвокатах, но этот надуть нас, похоже, не пытается. Даже о деньгах пока ни разу не заикнулся. Говорит: все потом, пусть пройдет заседание.
В день знакомства, когда Андрей его спросил – осторожненько, но довольно конкретно: может быть, кому-то сколько-то дать, чтобы замять дело, ведь явно же речь о подставе и ребенок не виноват, Илья Валерьевич только головой покачал. И объяснил – если денег сразу не попросили, прямо ночью, значит, целью были не деньги. А, например, раскрываемость. И если денег… «А денег точно не просили у вас?» – «Точно! Да неужели бы мы… То есть мы небогатые люди, но нашли бы…» и если денег точно не просили, то, похоже, упомянутая «раскрываемость» как раз наш случай. И вообще, запомните, дорогие родители, на будущее – ибо мало ли что и кого из нас ждет в будущем, – как только дело документально оформлено, забудьте уже о том, что можно запросто откупиться… Откупиться у нас бывает можно, да, даже врать не стану, но только «до» – да и то по нынешним временам не факт, что это поможет.
Эта его прямота нам с Андреем понравилась тогда… в смысле «понравилась» – слово не самое удачное при наших обстоятельствах, но как-то сразу стало Илье Валерьевичу больше доверия. А теперь он сидит, листает Ванькину папку, предварительно отложив стопочкой медицинские бумажки на свободный стул, читает характеристики и разглядывает грамоты. Тут и самые свежие, с выпускного, – за хорошую учебу и высокие в ней результаты, за активную работу в классе, за умение «по-настоящему дружить с одноклассниками и учителями»…
– Умение дружить… – задумчиво тянет Илья Валерьевич. – Когда я говорил с вашим мальчиком… Боюсь, именно «умение дружить»… Я думаю, в конечном итоге именно из-за него он здесь…
Мы в растерянности смотрим на адвоката, пытаясь уловить мысль. Чего плохого в дружбе?! А Илья Валерьевич продолжает:
– Он ведь не просто так этот гашиш-то нес, вы поймите. Его же друг попросил. Сказал, мол, плохо мне, умираю без дозы… Понимаете?
Что уж тут непонятного. Это так похоже на Ваньку. Друг в беде. Другу помоги, не задавая вопросов… Я ежусь и без успеха пытаюсь устроиться поудобнее. Жмусь к Андрею, и он обнимает меня за плечи, трет их, стараясь согреть. Какие же тут все-таки стулья отвратительные, просто слов нет!
– Хороший, видно, парень у вас, – говорит Илья Валерьевич, откладывая последнюю грамоту.
Она из велоклуба, и там тоже что-то про взаимовыручку. Это они прошлым летом в Карелии катались. Илья Валерьевич откладывает грамоту и раздумчиво вздыхает, и от этого вздоха у меня вдруг возникает очень странное ощущение – как будто голова изнутри чешется, ото лба и до макушки, и кожа от этого словно бы немного перемещается… вот интересно, не это ли ощущение описывают люди расхожей фразой «волосы шевелятся на голове»?.. А следом догоняет другая мысль: в любой непонятной ситуации – работай. Собственно, эти рассуждения об этимологии в коридоре суда – типичный пример, как я спонтанно начинаю думать о работе в моменты, когда боюсь подумать о другом.
Андрей смелее меня – гораздо, гораздо смелее, – и он задает прямой вопрос:
– Чего нам ждать?
– И хотел бы вас утешить, да нечем, – отвечает Илья Валерьевич и, в лучших традициях, разводит руками. – Я буду ходатайствовать за то, чтобы мальчика отпустили под подписку о невыезде до основного суда… вот и зрение у него… он ведь без очков не может, и это при наших обстоятельствах хорошо… но… не хочу вас пугать, только и обманывать смысла не вижу… на моей памяти ни одного человека под подписку не отпускали… то есть вообще ни одного… вот после основного суда условные сроки – это еще помню… тоже крайне редко, однако случалось при благоприятном стечении… а так, чтобы до суда… нет… не было такого… вы поэтому пригото…
Илья Валерьевич говорит, и говорит, и говорит, а мы с Андреем слушаем, и слушаем, и слушаем замерев. Тупо слушаем – самый точный эпитет, когда тебе логически объясняют, что шансов нет. И тут – тоже как в каком-то кино, я это прямо чувствую – на лестнице раздаются стремительные шаги, и я сразу почему-то понимаю, что эти – наши, хотя в коридоре не сказать чтобы совсем никого, эти – точно наши. И действительно – к нам приближаются наши. Впереди шагает Ванька, выставив ладони перед собой, как будто несет в пригоршне воду и боится ее расплескать, а за ним следует добрый молодец, косая сажень, такой высокий, что едва не скребет затылком по низкому потолку. Ванька не сразу замечает нас, потому что он без очков, да в коридоре к тому же темно, плохо видно, будь у тебя зрение хоть единица. Мы вскакиваем, пытаемся идти навстречу, но нас оттесняют, не дают Ваньку даже обнять, даже просто нормально сказать «здравствуй» не дают, и вот уже вся кавалькада скрывается в проеме непонятно когда распахнувшейся двери. Следом впускают Илью Валерьевича, а когда мы пытаемся войти тоже, дверь закрывается перед нами.
Это называется «закрытое слушание».
Следующие непонятно сколько минут мы с Андреем сидим, притиснувшись друг к дружке, и гипнотизируем закрытую дверь.
Когда она открывается, первым выходит наружу давешний амбал и останавливается посреди коридора, придерживая ее за ручку. Сердце спотыкается. Сейчас будут выводить. Дальше пауза, и на порог выступает Ванька. У Ваньки в руках бумажка. Белый листок формата А4. В руке! То есть – в одной руке, потому что Ванька – без наручников. Он подслеповато щурится, выйдя со свету в темный коридор, и с некоторым сомнением – мы или не мы – идет в нашу сторону. И тогда я на нем висну. С разбегу. И больше никто меня не удерживает, не отстраняет.
Уже обняв сына, стиснув так, что он бормочет смущенно: «Ну чего ты, мам, задушишь», я бросаю взгляд у него из-за плеча и вижу, как из зала выходит Илья Валерьевич. То, как нервно он пытается закрыть свой портфельчик (а тот не дается), говорит о крайней растерянности. Илья Валерьевич отрывается от этого безуспешного занятия и смотрит на нас – он в недоумении.
– Отпустили под подписку, – говорит Илья Валерьевич, как будто сам себе удивляясь. И не к месту прибавляет: – Нет… ну надо же!
Даже несмотря на последнюю фразу, я сейчас готова его расцеловать.
Андрей у меня за спиной откашливается, и я уступаю ему Ваньку. Отец и сын обнимаются по-мужски, хлопают друг друга по спине (наверное, мне никогда не понять – это похлопывание, оно зачем?). Илья Валерьевич подходит поближе и вдруг расплывается в улыбке. Говорит:
– Ну вот значит как. И это – пре-це-дент!
– И это… это же все теперь, да? – лепечу я, преданно заглядывая ему в глаза снизу вверх. – Его же теперь совсем отпустили, да?
Илья Валерьевич смотрит на меня как-то странно.
– Суд в конце августа, – напоминает он после небольшой неловкой паузы. Называет число.
– Суд?.. А это сегодня что, не…
– Елена Владимировна, ну я же вам объяснял, – говорит адвокат с досадой. – Сегодня Ивану была выбрана мера пресечения. До следующего, главного суда. И это в нашем случае – подписка о невыезде.
Я накануне гуглила подписку о невыезде, но все равно зачем-то уточняю:
– А ему теперь из дома можно будет выходить? Хоть иногда?
И опять Илья Валерьевич смотрит странно (а если совсем честно – он смотрит на меня как на чокнутую).
Я наивно думаю, будто Ваньку можно сразу забрать домой, – не тут-то было. Его сейчас вернут в СИЗО на несколько часов, а Илья Валерьевич за это время должен съездить к районному следователю и подписать документ – да-да, ту самую бумажку, которую Ванька зажал в руке и уже немного помял в процессе воссоединения с семьей, – и поэтому Илья Валерьевич ее отбирает, прячет в папку-файл, файл отправляет в портфельчик и – ура! – наконец-то его застегивает.
Только когда документ окажется подписан, можно будет поехать с ним в СИЗО, где и дадут вместо него Ваньку – с рук на руки, – поэтому Андрей немедленно вызывается сопровождать Илью Валерьевича. Ну а что? Все равно же с работы отпросился; чем ждать, лучше двигаться и быть при деле. Это он оправдывается так перед адвокатом. Как будто это все требует оправданий.
Некоторое время мы топчемся на улице у здания суда, провожая Ваньку у «бобика», на котором его доставили и сейчас повезут назад. Андрей и Илья Валерьевич курят, Ванька стоит между ними и что-то возбужденно рассказывает, размахивая свободными руками; «добрый молодец» отошел в сторонку и звонит кому-то, называя абонента «ну, зая», а я завожу общение с дежурной, которая мается на переднем сиденье, одетая по всей форме. Конечно, и рукава у рубашки короткие, и ткань не такая уж плотная, летняя, но по сегодняшней жаре этого вполне достаточно, чтобы истечь потом и возненавидеть человечество. Однако полицейская женщина ничего, держится, только время от времени отирает лоб скомканным платком. Она сперва зыркала на нас, на Ваньку, но потом-то поняла, что он без наручников, а стало быть, наверное, не бандит.
– Ох… молодые, глупые… – тянет женщина.
Я согласно киваю.
– Вляпаются не пойми во что, а нам потом…
Я согласно киваю.
– Вот и мой-то… в прошлом-то году… – говорит она и утирает лицо (а я придаю своему – на всякий случай – сочувственное выражение). – Сколько вашему?
– Восемнадцать.
– Вот-вот, восемнадцать… Молодые, глупые… – опять вздыхает женщина. – А моему-то скоро двадцать пять, но ума все равно ни в одном глазу.
Я в очередной раз киваю и машинально отмечаю про себя: какая складная формулировка. «Ума – ни в одном глазу!»
Потом мы еще немного обнимаемся с Ванькой на прощание, и я стараюсь не позорить сына своими охами и вздохами: и так ему, бедному, досталось за последние несколько дней. «Бобик» увозит Ваньку в одну сторону, Илья Валерьевич выгоняет со стоянки свою «ауди» и везет Андрея в другую, а я чувствую, что мне сейчас необходимо пройтись пешком, и отправляюсь на колхозный рынок, где покупаю для Ваньки целый мешок черешни – черной, сладкой и такой огромной, будто это не черешня, а алыча.
Глава 6
Из большой комнаты – взрыв гогота. К Ваньке пришли одноклассники, вся его компания. Я помню большинство из них с первого класса: их взъерошенные челки и цыплячьи шейки, их гладиолусы выше головы на Первое сентября, а теперь они даже хохочут басом, у них щетина и кроссовки сорок пятого размера… наверное, я никогда к этому не привыкну. Свекровь выплывает из своей комнаты и бросает в сторону Ванькиной приоткрытой двери взгляд, полный негодования. Зыркает и отправляется на кухню. Весь ее вид говорит «Позор!»; чем заниматься, готовиться в университет… и они еще смеют реготать!
А Ванька – он, вернувшись домой, три дня лежал. То есть буквально, лежал на своем диване, подтянув колени чуть не к подбородку – у психологов, по-моему, именно это называется «позой эмбриона» и считается признаком чего-то там… глубокой депрессии?.. Он лежал три дня, молчал, ничего не рассказывал, не слушал музыку и не включал компьютер, придремывал, просыпался и через десять минут уже снова дремал, не ел, не пил, а мы не знали, как к нему подойти, но Вера Николаевна, конечно, была уверена, что это похмелье. И – Господи! – как же она на нас с Андреем смотрела!
Плохие родители. Отпустили ребенка на три с половиной дня на какую-то непонятную дачу в какую-то непонятную Рузу, и теперь, извольте, он лежит пластом – явно он там вообще не спал, а пил. Пиво или, того хуже, водку! Потому и лицо зеленое, и аппетита нет… «А я вас предупреждала!» – и губы в ниточку, и гнев в каждом движении. И в кои-то веки мне абсолютно все равно, что подумает свекровь. Я даже чувствую радость оттого, что она придумала себе эту версию. Так всем спокойнее, и в первую очередь самой свекрови, как бы она ни злилась.
Ребята пришли – завалились всем кагалом, – и Ванька наконец-то слез с диванчика, ожил. Добрый знак.
Заглядываю в комнату – что их так развеселило, действительно?
Ванька посреди зала на корточках – держится ладонями за ягодицы, слегка пружинит на месте. Объясняет бодрым голосом:
– Прикиньте, ребята! Вот прямо так! Только голый! Три раза! – Он поднимается и опять приседает.
Новый взрыв гогота.
Воздуха в грудной клетке внезапно становится слишком много – фшух, и ребра буквально распирает изнутри, делается трудно дышать. Наверное, так срабатывает подушка безопасности в машине – удар, и она уже заполнила собой все свободное пространство…
Я притворяю дверь и некоторое время стою, не отпуская ручку… А ведь это он показывал, как его обыскивали там, в СИЗО. Как настоящего наркокурьера, по всем правилам. Раздели и заставили приседать, на случай, если… чтобы… когда… ну в смысле если бы он что-то решил спрятать в анальном отверстии, то в такой позе оно должно было выскочить, спрятанное, – хотя бы с третьего раза. Стандартная процедура, мы на форуме читали…
Подходит муж, обнимает меня за плечи и уводит в нашу комнату, одними глазами спрашивает: «Что?» – и я опять начинаю плакать… если бы кто-то мне сказал, что во мне такие запасы слез, я бы не поверила, пожалуй…
Надо подумать о чем-нибудь хорошем, срочно. Например, о черешне. Ее доели только сегодня, потому что в тот день Вера Николаевна тоже принесла целый килограмм, не такой огромной, как я с рынка, а из «Пятерочки», по акции, но все равно, в доме скопилось небывалое количество черешни – ели ее, ели, а она никак не доедалась… хорошо, что сегодня пришли мальчики, умяли наконец-то все остатки, теперь у Ваньки в комнате косточек – полная миска. Наверное, надо бы зайти и убрать, но я не хочу туда заходить, ноги не идут.
– Все хорошо, – говорит Андрей тихо. – Насколько это возможно.
И я киваю. Главное, не думать о следующем суде.
Достаю платок. Ни к чему ходить заплаканной, особенно перед свекровью. Она придумала себе хорошую версию – вот ее пускай и придерживается.
В дверь звонят, и я дергаюсь. Так сильно, что самой становится страшно. Сводит лопатки. «Откройте, полиция!» А вдруг это опять они?..
Андрей бросает на меня быстрый взгляд и отправляется открывать сам.
В коридоре шебуршение и приглушенные голоса, женские.
Заставляю себя выглянуть.
О, вот и девочки. Юля и Марина. По их виду сразу понятно: они все знают. На лицах – смесь ужаса, восторга и любопытства. Ванька в последние два года пытался с ними «дружить», и с одной, и с другой. Но дальше дружбы дело никак не двигалось, и еще пару недель назад его это очень печалило. Все думал, с которой из них танцевать на выпускном, чтобы не прогореть. Но, конечно, ничего у него и на выпускном не вышло. А теперь? Если верить литературным источникам, теперь Ванька для них должен сделаться привлекательным, как какой-нибудь Онегин или Печорин. Романтическая личность. «Кто он? Герой или преступник?» Время движется, люди не меняются… Еще и подерутся, пожалуй, за право подобраться к Ваньке поближе. И смех и грех.
– Проходите, девочки, не стесняйтесь.
Тетя Лена, мы тут… Ивану… принесли. – И Марина протягивает мне прозрачный пакет, полный черешни. Эта – желтая.
Глава 7
В месяцы, оставшиеся до суда, самый сложный квест – устроить Ваньку на работу. Илья Валерьевич подробно объяснил: судьям все равно, что мальчик едва окончил школу и собирался в университет. По документам он нигде не работающий совершеннолетний подозрительный элемент, не имеющий самостоятельного официального дохода, и, стало быть, принадлежит к группе риска и имеет к преступлению мотив… Я постепенно привыкаю к этому словесному ряду: мотив, преступление, подозрительный, подследственный… Как устроить на работу подследственного? Соврать? Во вранье – ни малейшего смысла. Лишь только появится у Ваньки официальная работа, появится и необходимость в характеристике с места работы, для суда, – и все немедленно всплывет.
Мы, кажется, уже всюду обратились, где было возможно, спросили всех-всех своих друзей и друзей друзей – и результат, конечно, нулевой. Тем вроде и неудобно отказывать, это видно, но помочь все равно боятся – уголовная статья, да еще такая, как у нас… Получается, обижаться тут не на что, но и что предпринять – непонятно, поэтому я в панике и Ванька старается не попадаться мне на глаза. Последний раз он вел себя так, кажется, классе в седьмом, когда, не проездив и недели, сорвал тормоза у нового велосипеда.
Друзья к нему всё ходят, ходят… Сочувствуют, галдят, строят планы по спасению, один нелепее другого. Тут же Юля с Мариной охают и в пылу сочувствия носят Ваньке всякие сладкие гостинчики. Он общительный, наш Ванька, знает, наверное, полрайона. Друзья ходят, одноклассники ходят, и меня начинает преследовать мысль: а тот, который его сдал, нарочно подвел под облаву, он тоже у нас бывал? Не сейчас, конечно. Раньше?
У Ваньки вечно проходной двор, как бы я ни сопротивлялась.
«Патологически общительный», – так определил Илья Валерьевич. И он прав. В Ваньке всегда это сидело – и всегда пугало и меня, и Андрея. Желание понравиться всем, быть удобным. Любой ценой помочь встречному и поперечному. Со всеми перезнакомиться, перездороваться, ощущать себя частью максимально большой тусовки… Откуда это в нем? И что тут виной – доброта или слабость?
Постепенно, из обрывков разговоров с сыном, с адвокатом, с одноклассниками, вырисовывается личность нашего злого гения.
Его зовут Дима, Димыч (при упоминании этого варианта Илья Валерьевич делает многозначительное лицо, и нам приходится погуглить, что «димыч» значит на наркоманском сленге). Димычу уже исполнилось двадцать, но окончил школу он только в прошлом году, потому что оставался по два раза и в девятом, и в десятом (боги, ну зачем таких берут в старшие классы?!). И вот он доучился кое-как, с грехом пополам, и с тех пор ведет на районе ночную дискотеку, в кабаке у МКАД, в просторечье – «Телеге». Натурально там перед входом, как раз между кабаком и шоссе, вкопана покореженная деревянная телега, с виду насквозь гнилая. Слава у «Телеги», разумеется, самая скверная, «Телегой» родители пугают детей, когда хотят обозначить хрестоматийное злачное место, куда ходить не следует ни при каких обстоятельствах. Словом, этот Димыч – такой типичный маргинал, который вместе со своей «Телегой» все катится и катится по наклонной.
– А знаете, мамочка… – говорит Илья Валерьевич раздумчиво, – вам ведь повезло…
– Повезло?! – едва не ору я. – Это называется – «повезло»?!
– Повезло, – повторяет адвокат твердо. – Мы с Иваном поговорили… он ведь, этот Димыч, у него не гашиша просил. Вот уж нет. Просто ваш добренький неиспорченный ребенок ничего другого достать не смог, опыта не хватило. И денег…
– А что же тогда… – теряюсь я. И сердце в очередной раз ухает куда-то в пятки (еще одна фигура речи, подкрепленная, на опыте последних дней, вполне реальными физическими ощущениями).
Илья Валерьевич вздыхает и поднимает глаза к потолку, разводит руками. У него рубашка с коротким рукавом, загорелая кожа, сильные мускулы, чистые вены… Едва ли он нарочно так руки развернул, чтобы видно было, какие они чистые, но все равно, спасибо, дорогой Илья Валерьевич, я поняла.
Андрей за моей спиной делает то, чего я от него не слышала ни разу за двадцать лет брака: выдает длинную матерную тираду (как человек, постоянно работающий с текстом, я машинально отмечаю: весьма заковыристую и складно скроенную).
– Сидеть бы ему не пересидеть, не будь он такой наивный лопух… – добивает Илья Валерьевич. – Гашиш – это так, баловство. По сравнению, конечно… Вот только много он нес. Плохо.
Много – это, если я правильно запомнила, девять граммов. В голове немедленно заводится «девять граммов в сердце постой, не лови…» Или все-таки «не зови?» И нужен ли там предлог «в»? Иногда я думаю, что тексты – мое проклятие.
Мы ходим и ходим, просим и просим, ничего не получается, и, как всегда в стрессовых случаях, у меня начинаются неприятные шевеления в спине – пока еще слабые, но ощутимые. Я отлично знаю, во что это выльется через неделю-другую, если не принять меры.
И я записываюсь к районному неврологу.
Невролога (кто бы сомневался) опять сменили. На сей раз это задумчивый мужичок с багровым лицом, и я очень надеюсь, что это у него такой нетипичный цвет летнего загара, а не то, на что это похоже.
– На что жалуетесь? – спрашивает невролог. – Раздевайтесь. Повернитесь. Повернитесь. Наклон. Руки вперед. Пальцем до носа. Теперь левой…
Он тычет мне в поясницу и над лопатками.
– Так больно? А так? Хорошо. Наклон. Тут беспокоит? В ногу отдает?
О да, доктор. Еще как беспокоит. И тут, и вот тут, и, что называется, по периметру. И в ногу отдает, как без этого. А плечи так просто узлом завязаны.
– Одевайтесь… Присаживайтесь… – Доктор внимательно разглядывает мое лицо и тянет: – Э-э-э. Да у вас депрессия!..
Ах, нет, доктор. Никакая это не депрессия, это отчаяние! Прекрасное и точное, незаслуженно забытое русское слово. «Депрессия» – это где-то там, за границами нашей реальности. За границей. Там, где порядок и логика. Где, занимаясь от скуки самоедством или случайно загнав себя на работе ради вполне конкретной прибыли, социально защищенные люди идут к психологам за таблеточками от бессонницы, потому что в детстве мама их не любила. А у нас – только «отчаяние», только полная безысходность. И от тебя ничего не зависит. Вообще ничего.
Доктор пялится на меня, изучая; я, изучая, пялюсь на доктора.
– Вам нужно знаете что? – бодро восклицает он, и я приготовляюсь выслушать рецепт. – Красное белье!
– Что, простите?
– Красное белье! – Глаза доктора сияют лихорадочно. – Красный цвет – он дает энергию! Вы не представляете, какой эффект!
Лицо у доктора уже не багровое, а цвета кремлевской стены. Из глубин памяти всплывает фраза «скончался апоплексическим ударом», набранная капслоком. Но тут же отмечаю машинально: это не из книги, это из фильма. Из какого?! Абсурд накатывает большой волной – и накрывает… Опять непроизвольно наворачиваются слезы.
– Вот видите! Вы уже и плачете! – сияет доктор. – Самая настоящая депрессия! – В голосе его – торжество. – Красное белье! Поверьте! Вы не пожалеете!!!
И я ухожу. Даже забываю выписать направление на уколы.
Помощь, как это часто бывает, приходит откуда не ждали.
Один из наших постоянных авторов просматривает верстку и проверяет правку, пока я в другом конце комнаты жалуюсь коллегам на жизнь. Не сказать чтобы я кричала, но помещеньице после последнего переезда у нас крошечное, и он все слышит.
Он лауреат или как минимум финалист всех наших литературных премий и пары ненаших. Переведен на европейские языки и на китайский. У него тиражи и почет. Только я редактировала четыре его книги – а сколько их всего, я не помню. Про него говорят – «прижизненный классик» (не без иронии, но и не одной иронии ради). Характер у него, по общему разумению, довольно скверный, с редакторами – приличная случаю дистанция. Мне бы и в голову не пришло обратиться к такому человеку.
Тут я, собственно, опять не помню, как все происходит. Видимо, слишком велико удивление от происходящего. Вот наш классик откладывает верстку и невзначай интересуется, в чем, собственно, проблема, а вот он уже звонит по телефону какому-то Петру Евгеньичу и бубнит в трубку, обрисовывая Ванькину историю. А я переминаюсь неподалеку и ловлю себя на мысли, что классик помогает нам вовсе не из человеколюбия, а просто из спортивного интереса: получится или нет? На его обычно скучающем лице читается любопытство и азарт. Этот наш классик – он писатель-реалист. Ему нравится коллекционировать такие вот неладно скроенные сюжеты и наблюдать за персонажами внутри них… Я думаю так, и мне становится ужасно стыдно. Человек помогает – без корысти и уговоров, хотя его не просили, а я вместо благодарности стою и думаю про него всякие гадости… Да не все ли равно, зачем он это делает?! Главное сейчас – Ванька.
На следующий день мы всей семьей едем куда-то в центр, в одну из тех многочисленных, немного зловещих промзон, которые лепятся обычно около любого московского вокзала. В таком месте обязательно встретишь остов ржавого какого-нибудь жигуленка, трансформаторную будку в граффити, старые скрипучие ворота, запертые на висячий замок, и стаю бродячих собак; и обязательно будет ветер, он поволочет вдоль дороги, по которой ты шагаешь, ошметок пожелтевшей газеты или драный пакет; а дорога, конечно, окажется вся в колдобинах, или ее будут копать, или поперек растечется вонючая лужа в бензиновых радугах… Я сейчас не помню этого места и даже не помню, у какого оно было вокзала – может, у Курского, а может, у Савеловского, – но перед глазами так и стоят та изорванная газета и те ворота на цепи. Да и это, не исключено, запомнилось вовсе не с натуры, а вытянуто из какого-нибудь текста или киношки…
Итак, ворота. Скрипели они или нет – неважно. Но за ними обнаружился аккуратный двухэтажный домик, облагороженный евровагонкой, сияющий белоснежными пластиковыми рамами, и внутри этого домика тоже все оказалось сияющее и светлое, как в какой-нибудь модной парикмахерской.
Из домика Ванька вышел «ведущим специалистом» небольшой частной нефтеперерабатывающей компании.
На обратном пути, когда мы уже тряслись в метро (дороги назад я, разумеется, на радостях не запомнила), меня опять нагнала и накрыла волна абсурда. Нет, ну только подумать: ведущий специалист! По нефти!
Если бы я увидела такое у кого-нибудь в тексте, я бы ругалась – еще как! И привела бы сотню аргументов, почему эту историю читатели ни за что не примут на веру. А сейчас сама оказалась в положении авторов, которые за годы практики сколько раз клялись мне: да ведь в жизни-то, в жизни так оно и бъло! Но я в ответ лишь замечала скептически: книга потому и не жизнь, что обязана быть внутри себя логичной и правдоподобной – и просила переделать сомнительное место.
Впрочем, уже через несколько часов мне представилась возможность оценить на практике, чем редактор отличается от адвоката. Адвокат, если бумага заполнена по всем правилам, легко принимает ее на веру и даже вопросов не задает.
Вот и наш Илья Валерьевич принял Ванькино трудоустройство как факт. Сказал только, приподняв бровь:
– Ну вы, блин, даете!
Это тоже было из фильма.







