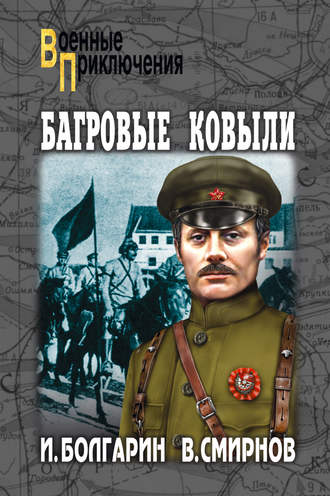
Игорь Болгарин
Багровые ковыли
На его белом, не успевшем принять фронтовой загар лице выделялись васильковые, по-детски наивные глаза. Инженер снова склонился над листком, написал еще несколько строк и затем неожиданно просто и откровенно сказал:
– Письмо даме… собственно, жене приятеля. Видите ли, я привык ей писать: она – в Питере, а наше ГАУ перевели в Москву еще в восемнадцатом. – Он вздохнул. – Она была моей невестой, а вышла замуж за нашего общего друга детства, Берестенникова, он остался в «Михайловке», на кафедре порохов. Мы с братом звали его Береста. Хороший человек. Он прогрессивно горящие многоканальные артиллерийские пороха изобрел. Представляете, какой эффект?
– Нет, – признался Кольцов.
– Ладно, это потом… Я, видите ли, не понимал, что письма ее не удержат. Думал, вот-вот война кончится…
Он, держа карандаш в выгнувшихся синеватых, тонких пальцах музыканта, быстро и аккуратно, словно буквопечатающий аппарат Юза, уложил на лист бумаги еще несколько строчек. Потом усмехнулся, покачал головой.
– А я все равно пишу. Привык. Как-то пусто без этого… Все мне кажется, что что-то переменится. – И неожиданно спросил: – А вы женаты?
Кольцов замялся.
– Не надо, не отвечайте! Война всех нас запутала. Шесть лет не кончается!.. Скорее бы, скорее!
И Лев Генрикович снова склонился над листком. Лицо его с удивительной непосредственностью отражало смену чувств. Он то улыбался чему-то, быстро покрывая бумагу вязью строчек, то поднимал брови, хмурился, то шептал что-то, шевеля губами и как бы разговаривая с адресатом. Странный, чистосердечный и наивный человек: он управляет полетом тяжелых, могучих в неистовой, разрушительной силе снарядов и в то же время так беспомощен и слаб перед лицом личных неурядиц.
Павел неожиданно позавидовал ему: сам он был далеко не так открыт и прямодушен. И писем не мог писать, скрывая свои чувства. Он по необходимости стал человеком тайн и секретов.
После Кременчуга эшелон направился на юг, к Николаеву, затем на восток, от Александрии к Пятихатке, и вновь свернул на юг, Кривому Рогу, описывая невероятную для мирного железнодорожного сообщения дугу. Наконец, не доезжая до Никополя, остановились на маленькой узловой станции Апостолово, где торчала, возвышаясь над степью и даже над окрестными курганами, высокая кирпичная, неизвестно как уцелевшая водокачка.
– Остановка! Разгружаемся! – бегая по гравию вдоль эшелона и выписывая своими кривыми кавалерийскими ногами кренделя, кричал комендант. – Все! Приехали!..
Артиллеристы спрыгивали, потягивались, крякали с удовольствием: уж лучше бои, чем такая езда. К станции примыкало большое пристанционное село, волостное, с церковью. По картам оно называлось Покровским, а сами путейцы, да и все окрестные жители, именовали его по-старому, как издавна привыкли: Вшивое. Видать, чумаки, везшие соль из Крыма или Прогноев, отмывались здесь с дороги да били зловредных насекомых.
Оно бы и артиллеристам неплохо помыться после долгого пути, избавиться от нательных попутчиков, но вслед за комендантом уже бежал широкоплечий, плотный, как сундучок, командир батареи, скрипел ремнями и все отмахивался от длинного своего бебута, который норовил подставить ему подножку.
– Шевелись! Не отоспались, что ли? На фронте нас ждут не дождутся, а мы всю солому, лежа, в сечку перемолотили! Шевелись!
И то верно, восемь суток в пути, между тем как на фронте каждый ствол дорог.
Но до фронта еще дойти надо, до него не меньше ста верст. Да не железной дорогой или плиточной шоссейкой, а пыльным, разбитым Кизикерменским шляхом. Сотни лет торили его чумаки на своих волах, пробираясь из Крыма на север, в кацапские края, где соль дорожает с каждым шагом.
– Разгружайсь!..
Скомандовать-то можно, а как выкатить тяжелые восьмидюймовки ТАОН без артиллерийских тягачей? Эшелон с гусеничными «холтами», специальными тракторами, которые и должны были помочь с разгрузкой орудий, застрял где-то в пути.
А ждать нельзя, надо думать, как своими силами выходить из положения. Хорошо, что у них на платформе стоял один из «холтов», маневровый, для аварийного случая. Да вот беда: все трактористы остались во втором эшелоне. Поэтому сесть за рычаги уговорили бывалого шофера Чугайкина из автоброневого дивизиона, ехавшего по счастливой случайности в одной из теплушек вместе с земляками из Рыбинска.
Чугайкин кое-как вывел тяжелый, с далеко выступающим вперед носом-мотором, «холт» к бревенчатому настилу, который с уровня железнодорожных платформ плавно спускался к земле. Пот, смывая дорожную грязь, тек по скуластому крестьянскому лицу Чугайкина. Он привык к броневику: у того руль, подвижные передние колеса. А у «холта» же – рычаги, фрикционы. Если надо повернуть, следует притормозить одну из гусениц. Все совершенно не так, как в броневике.
Словом, не совладал Чугайкин. В самом начале сходен все было хорошо, почти уже съехал с настила, но потом трактор почему-то вильнул и с полутораметровой высоты обрушился набок в пылищу. Сам Чугайкин чудом остался жив, вылез на землю, схватился за голову.
Трактор лежал на боку, из бака по пыли растекался газолин. Гусеницы, все еще вращаясь, дергали тяжелую машину, и она, казалось, переживает агонию. Чугайкин опомнился, вновь бросился к открытой кабине, перегнувшись, выключил магнето. Сгорит ведь!
А хоть бы и сгорел? Кто теперь поднимет трактор, где взять такой подъемный механизм, чтобы вновь поставить его на ноги?
Артиллеристы сгрудились вокруг опрокинувшегося гиганта. Даже уверенный в себе комбат Закруткин не знал, что сказать. Надо бы сооружать треногу, крепить тали, поднимать «холт» – но из чего сооружать, где взять тали?
Чугайкин уселся возле опрокинутого трактора, обхватив чубатую голову руками и вздрагивая от рыданий.
– Эх, мать честна! – сказал, глядя на него, пышноусый артиллерист. – И чего ты, парень, согласился полезть под трибунал?
Кольцов молчал, как и все. Соображал. Охать и причитать уже было поздно. Ждать железнодорожного крана – что небесного дождичка: то ли будет, то ли нет. Даже Лев Генрикович, инженер и изобретатель, мотал головой. Что тут посоветуешь?
Сквозь толпу артиллеристов, расталкивая всех своим коротким, крепким телом, как тараном, пробился какой-то местный командир в перекрещенных ремнях, деятельный и вроде бы всезнающий. Сгрудившиеся вокруг трактора, чувствуя в незнакомце силу, быстренько расступились. Тот, привстав для росту на цыпочки, обвел всех строгим взглядом, сплюнул.
Павел сразу узнал его: Грец! Тот самый особист из Тринадцатой армии, что вез его из полка Короткова в Мелитополь. Тот, с кем они схватились чуть ли не до стрельбы, жестокосердый и недалекий. Еще Дзержинский, читая донесение Греца о «чужеродном гуманизме» Кольцова, заметил, скривив губы в улыбке: «Чекист, говорят, – меч революции. Но, к сожалению, попадаются и утюги революции».
– Представитель особого отдела на станции Апостолово Тарас Грец! – представился коротыш и опустился на каблуки. – Имеем, так сказать, факт злостного саботажа и диверсии? И это в то время, когда красные войска задыхаются от нехватки огневых средств и с надеждой глядят в вашу сторону, дорогие товарищи артиллеристы! Немедленно составляем акт для направления в Реввоентрибунал армии!
И Закруткин, и Лев Генрикович опешили, не проронили ни звука. Или испугались. Под трибунал, если только кому захотеть, можно было отправить все командование батареи без разбора. Дело фронтовое, не до тонкостей. Чугайкин даже не приподнялся: насквозь чувствовал себя виновным. Заранее обрекал себя на трибунал.
Кольцов, по привычке поправив ремень, вышел вперед и оказался лицом к лицу с Грецем. Как в те жаркие июньские дни, когда особист хватался за свой маузер.
Грец тоже узнал его. Серые, выцветшие глаза его налились кровью.
Осенняя степь, обступившая станцию и село, пахла выгоревшей за лето травой, сухой землей. Невысокое, упавшее к ровной черте горизонта солнце уже не палило, а грело.
– Полномочный комиссар ЧК Кольцов, – козырнул Грецу Павел. – Направляюсь в Правобережную группу Тринадцатой армии с особым заданием. – Подумав, добавил: – Попутно сопровождаю эшелон с техникой.
Он понимал, что Грец из тех людей, которые уступают только большей силе и большему напору, и потому решил не давать особисту времени на раздумья.
– Актом вы положения не исправите, – сказал Кольцов. – Как человеку, знакомому с местными условиями, предлагаю вам мобилизовать в окрестных селах тягловую силу, волов или лошадей-тяжеловозов: обычная коняка тут бессильна.
Грец молчал, соображал. Но лица комбата и инженера уже посветлели. Даже Чугайкин приподнял голову, тряхнув перепачканным в масле чубом.
– Карта есть? – спросил у особиста Кольцов, продолжая натиск.
Грец проворчал что-то, но сумку с картой из-за плеча достал. С прищуром, как сквозь прицел, взглянул на Павла: мол, ладно, потом припомню, однако сдался, расстелил на песке рваную в сгибах, бледную карту.
– Тут, в Покровском, мы подходящих лошадей или волов не найдем, – сказал особист. – Все реквизировано. Только клячи остались… А вот здесь, в немецких колониях Кронау и Фюрстенталь, кое-что есть. Только немцы волов не держат, у них для тяжелых работ кони…
– Першероны или брабанты небось, – подсказал опустившийся на корточки рядом Закруткин. – Эти для наших гаубиц как раз. У них аллюр – это шаг. Для полковых пушек не годятся, там нужен маневр в бою, а для ТАОНа самое оно.
– Так они и отдали вам своих першеронов, – буркнул Грец, не поднимая глаз на Закруткина. – Небось прячут их где-нибудь подальше, в плавнях… Или вот Костромки – большое село, шесть тысяч душ. Они раньше волов для чумаков разводили, на подсменку. Там можно пошастать…
– Вот и пошастайте, – сказал Кольцов жестко. – Комбат даст вам людей. Организуйте три-четыре команды – в разные стороны. Берите скот под расписку, с возвратом. Лучше, если со своими погонщиками. Так и им спокойнее, и нам надежнее. Сами знаете, с волами новичку не управиться.
– Хорошо, – хмуро, не по-уставному отозвался Грец и обернулся к Закруткину. – Выстройте людей, товарищ красный командир!
Через четверть часа половина батарейцев, разбившись на команды, отправились на поиски тягла. А вторая половина принялась с уханьем и кряканьем, под команды взводных, скатывать гаубицы на скрипучий бревенчатый настил и оттуда, придерживая орудия канатами, спускать их на землю.
Наконец все орудия стояли у рампы, зарывшись колесами в песок, такие грозные и такие беспомощные без тяги. Следом за гаубицами спустили на землю две звукометрические установки на данлоповских колесах.
И теперь батарейцы покуривали, глядя на село с церковной колокольней, на бескрайнюю степь, по которой ветер гнал поднятые с шляха полосы мелкой, противной пыли.
– Черт знает что! – ругался Лев Генрикович, укутывая свои чуткие приборы тряпками. – Последнее слово военной акустики – и не может действовать без каких-то волов…
– Гражданская война – свои законы, – объяснил ему, как первокласснику, Кольцов. – Возьмите, к примеру, тачанку. Это что за военный инструмент? Совмещение телеги, лошадей и пулемета. Могли бы вы представить себе на германской войне тачанку? Куда ее, на проволочные заграждения?
– Ну тачанка – она, как тюльпан, только летом хороша, – вмешался в разговор Закруткин. – А зимой – тьфу!
– А почему! – вмешался один из батарейцев. – Зимой махновцы по хатам сидят, около баб греются. Это ж ихнее изобретение, оно – для лета.
Рассмеялись.
И все же Кольцов постепенно утерял то теплое и веселящее душу чувство боевого братства, которое грело его во время их недельного путешествия по замысловатым линиям железных порог. Грец! В нем была причина.
Павел знал породу таких людей. Они встречались и у своих, и у белых. Угрюмые, ограниченные человеконенавистники, которые считали необходимым истреблять тех, кто думает не так, как они. В мирное время они просто слыли бы злыднями, пакостниками, ябедами, их бы чурались, да и только. В войну же их односторонность и злоба не только были простительны, они поощрялись и даже возвышали их.
Кольцов был уверен, что Грец найдет повод, чтобы последовать вслед за ним к Бериславу. Он не из тех, кто прощает. Такие, как он, в темноте или в сутолоке боя стреляют в спину…
Ждали своих посланцев всю ночь. Перед рассветом по дальним выбалочкам поплыл серый, постепенно розовеющий туман. В голых степях, которые на много верст тянулись вокруг и были загадочны, как американская саванна, ночью постреливали, раздавались пугающие птичьи крики и тоскливый волчий вой. По совету Кольцова комбат еще с вечера выслал к наиболее глубоким, поросшим чагарником балкам пулеметные посты. Тужась и ворочая тяжелые станины, также на всякий случай развернули во все стороны, вкруговую, гаубицы. Поднесли заряды с картечью. Но было тихо. Хотя Кольцов чувствовал, что и степь, и балки с их непроходимыми зарослями шиповника и гледа, вымахавших в два человеческих роста, живут. Там кто-то ходит, перекликается.
Он был уверен, что степь неустанно следит за ними и может в одно мгновение вдруг превратиться в бешеную стаю конников с обнаженными клинками, а затем вновь успокоиться, стать тихим пейзажем. Дикая степь!..
Утром, когда солнце уже загнало туман на самое дно балок, в осенний холод постоянной тени, появились первые команды. Пригнали табунок брабантов, огромных, медленно ступающих чалых коней-тяжеловесов, чьи спины были широки, как немецкие двуспальные кровати, а ноги, поросшие по бабкам длинным шелковистым волосом, ступали по-медвежьи косолапо и с такой же мощью и силой. Эти лошади не знали, что такое бег, игра на степных просторах. Коннозаводчики вывели их для тяжелой работы, и такая работа была их игрой. Повозку с упряжью они тащили как пушинку.
При брабантах были и два немца-конюха, чем-то схожие со своими питомцами, такие же медлительные и широкоплечие, с глиняными трубочками в зубах.
– Вот пришлось германов взять, – оправдывался молоденький командир. – Это ж не лошади, а слоны. Они только своих слушают.
– А ты погляди, какие чистые! – сказал Закруткин. – Лоснятся, как рояли. Если б ты своих так чистил, они бы тоже только тебя и признавали.
Меланхоличные немцы коротко, помахивая трубочками, объясняли комбату:
– Работать будем. Гут. Работать хорошо. Хафер наш. Овес. Без хафер лошадь никс гут. Дас гелд не надо. Деньги – шайзе. Зальц – хорошо. Соль. Петролеум хорошо. Керасин гут! Надель хорошо. Иголка. Цвирн… как это… нитки… Это есть рихтиг гелд. Настоящие деньги!..
Немец показал свои короткие, вправленные в чулки штаны, распоротые на коленке. Чувствовалось, это было для него страшной бедой. Немец – и с незаштопанными брюками. Позор! Дие шанде!
– Вот народ! – оправдывался молоденький командир со сбитой на затылок мятой фуражкой. – Сколько лет тут живут, а не поймут простого русского слова «реквизиция». Мобилизирен, ферштейн? Никс гелд. Без денег. Воля народа, понимаешь? Как это по-ихнему?.. Фольксвилле! – поднатужившись и вспомнив, выпалил он.
– О, я-я! – согласился немец. – Фольксвилле… это есть керосин, нитки, надель.
Видно было, его хоть к стенке ставь, а со своего он не сойдет. Не поймет просто. Как это, взять и не заплатить?
– Ладно! Найдем мы им что-нибудь… Петролеума…
– Я-я, петролеум, – согласился немец и затем деловито спросил: – Вас мусс арбайт? Что работать?
– Для начала… – Кольцов прошел к лежащей на боку громаде «холту» и показал жестами, что его надо поставить на гусеницы.
Немцы закивали головами и дружно закурили свои короткие трубочки. При этом стали торопливо между собой о чем-то спорить. Несколько раз со всех сторон обходили «холт».
– Чего они? – вслушиваясь в незнакомую речь, следуя за немцами, с надеждой спрашивал Чугайкин.
– Говорят, кастрировать тракториста надо, – серьезно ответил комбат Закруткин. – Чтоб от него, не дай бог, новые дурошлепы не народились.
Немцы наконец до чего-то договорились, потому что смолкли. Взяли лопаты, стали раскапывать утонувшие в пыли и в земле прочные металлические детали. Прицепили к ним вожжи и прочные манильские канаты. Перебросили через трактор и со стороны гусениц впрягли коней.
– Сами кони – нет, – сказал немец Кольцову, признавая в нем главного, когда все подготовительные работы были завершены. – Давай зольдат! Помогай!
Подошли красноармейцы, кто-то принес бревна, которые должны были служить вагами. Подложили их, приладились.
– Айн момент! – Убедившись, что все всё поняли, немец побежал к своему напарнику, придерживавшему лошадей. И уже оттуда, со стороны гусениц лежащего «холта», раздался его глуховатый голос: – Айнц!.. Цвай!.. Унд драй!
Красноармейцы приналегли на деревянные ваги, как струны натянулись вожжи и веревки. Немцы хлестали кнутами коней. «Холт» не двигался с места…
Но потом вроде как дрогнул, слегка приподнялся.
– Дафай! Дафай! – кричали в один голос уже оба немца. И «холт» медленно, затем все быстрее стал приподниматься и наконец тяжело, так, что вздрогнула земля, упал на вторые, прежде задранные к небу гусеницы. Все!
Ликующий Чугайкин бросился к немцам, стал их благодарить, попытался было на радостях обнять одного из них. Но немцы были бесстрастны и немы, как индейские вожди. Они деловито смотали свои вожжи и веревки и, вновь раскурив короткие трубочки, упрямо повторили:
– Фольксвилле – не карашо. Петролеум, надель, нитки – карашо.
– Да где ж я вам петролеума возьму! – обозлился Чугайкин. – Мне еще вон сколько верст переть, а петролеум тю-тю, весь вытек!
Выручил всех Грец. Он прибыл на телеге, запряженной двумя волами, сидя на мешке рядом с возчиком, тощим человеком в городском пиджаке и низко надвинутом на лоб бриле. На повозке лежало еще пять или шесть туго набитых мешков. За Грецем следовало, пыля, стадо понурых длиннорогих волов под доглядом селянина, босого, но в смушковой, не по погоде, шапке.
– Соль? – щупая мешок, обрадованно спросил Закруткин.
– Соль! – важно ответил Грец, окидывая взглядом брабантов и их хозяев – немцев – с явным пренебрежением. – Да не в том дело, что соль, а в том, что натурального шпиона поймал. Соль-то у него так, для отвода глаз. Как вы на станции объявились, так и он стал здесь околачиваться. Ухватываете?
Грец подождал, пока вокруг него соберется побольше артиллеристов. Косым, насмешливым взглядом скользнул по Кольцову: вот, мол, чекист, ты тут прохлаждаешься, а мы начеку, врагов ловим. Свернул самокрутку, воспользовавшись с готовностью протянутыми к нему кисетами. Медленно послюнил газетную бумажку, потянулся к горящему труту, который ту же разжег кто-то из любопытных. Затянулся, разогнал ладошкой дымок.
– Спрашиваю возчика: откуда, мол, куда, чьи волы? Волы, докладывает, мои. Накопал, говорит, в Прогноях самосадной соли. Ну и вот, говорит, еду маленькую коммерцию сделать, для прокорма.
– Ничего себе – маленькую: семь мешков пудов по восемь, – заметил кто-то из пушкарей, знающий, видимо, крестьянское дело.
– Не в том дело, что семь мешков, – поучительно продолжил Грец. – Хоть бы и десять… Кто знает эту работенку: самосадную соль копать, – тот поймет. Кайлом помахать да лопатой. Да на размол свозить. Тут и одного мешка для кровавых мозолей хватит. А ну-ка покажи свои ручонки-то, дядя! Да бриль свой подними, что ты глаза от народа воротишь!
Грец сдвинул со лба возчика соломенную широкополую шляпу, и Кольцов чуть не ахнул от удивления. Он узнал Миронова-Красовского, бывшего графа и бывшего пензенского дворянина. Худое лицо его стало еще более вытянутым, а густые брови побелели – может быть, от соли.
Кольцова он не сразу углядел среди множества лиц. С медлительностью обреченного он протянул напоказ свои руки – длиннопалые, худые, нежные руки карточного шулера и специалиста по сложным замкам, с ладошками, которые никогда не держали инструмента тяжелее отмычки.
Батарейцы захохотали. Это были все здоровые хлопцы, бывшие крестьяне и рабочие, привыкшие таскать литые станины своих тяжелых орудий, и ручищи у них были побольше и потяжелее хорошей котельной кувалды.
– А ну покажь, покажь! Хлопчики, дайте поглядеть!.. Соль, говорит, копал?
– Ну как есть чистый пролетарий!
– Может, на скрипочке играл, а ему соль копали! Ой, боже ж ты мой, живот надорвешь!
– А ну киньте ему на спину мешочек с солью!
– Живодер ты, Кузьма! От него ж мокрое место останется!
– Смешки смешками! – прервал гогот особист Грец. – А только станция Апостолово теперь специальная, и военный груз отсюда идет, и человеческий материал. На то мы тут и поставлены, чтобы вылавливать вот таких солекопателей. Троих уже шлепнули.
Блуждая диким взглядом по лицам незнакомых ему людей, Миронов наконец наткнулся на Кольцова. Присмотрелся, как бы не веря себе, и даже замахал руками, отгоняя напасть. Человек он был по натуре неробкий, о расстрелах наслушался достаточно, и присутствие здесь Кольцова, казалось, напугало его больше, чем угрозы Греца.
– Так это вы… это вы заправляете теперь этими? Вы что же, уже артиллерист? – закричал бывший граф, привставая с мешка. – То вы вскрываете сейфы, то командуете махновцами, то комиссарите, то адъютантствуете… Нет. Прежде чем меня расстреляют, я сойду с ума!
Грец с любопытством прислушивался к этому диалогу. Кольцов рассмеялся.
– А вы тоже, граф. То специализируетесь по замкам, то торгуете Эйфелевой башней, то – вот – добываете соль…
– Граф! – ахнули батарейцы. – Ну и свиданьице.
А до Миронова только сейчас дошло, что встреча с Кольцовым – это его спасение, единственный шанс.
– Послушайте, товарищи! Вот есть товарищ комиссар, он меня хорошо знает. У меня много грехов, только шпионом я никогда не был! Да-да! И я сейчас вам все объясню!
Он встал на телегу, как оратор, и голос его приобрел уверенность. Это уже был прежний Миронов, привыкший выпутываться из любого положения. Главное – чтоб в поведении было никакой политики.
– Когда вы меня, товарищ комиссар, извините, бросили среди степи, помчавшись за своим золотом… Нет, извините, запамятовал. Позже, когда вы меня бросили в Волновахе, я вернулся на своей кляче к Доренгольцу за рулеткой. Что я мог делать у Доренгольца? Правильно! Тем более что у нас была настоящая рулетка. И конечно, он мне проиграл свое имение. Но скажите, вы же видели это сгоревшее имение: зачем оно мне? Что я буду с ним делать? Кто его у меня купит? Но господин Доренгольц, понимаете ли, человек воспитанный и честный, он знает, что такое рулеточный долг – это святое. У него была коробочка иголок. Вы сами понимаете, что такое в наше время коробочка иголок – тысяча штук. Боюсь, это дороже всех ваших пушек, вместе взятых. Я ехал с этой коробочкой за пазухой и чувствовал себя богатым человеком. Мне нужно было именно в Одессу, где иголки ценятся даже дороже золота. Но я не доехал до Одессы. Проклятое любопытство! Я почему-то оказался в Александровске и там встретил бывшего хозяина местного Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Днепровский треугольник». Теперь, правда, он сторож дровяного склада. А на складе у него оказались припрятанными восемьсот пар галош. Он согласился поменяться. Восемьсот пар галош – это, как вы понимаете, не тысяча иголок. Это состояние. Проклятая жадность! Знаете, одно дело – прятать иголки, другое – галоши! Я проехал только полсотни верст и понял, что галош до Одессы не довезу. Их отберут у меня вместе с жизнью. И тут, на мое счастье, я встретил возчиков соли, этих современных чумаков…
Миронов вытер вспотевший лоб. Он говорил длинную речь, стоя на телеге, как записной оратор-комиссар. Его внимательно слушали, особенно Грец.
– Ну вы знаете, что такое сегодня соль. Разве может она идти хоть в какое-то сравнение с галошами! Это уже настоящие сокровища графа Монте-Кристо! Вы, конечно, догадываетесь! Да, я поменял галоши на повозку с волами и семью мешками соли – лошадь столько не потянет. И я поехал по немецким колониям, где за соль можно получить настоящие червонцы или, на крайний случай, даже немецкие марки.
– Зачем? – спросил Грец.
– Как – зачем? Чтобы уехать туда, где людей не хватают каждый день и не ставят к стенке. Мне надоели эти стенки, тем более что приличных стенок, в сущности, и нет. Обещают стенку, а ведут расстреливать в чистое поле, над которым кружат стервятники. Меня уже трижды расстреливали: махновцы, врангелевцы и еще какие-то, они почему-то не представились!.. Так вот, я не хочу валяться в чистом поле с выклеванными глазами. Не для того мне дан Богом и судьбой талант, чтобы валяться мертвым в степи!
– Поваляешься еще! – пообещал Грец, взглянув в сторону Кольцова: он казался несколько растерянным и ожидал дальнейшего развития событий.
– Жаль мне вас, Юрий Александрович, – сказал Павел. – Но мы тоже совершим с вами мену. Заберем волов и соль, которые нам очень пригодятся, а вам за то даруем жизнь и свободу… Мне кажется, вполне равнозначная мена!
– Как – свободу? – воскликнул Грец, щуря глаза.
Миронов тоже казался обескураженным и даже огорченным. Иметь иголки, галоши, соль – несусветные ценности, и в конце концов получить взамен такую эфемерную, такую нестойкую вещь, как свобода. Лишиться даже повозки с тягловой силой…
– Этот человек оказал нам несколько важных услуг, о которых я не хочу распространяться, – сказал Павел главным образом Грецу. – Мы дадим ему справку с печатью, с ней он доберется до Одессы. А дальше – его дело.
– Без денег в Одессу? – усмехнулся Миронов. – Это все равно что в море без шлюпки. Одесса почему-то не признает граждан без денег.
– Контра! – сказал кто-то из пушкарей. – Про что болтает? Или не знает, что деньги в Республике вот-вот отменят?
Грец одобрительно крякнул.
– Но не в Одессе, – заметил «граф».
– А вы продайте одесситам Эйфелеву башню, – посоветовал Кольцов.
– Увы! Уже давно продал! И обязался поставить ее на Биржевой площади!..
Теперь речь Миронова вызывала смех, на что он, видимо, и рассчитывал. Смеющиеся люди не расстреливают.
– Ну вот что! – сказал Кольцов. – Нам некогда слушать байки. Грец, выдайте ему справку о том, что этот… э-э… товарищ Миронов оказал содействие в снабжении нашей воинской части… и расписку в получении волов и соли.
– Вы что же, действительно хотите его отпустить? – спросил Грец с угрозой. – Вы всех задержанных собираетесь отпускать? Это у вас правило такое? Ну-ну!..
– Вы получили приказ? Выполняйте! – строго сказал Кольцов, и Грец понял, что время пререканий кончилось.
– Слушаюсь.
Грец насупился, стал писать справку. У него у единственного была печать. Несомненно, он хотел довезти Миронова до штаба Правобережной группы как живое свидетельство собственной бдительности. И опять этот странный чекист Кольцов встал на его пути. И не подчиниться нельзя. Грец помнил, как в свое время ему досталось за самоуправство на дороге к Мелитополю, и в результате он оказался на этой зачуханной станции, вместо того чтобы работать в Штаарме. Ладно, Кольцов, еще не вечер!
Грец выдал Миронову требуемые справки, но просто так оставлять это дело он не собирался. Он отправится вместе с батареей в Берислав. Там Эйдеман, там Землячка, люди зоркие, настоящие бойцы революции. Они этого Кольцова сразу раскусят. А ему, Грецу, только пусть намекнут, уж он-то сам разберется с полномочным комиссаром. Много их было, своевольников. Кого судили, а кого и так… по-тихому, не возбуждая лишних толков.
– Надеюсь, я вас больше никогда не встречу, – пряча справки поглубже под одежду, сказал на прощание Миронов Кольцову. – А то, не ровен час, в следующий раз вы окажетесь королем Артуром или каким-нибудь капитаном Копейкиным… Я постараюсь забраться в такие края, куда вас не занесет никаким ветром.
Он прижимал к себе мешочек соли, которую ему отсыпали пушкари – как деньги на дорогу. Может, какую клячу выменяет.
Павел не смотрел, как тает в степной дали маленькая фигурка. Некогда было за хлопотами. Хотя, конечно, Миронова-Красовского ему было немного жаль. Но не мучить же себя этим чувством, в то время как их ждали тяжелые бои, в которых неминуемо должны были погибнуть сотни и тысячи революционных бойцов, славных ребят, мечтающих о рае для всего человечества.
Не знал Кольцов, что он вступает не только в полосу затяжных и кровопролитных боев, но и в полосу совершенно невероятных открытий.







