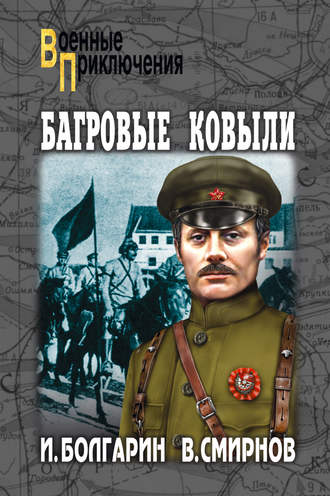
Игорь Болгарин
Багровые ковыли
Лев Давидович закончил диктовку, протер воспаленные глаза, приподняв над покрасневшей переносицей очки. Его секретарь Нечаев принес только что полученную из Реввоенсовета, от Склянского, расшифрованную первоклассными, еще царского образования, криптографами, телеграмму.
Троцкий привычно продергивает длинную ленту сквозь пальцы, как сквозь валики. Читает быстро. Склянский замещает Троцкого на время поездок на посту председателя Реввоенсовета, полномочия его неограниченны, знания политической обстановки безупречны.
«…Начались переговоры о перемирии с Махно, который сейчас направляет большую часть своих банд в Донскую область. Сторонники перемирия утверждают, что Махно может стать союзником в войне против Врангеля…»
Троцкий дочитал телеграмму. Махно – союзник? На день, на два? Уже сколько раз так было. Нет, этого крестьянского вожака необходимо раздавить. Никаких поблажек, никаких иллюзий. И не надо отдавать ему часть лавров в победе над Врангелем. Поражение под Варшавой – это далеко не радость для барона. Теперь он обречен. С Польшей – вот с кем придется заключать перемирие. И освободившиеся войска, конницу Буденного в первую очередь, бросать в Северную Таврию. Он не сумел победить Пилсудского, но отыграется на Врангеле. Народ должен знать, что Лев Давидович заканчивает войны только победой и ни на какие компромиссы с врагами не идет.
– Зашифруйте и передайте Склянскому следующее, – отрывисто бросил Троцкий. – Реввоенсовет может пойти на перемирие с Махно только как на хитрость. Можно – предположительно – поставить махновцев на участок фронта, который станет ловушкой. Прижать их со всех сторон. Махно – враг пролетарской революции, и иного определения быть не может. Наше оружие – пуля, оружие сопливых либералов – носовой платок. Следует изолировать и политически обезвредить сторонников полного примирения с Махно, дискредитировать их. Найдите для этого возможности и средства…
В полевом штабе Реввоенсовета в Москве, в Лефортове, Эфраим Маркович Склянский незамедлительно получил указания Троцкого. Они понимали друг друга с полуслова. Склянский был подлинной находкой Троцкого. Этот молоденький военврач, впервые проявивший себя на северо-западе в восемнадцатом, куда был назначен с комиссарскими полномочиями, привлек внимание Троцкого безукоризненной исполнительностью и жесткостью. Разваливавшуюся армию, которая никак не хотела из царской превращаться в Красную, митинговала, отступала перед белополяками и немцами, бросала оружие, он за две недели превратил в действующее войско. Для начала расстрелял каждого десятого. Потом еще раз каждого десятого.
Главком Вацетис, называвший русских солдат свинским сбродом, приказы Склянского утверждал с восторгом. Мягкотелый, царского воспитания генерал Снесарев и казацкий старшина Миронов, не сумевшие справиться с задачей, были направлены на другой участок.
Решительность Склянского сочеталась с дьявольской трудоспособностью. Вот только в отличие от Троцкого он не был оратором. Впрочем, оно и лучше. Больше времени оставалось для черновой, но такой необходимой работы.
Именно Склянский создал в Реввоенсовете незаметный отдел со скучным названием – Регистрационный. Этот отдел занимался шпионажем и контршпионажем, конкурируя с ЧК, оплетая ведомство Дзержинского своими щупальцами.
Впрочем, и чекисты не оставались в долгу, стараясь внедрить своих сотрудников в секретный отдел Реввоенсовета.
Склянский понимал всю деликатность проблемы. Указание Троцкого относительно дискредитации сторонников полного примирения с Махно выполнить было нелегко. Конечно, формально этим занимались люди в правительстве и Центральном комитете партии на Украине – Раковский, Косиор и прочие, и доступ туда представителям Троцкого был открыт. Но весь конкретный материал разрабатывался в Укрчека, у Манцева, в обстановке секретности и конфиденциальности.
Все же через три дня на столе у Склянского лежало расшифрованное сообщение из Харькова, посланное секретным сотрудником Регистрационного отдела.
«Предложениями о перемирии с Махно, как известно, занимается по поручению Манцева полномочный комиссар ВЧК Павел Кольцов, пользующийся большим доверием и Манцева, и Дзержинского. Кольцов является сторонником скорейшего примирения и признания Махно. Он не из тех людей, которых можно переубедить или запугать. Необходима серьезная дискредитация этого сотрудника».
Теперь Склянскому оставалось лишь тщательно продумать всю операцию. К счастью, Дзержинского в Харькове не было и появление его ожидалось не скоро. Да и вряд ли Дзержинский вернется в Харьков после польской кампании. Все знали, что в своей борьбе с Махно он не смог одержать победы. Хуже того, он признался Ленину в поражении. Этим и надо было воспользоваться в первую очередь.
Склянский задумался. Он был неплохим человеком и никому не желал зла. Но революция, и опыт Франции это доказывал, является борьбой не только с врагом, но и своих со своими. Это неизбежно, поскольку, как доказывал великий теоретик Троцкий, всякая революция перманентна.
Много кумиров вознеслись на недосягаемую высоту в последние годы, ну и где они? Муравьев расстрелян, Сорокин и Думенко расстреляны, Миронов чудом избежал расстрела. Григорьева застрелил Махно (блестящая операция Регистрационного отдела). Щорс убит выстрелом в спину, Боженко отравлен, даже любимец Ильича чубатый, чернобородый гигант Дыбенко едва не попал под суд и расстрельную статью.
А кто такой Кольцов? Бывший адъютант генерала Ковалевского. Бесспорно, ловкий, удачливый лазутчик. Но и ничего более. Не вождь, не кумир, за ним не стоят преданные ему полки и эскадроны.
Справимся как-нибудь.
Глава четвертая
В августе раньше темнеет. Говорят, Петр и Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок. Уже в восемь часов, в вечерних сумерках, Кольцов покинул свой кабинет и направился на улицу Рыбную, где, впрочем, рыбой и не пахло. Но Павла в этот вечер ждал собственный улов. Здесь, на конспиративной квартире, где проживала пышнотелая вдова бывшего табачного короля Гураса, державшего ранее в Харькове крупную табачную фабрику, Павлу предстояло встретиться с посланцем Левы Задова.
Вдова, как лишенка, то есть лишенная социальных прав и всяческого карточного снабжения, промышляла мелкой торговлей, а потому в ее домишке на Рыбной, куда она была поселена сразу же после бегства белых, всегда толклась уйма разномастных посетителей. В ЧК и в самом деле приветствовали это незаконное занятие вдовы, так как оно давало возможность устраивать здесь встречи, которые в иных условиях вызвали бы подозрение соседей.
Павел приостановился у массивной филенчатой двери и дернул рукоятку звонка. Хозяйка, изучившая разнообразные манеры своих посетителей, узнала Павла по звонку и, быстро прошелестев по коридору, без всяких расспросов открыла дверь.
– Здравствуйте, Павел Андреевич, – сказала она, расплываясь в улыбке, словно при виде близкого родственника.
Да и было ей за что уважать полномочного комиссара и вместе с ним все ЧК. Содержание квартиры давало ей недурные средства к существованию. К тому же ей разрешили перевезти в кладовку из своего старого дома несколько сот упаковок папирос «ГиМ» («Гурас и Максимов»), чтобы иметь первоначальный капитал для «коммерции».
– Здравствуйте, Клавдия Петровна, – поклонился Кольцов довольно сухо.
Но полная, улыбчивая, вся как бы состоящая из округлостей и ямочек, пятидесятилетняя вдова излучала добродушие и приветливость, так что Павел в конце концов не мог не улыбнуться.
– Меня никто не спрашивал? – поинтересовался он.
– Пока нет…
Клавдия Петровна тут же поставила на стол стакан чаю – настоящего, душистого, положила собственной выпечки кренделек и початую пачку папирос «ГиМ».
«Хорошие папиросы, отменный чай, сдоба – так недолго привыкнуть к оседлой нечекистской жизни», – усмехнулся про себя Павел. Однако кренделек съел с аппетитом. Отвык от домашнего…
– Соседка все грозится жалобу на меня накатать куда следует, – пожаловалась Клавдия Петровна, улыбаясь, но с некоторым беспокойством в голосе. – Мол, за счет чего хорошо живу? Зависть. Ох, зависть! Раньше завидовали и теперь завидуют… А я вот завидую, что у нее муж живой и детей троечко, не одна живет… Кто ее знает, в какое ведомство ее понесет, как бы несогласованности не вышло.
Кольцов посмотрел на вдову – за этой простотой и добродушием скрывались и ум, и сметка. Что ж, такая им и нужна.
– Мы вам бумагу выправим от городских властей, – сказал он. – Мол, ваш покойный муж жертвовал на революционные нужды. Обычное дело.
– Вот спасибо, – успокоилась Клавдия Петровна. – Кабы все такие большевики были… внимательные.
Кольцов знал, что табачный король, муж Клавдии Петровны, был замучен первым комендантом харьковской ЧК знаменитым Саенко – живодером и садистом, как оказалось впоследствии, когда его судила и приговорила к расстрелу «тройка».
– Большевиков не на фабрике, как ваши папиросы, делали, – сказал Кольцов. – Всякие попадаются.
– Да и папиросы тоже разные, – весело отозвалась вдова. – Бывает, придут такие свитки табаку – все как есть паровозным дымом пропахшие, – уж мой-то и сушил их, и ароматы всякие добавлял…
– Да-да… – думая о чем-то другом, кивал головой Кольцов. Он достал часы – подарок Манцева. Время в этом уютном, теплом доме тянулось медленно. Его клонило в сон. Вот что делают с человеком довольство и сытость… Нет, уж лучше сидеть в своем кабинете в окружении одних сейфов.
Несколько раз резко звякнул звонок, выдавая нетерпеливость пришедшего. Кольцов вместе с хозяйкой подошел к двери.
– Сальцо на табачок не поменяете? – пробился сквозь дверь сиплый шепоток. – Волчанские мы, хлеборобы…
Кольцов кивнул. Клавдия Петровна открыла дверь. Увидев Кольцова, гость смело шагнул в дом, внеся вместе со свежим вечерним воздухом запахи конского пота, кожи и деревенского самосада, которым были обкурены его вислые усы. Весь он был кудлат, нечесан и неповоротлив – по крайней мере здесь, в городском доме, он двигался как-то топорно и неуклюже. Но Кольцов знал, что Петро Колодуб может быть ухватистым и ловким, если дело дойдет до боя или простой драки. Это он вместе с Левкой Задовым провожал их через болото, когда Кольцов направлялся к дому Доренгольца. Он был предан Левке, как верный пес, и при упоминании имени своего командира всегда настораживал поросшие волосом уши.
Стул под Колодубом жалобно скрипнул, отчего Клавдия Петровна даже вздрогнула: положительно, Задов подбирал статных хлопцев.
– Голодный? – спросил Кольцов.
– Я? – удивился Петро. – Я поранку сала фунта полтора зъим – и весь день сытый. А чего час вытрачать! Дело делать надо.
Глаза у него были упрятаны глубоко под выступающие надбровья. Внешняя простоватость скрывала крестьянскую сметку и наблюдательность.
Пачку «ГиМа» он отодвинул, считая папиросы барским баловством, и, взглянув на хозяйку, как бы спрашивая разрешения, стал сворачивать свою козью ножку из газетной бумаги. Клавдия Петровна, замахав руками, словно от подступившего дыма, ушла из комнаты: свое дело знала, приучилась. Крепко, со скрипом, притворила за собой створки двери…
– Бумаги от Махно я читал, знаю, – сказал Кольцов, сразу приступая к делу. – Но это сведения недельной давности. А что хлопцы говорят сейчас, какое настроение? Что думает Задов?
– Хлопцы на Дон идти раздумали, – сказал Петро. – Первые отряды ушли. Говорят, казаки подниматься супротив советской власти не хотят. Устали. И голод у них начинается – поля голые. Как и у нас, на гуляйпольщине… На Врангеля наши готовы пойти, бо боятся, что тот панов вернет. Но тут тоже сварка промеж своими идет: вишь, Врангель обещает за пятую часть урожая – правда, на пять только лет – закрепить все отобранные у панов земли. А дальше что?.. Отряды Волошина, Гнилозуба, Яремного уже подались до Врангеля, кинули батьку. Если и вы будете вот так прохлаждаться, как вол сено жует, тоже при пиковых интересах останетесь.
– Ну и какой же твой совет? Что надо сделать, чтоб хлопцы к нам подались, в Красную Армию? – спросил Кольцов.
– В Красную не подадутся. Комиссарское сало уже пробовали. Но примкнуть, как армия, до вас могут. Для этого первое – амнистия и шоб всех наших из тюрем повыпустили. И шоб на селе, хучь бы и в гуляйпольском уезде, разрешили нашу власть. Ну пущай будет вроде кордона: тут – вы, а тут, значится, мы. И комиссаруйте у себя, будьте ласковы, а у нас селяне сами разберутся, кому власть дать, а кого нагайкой выпороть… Ну и еще одно, дюже важное: возьмите наших ранетых до своих госпиталей. Бо мучаются и вмирают без лекарствиев, без бинтов. Сам батько, вы же знаете, на ногу не ступает, надо бы и ему добрячую хирургию сделать…
Колодуб замолчал, пристально вглядываясь в Кольцова, ища в его лице ответы на свои вопросы. Кольцов размышлял. Рассказ Петра подтверждал то, о чем он и сам уже давно думал: необходимо перемирие. Но, несмотря на согласие и поддержку Манцева, предложения Павла подозрительно долго решались в самых разных инстанциях. И чем настойчивее вел себя Кольцов, тем сильнее отвечала ему тайная пружина сопротивления. Гигантская машина Гражданской войны словно бы уже привыкла питаться потоками крови, и малые ручейки удовлетворить ее не могли.
– А споры по поводу перемирия идут? – напрямую спросил Кольцов.
– Не без этого… Одни вам верят, другие – нет. По-разному, – уклончиво ответил Колодуб.
– Вот и у нас по-разному, – признался Кольцов. – Но, я думаю, перемирия и совместных действий против Врангеля мы все-таки добьемся.
– Дай-то бог, – вздохнул Колодуб без особой, впрочем, надежды. Он порылся за пазухой и вытащил завернутый в тряпицу пакетик. Развернул, протянул Кольцову немного помятый конверт. – Это от Левы. Пишет про то же, только учеными словами… Я так понимаю: ежели будет от вас сурьезный документ, подписанный самыми главными вашими правителями, Лениным чи там Троцким, то мы со своими хлопцами столкуемся. Задов – он умеет слова говорить.
Павел разорвал самодельный, из обойной бумаги склеенный конверт. Пробежал глазами текст, коряво написанный на тетрадном, разлинованном листке. Корпел над письмом, видимо, сам Задов, потея от напряжения и борясь с разбегающимися вкривь и вкось буквами. Знакам препинания Лева объявил войну как классово чуждым элементам.
Кольцов сразу выделил наиболее важное место в сообщении Задова, написанном на неподражаемом суржике, смеси украинского и русского языка, на котором общались жители Левобережья.
«…Наши хлопцы у большинстве у своем Врангеля принимают как лютого врага и никак з им не сойдутся низакакую понюшку но часть з их хоть и малая на посулы генерала отгукается положительно бо сильно не любит большевицку владу и те хлопцы у числе две чи три тысячи человек может чуть боле подались до Каховки у плавни де богато зеленого народу ховается и маю опасение шо они вдарят по красных з тылу поперше шоб з Врангелем задружиться по-друге[1] шоб набрать барахла у красных обозах но батько грозився их розстрилять за таку опозицию только он до их никакого отношения не мает…»
Кольцов сразу понял, что этот рейд части махновцев к низовьям Днепра, к Никополю и Каховке, в плавни[2], представляет огромную опасность. В плавнях и без того скопилось немало «зеленых», не признающих ни красных, ни белых и живущих набегами, как в дикие времена. Эти вооруженные, знающие партизанскую войну хлопцы были взрывчатым материалом, готовым отозваться на самую малую искру. Если отколовшиеся от батьки махновцы уговорят их поддержать Врангеля, может пойти насмарку весь грандиозный план Тринадцатой армии, которая намерена ударить по белым в районе Каховки, переправившись через Днепр. Этого махновцам никто не простит. Поди разберись потом, за кого были батька вместе с Задовым и есть ли в происшедшем их личная вина. Тем более что батька Махно уже не раз выказывал свою хитрость, ссылаясь на своеволие «полевых командиров».
Все надежды на примирение исчезнут как дым. В плавнях разгорится война, а у Врангеля будут развязаны руки.
– Ты вот что! – сказал Кольцов Колодубу. – Запомни хорошенько и передай на словах Задову. Пусть он срочно отправляется на Днепр, к Каховке. Нельзя допустить, чтобы плавни ударили в тыл Красной Армии. Именно под Каховкой. Иначе красные войска оставят Врангеля и обрушатся на махновцев без всякой пощады. Никому от этого пользы не будет, а кровь прольется большая. Объясни это Задову!
Колодуб, насупясь, сведя вместе густые, в завитках, как овечья шерсть, брови, слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово. Часто моргал от напряжения.
– Все понял и запомнил? – спросил Павел.
– Без сумления, – коротко ответил махновец.
– Тогда спеши. Дело срочное.
– Ну что ж, прощевайте! Моя ночка темная, а дорога кривая.
Колодуб сунул Кольцову тяжелую, заскорузлую ладонь, и Павел выпустил его за дверь на пустынную Рыбную улицу, откуда было с сотню метров до зарослей на реке Харьковке. А спустя минут пять вышел и сам: Клавдия Петровна, учтиво кланяясь и улыбаясь, проводила его, не забыв напомнить о документе от властей, который гарантировал бы ей безопасность и оберегал от соседского злого глаза.
Все хотели перемирия – и все враждовали друг с другом. «А ведь это не пройдет за год или два, даже если наступит мирная жизнь, – подумал Кольцов, оказавшись под звездным августовским небом, где все так же таинственно и предупреждающе мигала звезда. – Мы уже привыкли к взаимной неприязни, недоверию и вражде. И долго еще не будем верить вчерашнему противнику, даже если он снова превратится в работящего крестьянина или учителя…»
Ему показалось, что под вишнями, что накрыли полуразвалившийся штакетник, застыла чья-то фигура. Павел по привычке сжал в кармане рукоять пистолета… Нет, почудилось!
От Рыбной улицы переулками пять минут до дома Старцева.
«Может, зайти? – подумал Кольцов. – Вдруг старик неожиданно вернулся из Москвы. Всякое ведь бывает…» Он понимал, что обманывает себя, скрывает непреодолимое желание увидеть хибарку Лены, проверить, не засветилось ли ее полуразбитое оконце?
Вот и поворот на Никольскую, где стоит дом Старцева. Но Павел твердо зашагал дальше, на Екатерининскую. В гостиницу не пошел: было еще рано уходить с работы, да и бумажных дел накопилось изрядно, решил в них разобраться.
В кабинете, низко склонившись над столом, Павло своим единственным глазом проглядывал протоколы допросов и донесений. Он был похож на часовщика со вставной лупой, разглядывающего сложный механизм. Губы чекиста шевелились, словно он пробовал слова на вкус.
– Пре-зумп-ция! – проговаривал он по слогам. – Черт, вот грамотеи! Что оно такое: пре-зумп-ция? Слово – как змеюка.
– Значит – предварительное положение, условие, – ответил Павел. – Это юриспруденция. А там всюду латынь. Древний Рим создал юридические науки, кодексы, суды…
– Хорошо тебе, – сказал Павло, сверкая воспаленным глазом. – Гимназию прошел… Ну презумпция, и что из того?
– А то: ранее в юридической науке по принципу презумпции за предварительным положением должно следовать доказательство. Если ты не доказал, что именно этот человек, без ведома хозяина или против его воли, присвоил себе его вещь, ты не можешь считать его вором или грабителем.
– Здрасте вам! А если эта вещь у него в кармане?
– Это, конечно, улика, но еще не все. А разве не может быть так, что человеку дали или, того хуже, подсунули вещь, чтобы затем его оговорить, опозорить?
– Может, конечно. И все равно буржуазная это наука, – вздохнул Павло. – Если так рассуждать, выходит, с преступностью нам никогда не справиться. С жуликами, ворами, бандитами. В душу надо заглядывать, а не в теории… От грамотеи!
Он покачал головой, потом вдруг вспомнил:
– Тут один до тебя заходил. Обещал снова зайти. По важному, говорил, делу. Военный, с портфелем. А морда такая пухлая! Должно, этот… интендант. Тоже словечко…
Интендант, и верно, зашел к ним, когда они уже закончили работу и настроились идти к себе в «Бристоль». Вежливо постучал, бесшумно протиснулся в дверь. Высокий, слегка одутловатый, с тремя кубиками в петлицах, Кольцову он показался знакомым. Нет, не просто где-то в каком-то коридоре мельком виделись, а разговаривали, может, называли друг друга по имени-отчеству. Он пристально смотрел на гостя и никак не мог до конца вспомнить, откуда он его знает. Пока тот не приблизился к нему и не сказал полушепотом:
– У меня к вам… как бы это поточнее… э-э… весьма деликатное дело.
Сосед Старцева! Это был он, хотя и видел Павел прежде только половину его лица, поскольку сосед брился.
– Что там у вас? – холодно спросил Кольцов, понимая, что никаких личных дел, тем более деликатных, у них быть не может. – Какая-то весть от Ивана Платоновича?
– Угадали, – даже обрадовался интендант, – но только наполовину. – Он коротко взглянул на Павло. – Наш товарищ? Проверенный?
– Другой у меня в кабинете бы не сидел…
– Вы не обижайтесь. Но дело-то, повторяю, деликатное… касаемое женщины…
– Да мне не больно-то и интересно, – выручил Кольцова Павло. – Я пока за сводками схожу.
Павло вышел, а интендант еще долго ходил словами вокруг да около.
– Понимаете… появилась эта самая женщина внезапно, примерно в такую же позднюю пору… Мне бы, конечно, ее задержать, но…
– Какая женщина? О ком вы?
– Ну, которая напротив в мазанке жила… лишенка… Так вот, она оставила для Ивана Платоновича письмо. Я поначалу подумал: может, его в Особый отдел… дело такое… навел справки. Жена белого офицера. Говорят, погиб. А может, и нет. Может, бродит где-нибудь здесь… А потом вас вспомнил, встречались. И профессор про вас говорил. Вот решил посоветоваться, чтобы нечаянно на Ивана Платоновича беды не навлечь. Вы, надеюсь, понимаете? Недобитков-то еще много. Мы, когда ее вещи из квартиры выбрасывали, чего только там не увидели: и иконы, и погоны, и даже какие-то царские ордена…
«Вот оно что, – сообразил Кольцов. – Это они въехали в квартиру Лены. Это Лена – лишенка. Вот почему этот интендант так осторожен. Боится обратного хода».
– Где письмо? – громче, чем следовало, спросил Кольцов.
– Вот! Извольте!
Интендант полез в карман гимнастерки и извлек оттуда конверт, собственно, даже не конверт, а склеенную вчетверо газетку, в которой просматривался белый листок. От письма пахло вишневой смолой, которая, видимо, послужила клеем.
Интендант почтительно передал письмо и отошел в сторону, а Павел стал посреди кабинета, поближе к мерцающей электрической лампочке, и стал читать.
«Дорогой Иван Платонович! Хотелось бы сообщить Вам, что я с детьми устроилась в слободе Алексеевка. Это совсем близко от станции Водяная, где Вы когда-то вели раскопки, и Вас тут хорошо вспоминают и низко кланяются. Здесь мне удалось поступить учительницей в четырехклассную школу при большом хмелевом хозяйстве, которое, впрочем, сейчас запущено. Однако мне платят родители учеников – в основном, конечно, натуральным продуктом, но, главное, мы не бедствуем. У детей есть молоко, яйца и лепешки. Дом наш стоит на обрывистом берегу у ручья, бегущего к Ворскле, оттуда мальчишки приносят и копья, и стрелы, и еще какие-то черепки – видать, там когда-то было старинное городище. Вот бы Вам приехать сюда да покопать! Глядишь, и нашли бы что-то исторически ценное! А еще отдохнули бы у нас, здесь много фруктовых садов, а в огороде выспевают небольшие, но вкусные кавуны. Желаю Вам доброго здравия. Никогда не забывающая Вас и Вашу доброту соседка Ваша Елена с детьми, которые тоже кланяются Вам…»
Сердце у Кольцова колотилось, пока он читал эти строки. Ему хотелось думать, что письмо в немалой степени адресовано и ему: ведь Лена знала о нем лишь то, что он приятельствовал со Старцевым, и письмо, отправленное археологу, было единственной возможностью напомнить о себе. Водяная – это всего лишь верст семьдесят от Харькова, почти рядом. Нет, он не потерял ее. Впрочем, что значит «не потерял»? Ведь он должен будет рассказать ей всю правду. Трагедия, которая разделяет их, не может быть тайной. Он не имеет права обманывать полюбившую его женщину. «Лена, я тот человек, который убил вашего мужа, отца ваших детей…» Хорошее продолжение их романа, так внезапно начавшегося. Да не семьдесят, а семьсот верст, семьсот тысяч верст разделяет их. Непреодолимое расстояние.
Интендант с тремя кубиками ждал, наблюдая за потупившим голову Кольцовым. Он по-своему понял затянувшееся молчание и раздумья чекиста.
– И заметьте, где нашла пристанище! Водяная – бандитские места. Не случайно она там скрывается, ох, не случайно.
– Вы читали письмо?
– Ну, как же! Бдительность в наше время…
– Меня мать веревкой учила: читать чужие письма нехорошо, – сказал Кольцов с нескрываемой неприязнью.
– А если это не чужие, а вражеские письма, тогда как? – с вызовом спросил интендант.
– Вы свободны! Честь имею!
Интендант так же бесшумно выскользнул из кабинета, но задержался у приоткрытой двери и вкрадчиво спросил:
– А может, лучше все-таки в Особый отдел? Письмецо-то вражеское, не по вашему, я так понимаю, профилю. А там специалисты, они разберутся.
– Закройте дверь! – не сдержался Павел.
Интендант торопливо закрыл дверь и нос к носу столкнулся с Заболотным, соседом Кольцова, тот возвращался с кипой сводок и других бумаг в руках.
– Нервный товарищ! – пожаловался на Кольцова интендант. – И прощается по-офицерски, как будто в царской армии служит: «Честь имею!» При чем здесь честь?
– А чего удивительного? – в ответ сказал Павло. – Честь – это честь. У кого она есть, а многие ею обделены. У товарища Кольцова она имеется. При чем же здесь царские времена?







