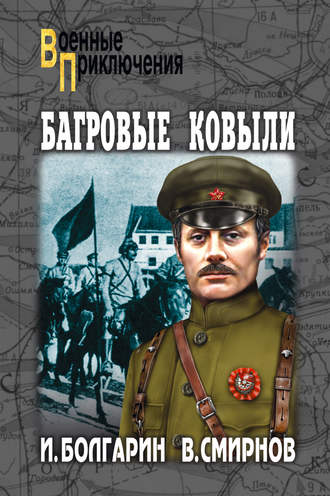
Игорь Болгарин
Багровые ковыли
Николай Григорьевич ходил под руку с Лукомским. Он и хотел бы быть разговорчивым и любезным, но на ум шли не те слова. Говорили о союзниках, о наступлении красных на Польшу и о некоторых успехах на польском фронте, но в конечном счете пришли к выводу, что ничего хорошего Россию уже не ждет, что к прежнему возврата нет и Париж – едва ли не самый лучший вариант в их бездомной и не очень сытой жизни. Разве что Америка…
– Нет-нет! – холодно возражал Щукин. – Из Парижа хоть краем глаза, хоть издалека можно увидеть Россию. А уж из такой-то дали… Нет!
– Я согласен с вами, – сказал Лукомский. – Мечтаю быть похороненным на родине. На каком-нибудь тихом деревенском кладбище, под березкой или ракитой… Ах, даже это у нас отняли!
Под басовитые гудки парохода сухо, по-мужски попрощались. Таню девчонки Рождественские проводили до сходен, и едва она стала подниматься на корабль, они дружно в голос заревели.
А потом пароход отошел от причала и под причитания Рождественских тихо поплыл по черной, мазутной воде Босфора. В ней отражались тысячи и тысячи огней Стамбула, и казалось, что пароход плывет по не до конца потушенному огромному кострищу. Дополняли эту волшебную картину звезды. Они не висели на небе, а целыми роями проносились по темному небосводу.
– Смотри, папа! – схватив отца за руку, воскликнула Таня. – Звезды падают… Мне мама говорила, что это души умерших улетают в рай.
– Души умерших? – переспросил Щукин. – Что ж, вполне возможно. Сейчас повсюду идут такие бои, что этих душ не перечесть… Ладно, идем в каюту.
– Я еще постою… Красиво!
– Ну хорошо. Постоим вместе.
Николай Григорьевич не хотел оставлять Таню одну, и они еще долго стояли на палубе, любуясь звездным осенним небом. И ушли спать почти под утро, когда Стамбул и его праздничные огни исчезли вдали. Осталось лишь небо, рассыпающееся звездопадом.
Глава вторая
Над полутемным Харьковом тоже висели августовские крупные звезды. На небе разворачивался настоящий спектакль – это наступило время осеннего звездопада.
Ослепительно белые метеориты, косо прорезая небо, неслись куда-то к горизонту, оставляя за собой огненный росчерк. И умирали там, в бесконечной дали, словно тонули в черном омуте. Сердце вздрагивало, когда из холодной пустоты вылетала, как пуля, и разгоралась на бешеном космическом ветру яркая метеоритная молния и неслась над головой, прорезая созвездия, будто простреливая их насквозь.
Павлу Кольцову выделили кабинет в здании ЧК на Сумской. Возвращаясь поздно вечером к себе в гостиницу, он подолгу задерживался где-нибудь на улице и, задрав голову, наблюдал за холодным звездным хороводом. Наверное, это был единственный в мире человек, который в такое смутное время мог позволить себе любоваться ночным небом.
Голодный, измученный бесконечными переменами и чередованиями властей, город к сумеркам затихал, как бы затаивался. Лишь кое-где в погребках звучали пьяные выкрики да на окраинах – то в стороне Ивановки, то Основы или Карачаевки – раздавалась и тут же стихала перестрелка. То ли стрелял патруль, то ли где-то кого-то грабили.
От картины звездопада и от как бы вымершего на ночь города Павлу стало зябко и одиноко. В душу закрадывалось вовсе не свойственное ему чувство тоски. «Это усталость», – уверял он себя, хотя знал, что это не совсем так. Потому что тоска была смешана с чувством тревоги и беспокойства и это чувство с каждым днем росло.
Новый метеорит чиркнул о пространство неба, ярко вспыхнул и тут же погас. И только сейчас Павел заметил, что всегда светлая, ровно и ясно светящаяся звезда сейчас вспыхивает, будто огонь маяка: то полыхнет на миг, то исчезнет в густой, вязкой, как деготь, темноте.
Странно, ни облачка на небе, ни дымка…
Как боевой офицер, полевик, окопник, много раз ходивший с отрядом по ночам во вражеские тылы, Кольцов хорошо знал все особенности звездного неба, все его знаки и приметы. Это лишь для ненаблюдательного человека небо одинаково и неподвижно, а для знатока, к тому же с детских лет проявлявшего интерес к астрономии, небо живое, движущееся, наполненное множеством отличительных черт.
И как по опавшим в роще листьям или распустившимся березовым почкам можно судить о том, какая будет зима или весна, так и звездное небо говорит о многом.
«Почему все звезды горят ярко и ровно, а эта вспыхивает и гаснет? – размышлял Павел. – Знак… Предзнаменование?»
Он мысленно укорил себя за то, что готов впасть в суеверие, совершенно позорное для грамотного человека. «Мигает, ну и пусть. Стало быть, так надо». И усмехнулся. «Подлинно революционный человек отметает все, что не соответствует его теории, как третьестепенное и незначительное…» Кто это сказал? Кажется, Троцкий.
Похоже, за время своей работы в тылу, в ЧК, он становился все более циничным. Впрочем, посмеивался он прежде всего над самим собой, а это признак духовного здоровья…
Размашисто и уверенно Кольцов зашагал дальше по Екатеринославской, к своему «Бристолю». От пустующей квартиры Ивана Платоновича он отказался. Далековато да и опасно: он сейчас стал хранителем такого количества тайн, что не имеет права рисковать собой. Хотя в глубине души знал: если бы в хибарке неподалеку от дома Старцева могла появиться Лена, он бы наплевал и на расстояние, и на опасности. Вот промелькнула в его жизни женщина, как метеор, как звездочка, – и исчезла, а в его душе до сих пор боль от этого коснувшегося его огня.
Мимолетная встреча. А он все помнит. До сих пор кажется, что руки пахнут полынью. Слышится ее тихий голос, ощущаются прикосновения, поначалу робкие, стеснительные, потом более откровенные. Неужели одна ночь может так привязать к человеку?
Может быть, это был тот редкий случай, когда вот так сразу, в считаные часы, даже минуты открываешь родственную душу? Как же отыскать ее, Лену, в этой кутерьме Гражданской войны? Тут даже он, полномочный комиссар ЧК, бессилен.
В «Бристоле» пахло карболкой, хлоркой и еще какой-то гадостью, которой щедро поливали полы и стены для дезинфекции. Этот запах только усиливал тоску.
К счастью, Павел жил не один. Он делил гостиничный номер со своим сослуживцем, фронтовиком, потерявшим где-то в донских стычках глаз и переведенным на работу в ЧК. Был он смешлив и по поводу своего увечья не особенно переживал. «Меньше вижу, меньше с меня и спрос», – пояснял сосед. К Павлу, старшему по должности, он относился уважительно. Да и звали их одинаково, только фронтовик представлялся на украинский манер: Павло.
Павел увидел его в вестибюле, где от былой роскоши остались лишь бронзовые кольца на парадной лестнице, куда когда-то вставлялись штанги для крепления ковров, зеркала и люстра, вечно темная, но днем переливающаяся цветами радуги, да еще постаменты, на которых в былое время стояли бронзовые амурчики и психеи. Сосед-чекист, худой, вихрастый, с пиратской повязкой на лице, шел, держа в руке помятый медный чайник.
– А я тебя, брат, давно поджидаю! – радостно заулыбался он. – Вот как раз на ночь чайку хлебнем, чтоб в пузе не урчало. Я и хлебца поджарил на постном масле…
От такой приветливой встречи Павел повеселел. Чай пили с колотым сахарком. Все же хозуправление ЧК старалось в меру прилично снабжать своих сотрудников.
– Земелю своего встретил. Он в оперативном отделе работает, – макая сахар в налитый в блюдечко чай, сказал Павло. – Во где работенка! Мы вот с тобой чаи гоняем, а они там иной раз до утра не расходятся.
– Это уж кому что на долю выпало, – улыбнулся Кольцов. – Хотя и у нас служба не мед.
– Ну да, – согласился сосед и добавил: – Особенно в последнее время, когда с Махной не поладили.
– Да мы с ним давно не ладим.
– Во-во!
– А надо бы поладить! Я-то эту публику, как вот тебя, видел, – хрустя сахаром, сказал Кольцов. – В основном гречкосеи, селяне. Только задуренные очень.
– Тебе виднее, ты на этом деле сидишь.
Кольцов действительно по просьбе председателя ВУЧК Манцева занимался сейчас разработкой «дела Махно». После пережитого в тылу у махновцев он в одну минуту стал знатоком и специалистом по банде. Особенно после того, как выяснилось, что Левка Задов, кроме Кольцова, ни с кем в переговоры не вступает.
Манцева интересовало, возможно ли примирение и какой ценой. Несмотря на нехватку помещений, Василий Николаевич выделил Кольцову просторный кабинет и даже нашел ему хорошего помощника – отдал своего адъютанта, парнишку-самоучку из крестьян Глеба Пархомчука, очень толкового и расторопного. И даже средства на агентурную работу выделил, хотя такой статьи «для Махно» во Всеукраинской чрезвычайной комиссии предусмотрено не было.
Кольцов дал свое согласие заниматься этим делом. Он видел, как трещат тылы под натиском махновских отрядов. Харьков, правда, «повстанцы» штурмовать не стали: не прошли зря беседы Кольцова с Левкой Задовым. Но окрестным городам досталось. Все, что большевики сшивали днем, махновцы распарывали ночью, и ножи у этих горе-портных не тупились.
Видимо, надо решительнее настаивать на том, чтобы Нестор Иванович вливался со своей дивизией в ряды Красной Армии. Он уже было соглашался, но продолжал вести какую-то детскую игру: «Комдивом не пойду. Хлопцы засмеют. У меня ж армия. Ежели назначат командармом, как Сеньку Буденного, и со всеми другими вытекающими – можно и подумать».
В конце концов, черт с ним, пусть будет командармом. Ради такого дела можно бы и поступиться своими амбициями. Так ведь нет же! Не хотят! Упираются.
– Я с тобой про Махна не просто так разговор затеял. Хочу тебе по секрету кое-чего сказать, – со звоном ставя на тумбочку чашку с блюдцем, решительно начал сосед. – Это так, для сведения. Земеля мой просил предупредить, чтоб никому ни полслова.
Кольцов насторожился, тоже отставил стакан, прямо поглядел в единственный глаз соседа.
– Ну говори же!
– Земеля видел бумагу, тебя касаемую. Ну не впрямую, конечно. Вроде как оттуда. – Сосед поднял вверх пожелтевший прокуренный палец. – Не то от Склянского, не то от самого Троцкого… Земеля так прикинул, что раз мы с тобой вроде как однокорытники, то не худо тебя предупредить, что там… – Сосед вновь ткнул пальцем вверх. – Недовольны мягкостью к банде Махно. Что, дескать, пора тебе проявлять пролетарскую непримиримость и все такое…
Кольцов нахмурился. Само предостережение не было для него новостью. Он уже и раньше ощущал сгущающиеся тучи – как тогда, перед встречей с Дзержинским, который, используя свое влияние, как бы в одночасье отсек от него все нападки и обвинения.
Но сейчас не было рядом Дзержинского. А он, Кольцов, возможно, чего-то недопонимает в самой сути своего ведомства. Или оно не понимает его, Павла Кольцова. Дзержинский мог бы все разъяснить, помочь, а если заслужил, то и отругать.
– Я к чему веду, Паша, – прервал его размышления Заболотный. – Тут как бы вырисовываются две точки зрения. Ты – за то, чтобы мужиков как можно больше спасти, этих самых гречкосеев, а они там – чтоб революционную принципиальность соблюсти. Словом, оглядись по сторонам, с Манцевым Василь Николаичем посоветуйся, еще с кем, только не ссылайся на моего земелю…
– Само собой, – кивнул Кольцов.
Глядя своим единственным глазом в стол, Павло с тяжелым вздохом сказал:
– Как-то все непросто. Вот, казалось, надо только врагов разбить – ну генералов, помещиков, буржуев. И все! И победа! А тут крестьяне вмешались. Сам по сводкам знаешь: кругом мужицкие восстания. Мужик – ему всякая там теория, принципиальность – все это воздуха´, бздушки. Он хозяйствовать желает.
– Естественно, раз ему землю панскую дали, – согласился Кольцов.
– То-то и оно! Выходит, получил, что хотел, а теперь повернул против большевиков. Я такого дела, Паша, своим простым умом понять не могу.
– Думаю, не только ты. Наверху все разговоры сейчас о мужике. Троцкий, например, предлагает демобилизовать армии и создать совхозы. По военному образцу, с военной дисциплиной. С техникой, со специалистами, агрономами. Но главное – с военной дисциплиной.
– Пустое! – Павло поднял голову. – Хлеб по приказу не вырастишь. Хлеб – мужицкое дело, его забота. Мужика не обойти, нет. Он душу в землю вкладывает. Как бы беды не вышло.
– Да, беда, брат, уже вышла, – вздохнул Павел.
– Вот и я так думаю. В нашем селе пятеро ушли к Махно. Все справные хозяева, трудящие. Не хотят задарма работать. Вроде надо теперь на голытьбу надеяться? Как же! Я сам из голытьбы. Хлеба мы не дадим, навыка того нет. Воевать за большевиков – это пожалуйста. Это другое. Но война не земля. Хлеба не родит. Значит, и впрямь надо к справному мужику поворачивать, на свою сторону его перетягивать. С оглядкой, с умом… Как лиса к ежу подходит, видел? С хитрецой да с уважением.
Павло неожиданно закончил разговор:
– Ладно! Тут в этих делах голову сломать можно… А вот ты, Андреич, мои слова учти, будь поосторожнее. То ли ты возле огня ходишь, то ли огонь возле тебя. Ты человек своего, незаемного ума, да только это иногда и припрятать нужно. С родной бабой и то иной раз хитрить приходится. Как же! А тут не баба, тут революция, она любит, чтоб подчинялись.
Чай допивали молча. Кольцов думал о том, что, может быть, зря он не настоял на немедленном переводе в Москву, в Иностранный отдел ВЧК, как того хотел Феликс Эдмундович. Может быть, это действительно была бы для него настоящая работа. Но что сделано, то сделано. Чего теперь после драки кулаками махать. А то, что сказал Павло, совсем не лишнее. Надо думать… думать…
Сейчас махновцы вроде бы собираются на восток, на Дон. С одной стороны, будет немного полегче войскам, ведущим борьбу с наступающим Врангелем, а с другой – что, если Махно снова подожжет Дон? И это тогда, когда захлебывается наступление красных войск на Варшаву. В последнее время Кольцов недоумевал, как это главком Каменев, командующий Западным фронтом Тухачевский и, конечно, председатель Реввоенсовета Троцкий, пригнавший свой бронепоезд к Белостоку, чтобы руководить наступлением «на месте», допустили наступление на польскую столицу.
Революционный азарт, нетерпение? Он, Кольцов, конечно, не стратег, но хорошо понимает всю опасность такого наступления. Срочно необходимо подкрепление. Если бы Махно послушался тогда совета этого никому не известного Сталина и пошел на Галицию (Левка донес ему обо всех спорах по этому поводу в махновской верхушке), генералу Вейгану, которого прислали из Франции на помощь Пилсудскому, пришлось бы снять с Вислы свои лучшие броневые силы…
– Знаешь что, браток Кольцов, – сказал Заболотный с сочувствием. – Вижу, затронуло тебя мое предупреждение. Извини. От души. Но ложись-ка ты лучше спать. Утро, как известно, вечера мудренее, а утро уже через четыре часа. Какой будет толк от твоей головы, если в ней сонные мухи будут жужжать…
– Верно, – согласился Кольцов, прикрутил фитиль лампы и задул огонь.
Вмиг высветилось огромное окно, а за ним небо с августовскими звездами. Павел пошире отворил створки. Прохладный, уже припахивающий осенью воздух наполнил комнату.
Нет, совсем не тиха украинская ночь. И не только в Таврии. Плодородный край, окружающий подступы к Крыму, полыхает огнем войны. Вся хлебная Украина затянута густым военным дымом. Нападают, вырезают, рубят, расстреливают, взрывают. Да что республика? А разве на Дону, на Волге, в Сибири не разлились бурным, смертоносным половодьем восстания?
Свой со своим дерется насмерть.
Самый сильный огонь – на западе, у Вислы. Недавно еще Польша была частью России, жила посытнее, чем иные русские губернии. Рязанские мужички ездили на заработки в Сандомир и Люблин, купцы – в Лодзь за мануфактурой, а питерские и московские евреи коммерсанты отправлялись в польскую столицу за «варшавским серебром»: изделиями из мельхиора, столовыми приборами, супницами, конфетницами. А взамен в Польшу везли вологодское и сибирское масло, оренбургскую пшеницу, вятский лес…
Жили как люди. Когда это было? Кажется, в незапамятную пору, до Рождества Христова. Сейчас Польша наспех создала мощную армию, техникой ее снабжает вся Европа, обучают австрийские и французские офицеры, и она на равных борется с Россией. Для поляков это битва за «ойчизну», для Европы – сражение с коммунизмом, который, охватив умы русских, рвется с востока туда, где он зародился, к немецким, французским городам.
У Белостока, где скрещиваются железнодорожные пути, ведущие с севера на юг и с запада на восток («Ворота в Польшу»), стоит под парами поезд Троцкого.
Все знают: Троцкий – глаза и уши Ленина и его карающая длань. Троцкий – это Революция.
Это он, подавляя сопротивление военачальников первой волны, вождей, батек и партизан, насытил красные полки и дивизии военспецами, знатоками стратегии и тактики. Кто из бывших генералов, полковников и поручиков пошел по принуждению, кто – за пайком, кто примазался к силе, кого заставили согласиться взятые в заложники семьи, но многие пошли за веру. Не в царя и отечество, не в коммунизм, нет – в Троцкого, этого очкастого, козлобородого ученого еврея, который взялся возродить империю под красными флагами. Что там империю! Как Наполеон, он замахивался на всю Европу.
Решительности и смелости в нем оказалось больше, чем у благообразных выучеников Генерального штаба и царских сановников, которые долго позволяли революции подтачивать фундамент величайшей в мире страны.
В комнате полыхнуло, будто на мгновение зажгли электричество, – это мимо окна пронесся огромный метеорит.
– Слышь, Кольцов, куда ж они падают? На землю? Отяжелеет ведь земля, провалится…
Кольцов ничего не ответил. Поворочался немного. Но мысли о Троцком, о его непримиримой, лютой ненависти к Махно не покидали его, не давали уснуть.
Призывая сон, Павел зарылся в подушку лицом. Недавний разговор не давал покоя. Кольцов понимал, что вступил в споры с недюжинной силой. И надо было как-то держаться. На него надеются. Такие, как Левка Задов и многие тысячи запутавшихся в дебрях свободы людей.
Глава третья
В Белостоке, на белорусской земле, стоял огромный, устрашающего вида поезд. Два окованных сталью паровоза тяжело пыхтели и курились паром. Они были готовы к отбытию, в любой миг могли сдвинуть с места длинную цепь вагонов. Даже тот, с зашторенными окнами, где ярко сияли голубоватые электрические лампочки (ток непрерывно подавала мощная поездная электростанция). В вагоне шла напряженная штабная работа, оттуда исходили циркуляры и, звеня шпорами, то и дело вылетали рассыльные.
А по ночам, когда вокруг все стихало, в закрытом купе, щуря бессонные глаза, скрытые толстыми линзами очков, Лев Давидович Троцкий писал пламенные статьи. Днем у него это получалось хуже.
Язвителен, остроумен, образован. Троцкий – гений революции. Статьи его разят наповал, возбуждают общий интерес. Ими зачитывается вся Европа. Да что статьи! А его речи! Его голос! Высокий, надтреснутый, но доходящий до каждого сердца голос Льва Давидовича останавливал бегущие полки, обращал противников в союзников, переворачивал, вытряхивал, как старые перины, сложившиеся убеждения, укреплял нестойких и творил победу там, где поражение уже казалось неизбежным.
Троцкий первый превратил эфир в поле политической битвы. На радиоволнах он схватился с мастером полемики Клемансо, изобличавшим и громившим большевиков. Тонкий писк морзянки разносил мысли и слова Льва Давидовича по всей Европе. Захваченная новой властью, мощная царскосельская станция поразила высотные антенны Эйфелевой башни. И Клемансо примолк, сраженный энергией, смелостью, образностью речи своего противника. Примолк потому, что Троцким стала заслушиваться вся Франция, его избиратели. А ведь это была всего лишь морзянка. Клемансо не довелось услышать живую речь Троцкого, его саркастический голос, которым он подкреплял убийственные аргументы.
Недаром Троцкий провел несколько лет в Вене, где под руководством Зигмунда Фрейда и его ученика Альфреда Адлера изучал психологию толпы. Он готовил себя в вожди, он знал, чего хочет. Как чуткий сейсмограф, он ощущал, как огромную, но не скрепленную внутренним единством Россию уже раскачивают волны революции. А там, где революция, там толпа, жаждущая вождя. Она непостоянна и неуверенна в себе, как ветреная женщина, и ей нужен кумир, хозяин.
Лев Давидович ждал своего часа. И дождался. Он гремел и разил наповал. Его приказы, как и его речи, были кратки, красочны, точны. Он не боялся крови. Чужой. Если, случалось, не действовали его речи, окружавшие его «братишки», балтийские матросы, влюбленные в Троцкого, пускали в ход пулеметы. Это был последний и самый веский аргумент, и действовал он всегда безотказно. Бегущие останавливались, колеблющиеся превращались в стойких бойцов. Толпа любит кнут, словно балованная лошадь, которая, брыкаясь и бросая повозку из стороны в сторону, подставляет круп под хлесткий удар бича, она хочет, чтобы ей помогли совладать с самой собой.
В девятнадцатом, во время неудачи под Свияжском Троцкий, не задумываясь, расстрелял нескольких красных командиров и комиссаров, которые проявили мягкотелость. Ленин, восхищенный решительностью своего ближайшего соратника, прислал ему написанный красными чернилами (на бланке Совнаркома, украшенном штемпелем) мандат: «Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения». И в конце от руки добавил, что и впредь будет ставить свою подпись под любым распоряжением Льва Давыдовича.
Это был триумф, который вознес Троцкого на высоту, с которой уже ничто не могло его свергнуть. И выше уже трудно было подняться. Выше Ленина? А зачем? Как военный руководитель страны, как вождь армии он и так был выше.
…За окном вагона пыхтят паровозы, горит яркий свет. Троцкий пишет очередную статью, призывающую к решительному бою за Варшаву. Тонкие, костлявые пальцы устают. Он отбрасывает вечное перо и вызывает стенографов, своих верных помощников Глазмана и Сермукса. Те тотчас входят, словно ждали его за дверью.
– А на небе-то что творится, Лев Давыдыч! Прямо фейерверк какой-то! – снимая шинель, восхищенно произносит Глазман.
– Стреляют?
– Да нет. Звезды. Никогда раньше такого не видел. По всему небу. Туда-сюда. Кра-асиво-о!
– Звезды? – переспросил Троцкий и сухо добавил: – Ну да. Август, – и без передышки, словно боясь потерять основную мысль статьи, сразу же начал диктовать.
Сермукс торопливо схватился за карандаш.
Лев Давыдович умеет говорить так, что слова тут же, без всяких заиканий, четко ложатся на бумагу.
Поезд тоже словно ждет окончания диктовки. Вагон с высоко поднятой на растяжках антенной готов бросить текст статьи в эфир. Слова Троцкого тут же будут пойманы и царскосельской станцией, и Эйфелевой башней, и уходящими в облака антеннами Науэна в Берлине. Пронесшиеся над всеми границами слова, тотчас переведенные с языка Морзе, лягут на газетные полосы. Но раньше всех их наберут рабочие вагона-типографии. Там уже слышен гул плоскопечатных машин…
В вагонах-гаражах застыли легковые и бронированные автомобили. С бронированной площадки смотрит в небо зенитная трехдюймовка. В вагоне-клубе сражаются в шашки свободные от дежурства матросы, охранники поезда, составляющие целую роту. Недаром за «поездом Троцкого» следует еще один, служебный, с теплушками, конюшнями и товарными вагонами для продовольствия, сена, боеприпасов.
Не стихают гул и людской гомон и в вагоне-бане: здесь моются прибывшие с фронта балтийцы, которые заградотрядами вставали на пути тех, кто самовольно снимался с позиций. А случалось, и они вступали в бой там, где прорывался противник. В предбаннике висят их бушлаты и фланельки с нашитыми на левые рукава металлическими, со всей тщательностью отлитыми на монетном дворе голубоватыми щитами с перекрестьем красных мечей и надписью выпуклыми буквами: «Бронепоезд председателя РВСР». Для паникеров, оставивших позицию без приказа, для горлопанов и смутьянов этот знак – символ смерти. Страшный знак, как и весь поезд, представляющий собой военный город на стальных колесах. Сухопутный линкор.
Лев Давидович диктует. Но он уже знает, что сражение в Польше будет проиграно. Неминуемо отступление. Еще совсем недавно он сам торопил своего любимца и выдвиженца, двадцатисемилетнего командующего Западным фронтом Мишу Тухачевского: «Даешь Варшаву!» И Миша, выпятив свой наполеоновский подбородок, гнал победоносные дивизии вперед, к Висле. Тылы отстали. Коммуникации растянулись. Снабжение стало слабым. А тут еще саботаж на дорогах. Пока шли по тем районам Польши, где проживали преимущественно белорусы, украинцы, которые еще не успели превратиться в истинных католиков, Красную Армию встречали традиционно как русскую. Но под Вислой вышел другой коленкор. Тут патриот – поляк.
А Франция успела нагнать сюда целые стаи самолетов и полчища броневиков. Добровольцы, желающие воевать с большевиками, наехали сюда со всей Европы, даже из Америки. В самый раз перейти бы к позиционной обороне, но и на это уже не было времени. И конфигурация наступающих войск не позволяет: выдвинутые вперед части оказались уязвимыми с флангов.
Но самое главное – он, Троцкий, вместе с Дзержинским дали политическую промашку. Обширные панские земли, фольварки стали раздавать самым бедным, батракам, голытьбе. А в Польше в большинстве своем крестьяне – собственники-середняки. Тут даже белорусы возмутились. Не отозвались на мобилизацию. Голытьба же была неорганизованной, затюканной, на нее нельзя положиться было.
Ох уж это крестьянство! До чего же оно мешает марксистской доктрине! Всю картину портит…
Троцкий, правду говоря, противился мысли Дзержинского о раздаче земли. Но поддался на уговоры, не устоял, уступил. Значит, и ответственность им делить поровну.
Впрочем, перед кем отвечать? Будет так, как будет, – ничего уже изменить нельзя.
Троцкий знал, что Дзержинский восхищается его деловыми качествами и во многом даже старается подражать своему кумиру. Не знал он только одного – что за внешними проявлениями дружелюбия председателя ВЧК скрывается глубокая личная неприязнь. А причина этого тянулась из далекого прошлого.
Великие революционные страсти часто рождаются из мелких человеческих грешков и пристрастий. Однажды ранней осенью Троцкого и Дзержинского ссылка свела на несколько дней в далекой Сибири. Будущий председатель ВЧК решил прочитать будущему председателю Реввоенсовета свою поэму.
Всегда сдержанного Феликса Эдмундовича растрогали красота сибирской осени, желтизна остроконечных лиственниц, весь этот поэтический пейзаж. Кроме того, ему очень хотелось показать своему высокообразованному сотоварищу по ссылке, что и он, худой, сумрачный, молчаливый польский аскет, не чужд высокой поэзии.
Стихи были о любви и должны были, как показалось Дзержинскому, тронуть Льва Давидовича, тонкого ценителя всего прекрасного.
Он читал, чуть прикрыв свои зеленоватые, искрящиеся глаза и подняв кверху худую, с синими ручейками вен руку. Польские слова звучали напевно, их выспренность подхватывалась теплым осенним ветерком. Дзержинскому было известно, что Лев Давидович хорошо знает польский (как, впрочем, и французский, немецкий, английский, украинский и латынь). Такой знаток поэзии не мог не оценить вдохновения польского поэта.
Троцкий был образован, обладал саркастическим умом, столь важным для революционера-полемиста и совершенно неуместным в ту минуту, когда Дзержинским овладел романтический порыв. Троцкий про себя отметил дилетантизм поэмы и бесконечное повторение слова «кохана».
Когда Дзержинский на мгновение приоткрыл свои большие, отливающие голубизной веки, то увидел лишь ироническую усмешку слушателя. Поэт смолк.
Троцкий неловко постарался сгладить свою бестактность шуткой, которая и стала настоящей пропастью между этими людьми. Обняв Дзержинского за плечи, он сострил:
– О, моя кохана, как мне потребна ванна…
Это была шутка, понятная тогда каждому: ссыльных мучили непременные спутники – вши.
Поэт был оскорблен в своих лучших чувствах. И, обладая жесткой, злой, непроходящей памятью, он уже никогда больше не мог простить «Льву Революции» ту ироническую ухмылку.
– Ты хороший поэт, Феликс. Я никогда и не подозревал… – Такой отзыв о своей поэме Дзержинский услышал от другого товарища по ссылке – грузинского поэта Иосифа Джугашвили, которому читал свое сочинение чуть раньше.
Да, Сталин, не в пример Троцкому, оказался очень доброжелательным. И в ответ тоже прочитал Дзержинскому свои стихи на грузинском, совершенно непонятном для Феликса, но очень звучном и красивом языке.
Эти эпизоды определили симпатии и антипатии Дзержинского, которые он пронес через всю свою недолгую жизнь. Великое смешалось с малым, и эта мешанина вскоре должна была всколыхнуть русскую историю…
Троцкий диктует, призывает к последнему усилию, а сам посматривает на карту. Уже обозначился коварный удар Пятой польской армии на север, усиленный прибывшим из Франции корпусом генерала Галлера. Цель удара – отрезать далеко вырвавшийся вперед, славный конный корпус Гая и Четвертую армию Шуваева, а затем прижать и вытеснить их в Восточную Пруссию, где они тут же будут интернированы немцами…
Поражение? Похоже! Первое в жизни Льва Давидовича крупное поражение. Резервов, даже просто второго эшелона, у него нет. Эх, если бы не Врангель, не Махно, сколько бы дивизий и эскадронов пришло на помощь! Но и барон, и анархистский вождь – слабое оправдание. Вину лучше всего валить на своих. Это понятнее. Свой всегда под рукой, всегда готов к разносу, упрекам, обвинениям.
Почему под Львовом задержался Юго-Западный фронт? Надо было идти на Варшаву, брать ее в кольцо. Да, Егоров и Сталин, несомненно, виноваты. Командующий фронтом и только что посланный туда членом Военного совета грузин. Егорова можно понять, он не хотел оголять южный фланг, снова открывать полякам дорогу на Житомир и Киев. Но Сталин… он должен был принять верное политическое решение.
Несомненно, Сталину Троцкий многое сможет поставить в вину. И никуда этот косноязычный, ничтожный грузин с жалким образованием и низким, скошенным лбом, выдающим скудость ума, не денется. Ленин много раз мирил Троцкого со Сталиным: не хотел лишаться кавказца. Россия – страна полувосточная, а у Сталина на юге авторитет, он там свой. И все-таки он, Троцкий, используя поражение, превратит его в конечном счете в победу. В личную победу над этим жалким марксистом-эпигоном. Что сможет противопоставить его обвинениям Сталин? Свой хмурый, исподлобья, взгляд? Свою молчаливость? Сдержанность? «Нет, это не сдержанность – это недалекость…» – размышлял Троцкий.
А дальнозоркий кавказец тем временем изо дня в день плетет свою паутину, терпеливо ожидая часа, когда Россия устанет от пылких ораторов и идеи вечной революции. И не только вас, Лев Давидович, настигнут гнев и кара не умеющего прощать кавказца, но и все семя ваше, ваших дочерей и сыновей. И останется вдовой в далекой Мексике лишь любимая жена, дочь казацкого старшины Наталья Ивановна Седова, которая преступила проклятие родного отца, навсегда полюбив пламенного революционного оратора с задранной кверху острой бородкой. Но все это случится позже – не сразу съедает Революция любимых сынов…







