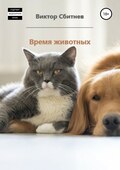Виктор Альбертович Сбитнев
Совсем другая история
«Вертикаль» эта, как известно, в разные времена работала по-разному, но любое её чрезмерное усиление всякий раз завершалось либо войной, либо «смутой», либо утратой позитивных целей развития. К сожалению, сегодня об этом Москва в очередной раз забыла, и лишь провинция всё отчётливей ощущает, что наши братья сегодня не Асад с арабами, а Распутин с сибиряками! Но у Москвы, как сказано, иное чувствование текущего момента. Там, например, появилась целая вереница писательских союзов. Вожаки старейшего из них, унаследовавшего статус Союза писателей СССР, перво-наперво принялись исступлённо делить доставшуюся «по наследству» недвижимость, в азарте запамятовав о своих изначальных целях и задачах. А когда вспомнили, то первым делом завели сайты, с которых предложили провинциальным талантам завести на них свои кабинеты. Завёл по наивности и я. И вот однажды получил заманчивое приглашение быть напечатанным в коллективном писательском сборнике. Надо лишь заплатить за печатные издержки… из расчёта одна тысяча рублей за стандартную страницу печатного текста. Соответственно мне нетрудно было подсчитать, что публикация небольшой повести обойдётся мне тысяч в шестьдесят – семьдесят, а вещи покрупнее – тысяч в сто. Если же я покушусь на издание романа, то надо срочно продавать машину. «Спасибо, коллеги!», – ответил я москвичам и от этой «редкой возможности» отказался, равно как и от вступления в их «находчивую» организацию. Но вскоре пришло приглашение из другого писательского Союза, Интернационального. Эти задумали к Дню Победы издать воспоминания участников Великой Отечественной войны. Мне были предложены страницы журнала «Российский Колокол». Но расценки этого «писательского» детища разбудили во мне лишь ехидное предложение издать в нём воспоминания… солдат вермахта.
Далее я нашёл сайты нескольких московских литературных агентов, которые рекламировали свои эксклюзивные услуги по редактированию и продвижению в издательства детективных романов и повестей. Я остановил внимание на некой Ирине Горюновой, которой удалось «продвинуть» книгу такого «эксклюзивного» музыканта, как Гарик Сукачёв. Я послал на указанный сайт свой уже опубликованный журналом «Подвиг» криминальный роман и затребованные литагентом за работу восемь тысяч рублей. О серьёзности намерений напечатать меня свидетельствовали её условия, согласно которым я буду должен отчислить на её счёт существенную часть своего издательского гонорара (как потом оказалось, это была всего лишь уловка!). Но едва получив перечисленные деньги и прислав малюсенькую рецензию, москвичка тут же потеряла всякий интерес ко мне.
Но более всех, так сказать, «в самую пятку» поразил меня так называемый Русский литературный центр. Эти снизошли до рассрочки платы за некие услуги по раскручиванию моего литературного имени, предложив сразу целый прейскурант «услуг». Самый дешёвый «формат» нашего «сотрудничества» они озаглавили «Хороший». За него я должен буду перечислять их литературному центру около четырёх тысяч рублей каждый месяц. Далее соответственно идёт «Очень хороший», потом – «Лучший» и наконец «Самый лучший». Плата за услуги последнего подходит к семи тысячам в месяц. Но если я заплачу ещё за то, чтобы стать их «резидентом», то мне будет дана скидка в двадцать процентов. Не даётся одного: гарантии, что тобой непременно заинтересуется какое-либо из «сотрудничающих» с литцентром издательств и, в конце концов, заключит вожделенный договор на издание книги. Как только новоявленные издатели почувствовали мои колебания, последовал самый элементарный, очевидно уже обкатанный прежней перепиской шантаж, – что, дескать, «есть мнение» (присущая литературному центру чиновничья терминология!) опубликовать моё имя в числе «родственников графа Хвостова», активных графоманов, которые портят жизнь истинным участникам русского литературного процесса (видимо, им!). К счастью, на протяжение своей долгой журналистской жизни я только и делал, что занимался разоблачением всякого рода мошенников практически во всех сферах российской жизни. Поэтому я отослал несостоявшимся компаньонам цитаты из их посланий, а напротив – выдержки из статей Уголовного Кодекса Российской Федерации: «шантаж», «вымогательство», «мошенничество». Больше они не писали.
Несколько раз я пытался завести с издателями предметный разговор о паритетах риска: дескать, давайте издадим, к примеру, мой детектив в дешёвой мягкой обложке рублей за шестьдесят – для одноразового дорожного чтения и крайне небольшим тиражом. От гонорара я отказываюсь в вашу пользу. А дальше будем смотреть! Если дешёвая печатная книга или её электронная версия пойдут, будете отчислять мне заранее оговоренный процент. Увы, господа москвичи свою работу с провинциальными авторами строят на исключительно беспроигрышном варианте, при котором их риск равен нулю! Риск же писателя, даже если он давно доказал свою профессиональную состоятельность, всегда равен максимуму! Хотя бы потому, что он должен вносить предоплату, иначе его просто не напечатают. Робкая надежда при таком раскладе остаётся лишь на то, что в своём маленьком городке он сможет продать хотя бы часть своих книжек. Но региональный книжный рынок чрезвычайно мал и беден, а за попадание на всероссийский рынок, где его никто не знает и бесплатно рекламировать не станет, надо опять-таки платить и платить! И вообще, прямо говоря, даже если вдруг повезёт, и книгу начнут покупать, платить ему, скорее всего, никто ничего не станет. Самолично опубликовал два детектива в одном очень популярном электронном издательстве, оно соответственно выставило их в целой плеяде сотрудничающих с ним магазинов, но за два года, хоть и потратился на подготовку изданий, я не получил от продаж этих книг ни копейки!
Как известно, советский фильм «Москва слезам не верит» сенсационно получил вожделенного всеми кинематографистами «Оскара». За что? Думаю, что, прежде всего, за правдивое воплощение того упрямого стремления к столице, которым обуяны главные героини картины. А одна из них даже стала руководителем крупного московского предприятия. Её образ, надо полагать, в своё время грел душу нынешнего московского мэра.
… Это случилось в 2006 году, когда главой администрации президента был назначен малоизвестный губернатор Пермской области Сергей Собянин. Вдруг оказалось, что в 1980 году он окончил наш Костромской технологический институт. Мне, как специалисту по местным сенсациям, было поручено подготовить об этом знаменательном для нашей области событии материал аж на целый разворот! Я, разумеется, разыскал и преподавателей, и сокурсников, и даже дом, в котором юный Собянин снимал комнату, видимо, уже юношей не желая тесниться в одном из институтских общежитий. Конечно, все разысканные мною собеседники были рады его карьерному росту, но вот вспоминали о нём несколько смущённо. И вскоре выяснилось, что учился этот высокопоставленный российский чиновник, мягко говоря, без особого блеска и тесных дружеских отношений ни с кем не водил. Так что и рассказывать им, по сути, было нечего. Но единственный сокурсник, которого он приглашал к себе в костромскую квартиру – полакомиться присланной отцом, директором маслозавода, северной остяцкой вкуснятиной, особо выделил какую-то совсем не студенческую серьёзность будущего путинского сподвижника. И книги уже тогда он читал соответствующие. Особенно любил крайне популярного в узких кругах американца Дейла Карнеги, его практические рекомендации: «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей» и тому подобное. И вот, глядя из нынешнего времени на пройденный Собяниным путь, можно, без особых натяжек, заключить, что увлечение Карнеги не было случайным, временным, безрезультатным. Уроки буржуазного американского моралиста для рядового выпускника провинциального советского ВУЗа оказались куда более своевременными и эксклюзивными, нежели рассчитанный на миллионы технарей сопромат (сопротивление материалов). А потому очень быстро дипломированный специалист по технологиям развития производств занялся технологиями преуспевания в обществе, то есть пошёл по проторенной комсомольской дороге с необходимым для карьерного роста заочным юридическим образованием и иными атрибутами из набора полного чиновничьего «иконостаса». Как водится, наши костромские однокашники, старенькие доценты да и руководство ВУЗа простодушно пустились посылать новому главе администрации первого лица государства свои сердечные поздравления и приглашения, но никому из них он не ответил. Да и потом об учёбе в провинциальном ВУЗе он практически нигде не вспоминал, акцентируя внимание особо любопытных на своём заводском, так сказать, рабочем прошлом и столичном настоящем. А между тем, в его по разным поводам написанных биографиях неоднократно подчёркивается, что «он окончил Костромской технологический институт с красным дипломом». Как это могло произойти, остаётся лишь догадываться, ибо лично мучился над копированием его зачётки, не зная как найти страницу, где нет «троек». Смущает и эта чересчур высокопарная даже для политических метрик того времени фраза: «Прорвался в политику из рабочего класса». Однако, как мне стало известно, после окончания «технолога» летом 1980-го проработал он на костромском заводе, куда его направили по распределению, всего несколько месяцев, а в 1982-ом уже значился заведующим организационным отделом райкома ВЛКСМ города Челябинска. И опять-таки остаётся только констатировать, что никуда он не прорывался, а всего лишь вырвался, при посторонней помощи, за рамки Закона о распределении молодых специалистов. Потому, видимо, и решил побыстрее забыть о не совсем «гладком» костромском периоде. Впрочем, в этом, сугубо чиновничьем смысле, Собянин – прямо по Белинскому – «есть типический герой в типических обстоятельствах». Таких героев нынче – едва ли не вся чиновничья Москва! И пафос их общественного и всего земного существования можно наиболее точно определить крылатой «антипатриотической» репликой Дениса Фонвизина: «Да, тело моё родилось в России, но дух мой принадлежит французской короне». Остаётся лишь сделать простейшую геополитическую правку: да, тело чиновника родилось в пермской деревне, но дух его всегда принадлежал московской верхушке. Обращаю на это особое внимание потому, что родившийся в глухом северном селе мальчик Собянин, отнюдь не обладая талантами Михайлы Ломоносова, по сути, не уступил тому в настойчивости и упрямстве при достижении поставленной цели. И таких «настойчивых» страна распадающегося социализма породила великие множества, непреодолимо, с ментальной обречённостью потёкшие с её пустеющих окраин к вожделенно манящему Центру. То есть априори уникальных, готовых дойти до Москвы пешком Ломоносовых могли появиться редкие единицы, а заурядных, действующих по прагматичным схемам Карнеги Собяниных – тысячи. А потому и цели у этих упрямств были изначально разные и, можно даже сказать, взаимоисключающие, что самым негативным образом сказалось потом на отношении столицы к провинциальным талантам и всему населению провинциальной России в принципе. И не случайно на исходе прошлого года весь Интернет буквально взорвало некое провокационное заявление мэра Москвы о «пятнадцати миллионах лишних россиян», которые, как он выразился, стране практически не нужны, ибо плохо работают. Логика железная: в столице производительность в четыре, а то и в семь раз выше, чем в каком-нибудь райцентре Костромской или Новгородской области! «Кто там вообще есть? – спрашивал в полемическом задоре Собянин. – Ну, врачи, учителя, чиновники и ещё кто-то там». Замечу, для полной ясности, что эти «кто-то там» – жители корневой Руси, которые обороняли Москву, миллионами гибли под Ржевом и Новгородом, восстанавливали изуродованную страну, воевали в составе советских воинских контингентов по всему миру и получали тощие трудодни в колхозах. И теперь эти русские бедолаги некому ученику американца Карнеги из «какого-то там» угорского Няксимволя не нужны. Думается, не просто так в лютые для покорённого мононационального Новгорода времена тогдашний, в широком смысле, космополитический «глава» Московии Иван Грозный выселял русских бояр и купцов вечевой республики в эти забытые Богом северные края! Будучи при этом более дальновидным, чем жестоким, он прекрасно понимал, что процесс их возвращения неизбежен и является лишь вопросом времени. Время пришло…
Конечно, особость Москвы не есть эмблема только путинского правления. Она и прежде вызывала всеобщее российское недоумение. Чего стоят одни лишь «колбасные» поезда, регулярно летавшие в Москву и обратно и за сто, и за тысячу километров! Удивляло и возмущало и многое другое, ибо, при всём своём старании, московская элита была не в силах скрыть унизительное для граждан любого государства несоответствие: чем убоже и глуше становилось в России – тем богаче и шумнее в её столице (точная схема взаимоотношений «колонии – метрополия»). Но если раньше провинция (колонии) хотя бы питала столицу (метрополия) своими многообразными талантами, то есть была так или иначе в них, в талантах, кровно заинтересована, ибо они продвигали её науку и духовность, то сегодня совершенно исчезло и это, до поры взаимно обогащающее движение. Культурные, научные, образовательные интересы Москвы реализуются в одном единственном направлении, или, как выражаются, миллионы русских малоимущих и безработных, – «по системе Ниппель: туда дуй, а обратно …!». Проще говоря, Москве нужны от провинции только деньги и ещё раз деньги! А её гуманитарные интересы нынче лежат где угодно – в Крыму, в Пальмире, на Елисейских полях и Капитолийских холмах, но никак не в границах российской провинции. Спрашивается, может ли в наши дни какой-либо талантливый или даже гениальный поэт либо литературный критик, скажем, из райцентра Вологодской области, как Рубцов, или из Костромы, как Дедков, «вырваться… из рабочего класса»? Думаю… а, впрочем, уверен, что нет! Ориентир на деньги размывает литературный процесс как органическое явление духовной жизни России. Туда, где всегда водились мудрость и красота, медленно, но нагло приходят хитрость и безобразие.
…Люблю неспешно брести по-над Волгой, победно ощущая сквозь подошву на последних метрах крутого подъёма ребристый камень мощёной Дзержинки. Снизу – вверх: от педагогического – до технологического, которые сегодня, по дурной мании какого-то там очередного рыжего министра, подверглись уничтожающей провинциальное образование оптимизации. Некогда родившись в столице, я впоследствии ни разу не помышлял вернуться туда, всей жизнью и сердцем прикипев к двум историческим, по-своему диаметрально противоположным центрам Руси: Великому Новгороду и Костроме. Новгород более пятисот лет был примером свободного и вполне благополучного бытия для Европы и всего остального мира, а из Костромы пошла последняя, без преувеличения, самая великая царская династия русских царей, сформировавшая огромную империю с центром в белокаменной Москве. И, к моему истинному счастью, не Романовы подвергли разграблению Новгород и уничтожению обширную – до Урала (Камня) – Новгородскую вечевую республику, которая навсегда обаяла всё моё существо. Но так сложилась жизнь, что я теперь чаще гуляю по волжским набережным, а не по волховским мостам. Но и здесь, и там университеты стоят над самой водой, и я по ходу свободно могу распахнуть их тёплые старинные двери. Я работал здесь в разное время, и когда-то меня, совсем ещё молодого ассистента, слушали курсы до восьмидесяти человек. Сегодня известный на всю страну учёный, писатель но, прежде всего, автор школьных учебников Юрий Лебедев читает свои оригинальные литературоведческие лекции-импровизации курсу из восьми студентов-филологов. Увы, они навряд ли рискнут «сеять разумное, доброе, вечное» в какой-либо из костромских школ. Потому что едва ли после столь долгого и беспощадного избиения наше провинциальное образование скоро оправится и сможет предложить своим приверженцам сколько-нибудь достойные современного человека условия существования. Но будущее невообразимо, а случайно выпущенный клубок памяти разматывается вглубь советских времён, к тому высокому новгородскому небу, к которому возносились с берегов дурно пахнущей Гзени самые заветные помыслы.
Наши спины упирались в городской Вал, а наши лица – в нависающее над мутной речкой зловещее здание «Белого лебедя» – городской тюрьмы с весьма характерными очертаниями строений «по казённой надобности». Белых лебедей я в ту пору ещё ни разу не видел, а вот «белые окуни» всё плыли и плыли по чёрной поверхности Гзени к красному Волхову. Учитель истории рассказывал нам, что кроваво-красным его сделали ещё царские опричники, добивавшие в нём топорами не хотевших добровольно тонуть новгородцев. А когда кто-то из учеников с обидой заметил, что, дескать, как-то стыдно за предков, которых можно было вот так безнаказанно резать как убойный скот, он, словно по принуждению улыбнувшись, жёстко возразил. Тогда кто-то другой с вызовом спросил: а откуда он берётся это утверждать, если в учебниках по «его предмету» ясно написано, что Новгород к концу 15-го века «сам загнил в своём богатстве» и деградировал? И наш историк, вне сомнения, самый осведомлённый в школе учитель, сообщил несведущим, что почти все наши учебники пишут и утверждают в Москве, а наши пращуры жили, мыслили и писали в Вольном Новгороде, где всё утверждало лишь Новгородское Вече. Последнее известие заставило всех нас поднять головы, и мы увидели в верхней части белой стены берестяную грамоту, в которой молодой новгородец, чуть старше нас, рассказывал своей зазнобе о драке после веча. Учитель, выключив диапроектор, сообщил о том, что наших пращуров позднее московские учёные обвиняли в моральной деградации, буйстве и пьянстве именно потому, что они друг дружке писали без утайки абсолютно обо всём. В том числе и про Москву, которую во времена Куликовской битвы и позже Новгород не раз спасал от полного уничтожения с Запада, ибо был куда сильнее не столько в военной мощи, сколько в дипломатии, в искусстве торговать и общаться, и веками воспринимался Европой, как подлинная Русь. К тому же есть и свидетельства новгородских летописцев, которые неоднократно подчёркивали нежелание Великого Новгорода претендовать на роль политического центра средневековой Руси. Это давало возможность Москве копить силы, присоединять другие княжества и разбираться с татарами. Ну а потом… десятикратно разросшаяся Москва во главе бессчётных евразийских множеств, как это водилось в истории, пошла на православный Новгород. Кстати, атаку закованных в латы новгородцев в решающей битве на Шелони остановили татарские лучники, которые до этого «вдосталь попрактиковались» на крестоносцах.
Но ближе к ночи всё становилось чёрным, даже Белый лебедь, откуда мы то и дело слышали печальные крики новгородских сидельцев, словно время обернулось на несколько веков вспять. Помню, кто-то из пацанов, сильно заикаясь, предложил подойти к стенам тюрьмы и спросить у заключённых – чего они хотят. Но остальным почему-то эта идея явно не понравилась.
– Чего! Чего? – передразнил предложившего «не дело» самый старший из нас. – Жрать они хотят! Или таблетки снотворные начнут клянчить. Знаю я по своему брательнику. Потом, блин, не отвяжешься! Это тебе не окуней в небо пускать! Все мы вдруг разом задрали головы к небу. Некоторое время стояла такая удивительная тишь, что было слышно, как проплывающий по Гзени мусор шершаво задевает осоку на береговых выступах. И вдруг тишина лопнула, как раздутый ацетиленом презерватив.
– Мужики! – заорал тот, что предлагал двинуть под стены тюрьмы. – Спутник, блин, под Ковшом чешет. Вона – вона, прямо вдоль Вала, глядите!
– Вижу! – радостно крикнул самый старший.
– Я – тоже! – уже негромко подтвердил ещё кто-то. И тут увидел движущуюся звёздочку и я. Действительно, она летела прямо под ковшом, как наши старшие называли созвездие Большой Медведицы. Звёздочка двигалась много легче и свободней московского самолёта, к которому мы уже привыкли, и он перестал будоражить наше воображение. Кроме того, совсем недавно в такой же вот сырой новгородской темени он снёс крышу у городской типографии и сгорел прямо на центральном проспекте города. И, несмотря на то, что крыша эта провалялась на проспекте не меньше месяца, а в городе ходили жуткие слухи о десятках заживо сгоревших пассажирах, ни в новгородских, ни в центральных (московских) газетах об этой очевидной катастрофе столичного самолёта не написали ни строчки, словно и не было в нашем мире никакой Москвы. А спутник летел так высоко, и про него так много писали и рассказывали во всех странах, что каждому из нас казалось: этот синий зрак смотрит только на одного тебя, и только лично тебя он зовёт в многообещающую даль какого-то иного, внешнего мира с десятками ждущих тебя столиц
.
«Что за уродство отпугивает от нас?»
… недавно по случаю попал в компанию костромских учителей. Довольно быстро разговор, как это нередко нынче выходит, принял сугубо политическое направление: Украина, Америка, Евросоюз, Сирия, а затем – и конкретные виновники нашей изоляции в Мире: Порошенко, Меркель, Макрон,Трамп… Особенно долго и непримиримо спорили о Трампе, включая его республиканскую партию, бизнес и семью. Учитель истории так увлёкся, что даже шейный галстук на груди распустил. Но была в этой группе и одна уже немолодая, но ещё красивая учительница литературы, которую предмет нашего спора настолько не интересовал, что она ни единожды бралась изучать программку и даже демонстративно зевала. Наконец, одиночество ей наскучило, и она невпопад громко спросила:
– А Трамп – это который негр что ли?
Наступила гробовая тишина. Потом стоявшая рядом подруга зло ткнула её сумочкой в бок и с укоризной проговорила:
– Ну, что ты, Анюта, право? Одни пилоны на уме! Это Обама негром был, а Трамп – белый, как коза из нашего городского зоопарка!
Все невольно рассмеялись, тут же остыв и вспомнив, где они и с какой целью собрались. А я подошёл к аполитичной учительнице и поинтересовался у неё: дескать, что это за пилоны, за которыми даже от Трампа, как за каменной стеной? Оказалось, что учительница Анна Дмитриевна в свои пятьдесят активно посещает гимнастический зал, где из полудюжины спортивных снарядов ей ближе всех подвешенный к потолку шест – пилон.
– Я очень старалась последнее время, и наш тренер увеличил мне количество еженедельных занятий с одного до трёх, – с нескрываемой гордостью сообщила она. – А тут ещё кружок в школе подкинули… Так что, времени на телевизор не остаётся, да и смотреть по нему, если честно, стало нечего. При негре-то ещё более- менее было…
Вот так просто я избавился от первоначального впечатления о ней, как о типичной школьной училке, уставшей, ограниченной и нелюбопытной. Ведь, судя по всему, подумал я, она просто любит жизнь, её ежедневное протекание, роение вокруг неё самой, а не вокруг кого-то там – на Украине, в Европе, а тем более, за океаном, куда всех нас уже не первый год упрямо тянут наши тележурналисты. Да, и не журналисты они априори, а расчётливые и ох как падкие на деньги работники госпропаганды.
Но, думаю, этих господ с «запасными родинами» хотя бы российская интеллигенция уже давно себе «прояснила» (М.Булгаков), и весь вопрос лишь в том, как скоро они оставят в покое страну и её на удивление доверчивый, болезненно склонный к погружению в иллюзии народ. А вот о народе, который совершенно разучился читать, по крайней мере, русскую классику, хотелось бы поговорить предметно, поскольку, если убрать из общественного сознания национальную литературу, то, согласно воззрениям всё тех же классиков, образовавшуюся в нём (сознании) пустоту непременно займут бесы. То есть лживые индивиды, враги правды, искусно оперирующие ради корысти мастерством компиляции.
В опубликованном недавно интервью популярный писатель Захар Прилепин поинтересовался у маститого литературного критика Владимира Бондаренко: почему в современном российском обществе стал практически не заметен литературный процесс? В ответ критик заметил, что, видимо, ни сам Путин, ни его формальные оппоненты типа Зюганова современную литературу не читают и в своих выступлениях соответственно отечественных писателей не цитируют, как это делали, к примеру, Ленин и Сталин. А по установившейся в элитах традиции этого не делают и другие российские политики калибром мельче, и общественные деятели самого разного уровня. Кроме того, и в США, и в Англии, и в Китае и в иных крупных странах в век цифровых коммуникаций активно заработали программы поддержки национальных литератур. В России такой программы нет. Но создать, например, новое конкурентно-способное кино или поставить актуальный, проблемный спектакль без сильной востребованной обществом национальной литературы невозможно! Один из ярчайших примеров – победа в Великой Отечественной войне, которая была одержана, в том числе, благодаря профессионально реализованным литературным сценариям тридцатых «Александр Невский», «Пётр Первый», «Чапаев» и чрезвычайно реактивной культовой мифологии писателей-коммунистов. В своё время Фридрих Ницше назвал культуру «тонкой яблочной кожурой над раскалённым хаосом». Управляемый хаос конца 80-х – 90-х годов прошлого века, как и предполагали его организаторы, сделал своё дело. Из широкого общественного сознания были начисто вытеснены национальные, социально активные писатели Астафьев, Бондарев, Распутин, Белов и соотносимые с ними по влиянию на интеллигенцию и студенчество поэты Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Рубцов… Кто или что заполнило образовавшиеся пустОты? Десятки и сотни обречённых уже завтра на полное забвение шустрых сценаристов, случайных режиссеров и заточенных на шум журналистов… Имя им – Легион! И «окучивают» якобы литературу и якобы киноискусство они целыми командами. Но отказ от подобных практик, повторюсь, придёт завтра. А пока все они в состоянии активной реализации бесовского анти – национального проекта. И это не только создатели многочисленных похожих друг на друга «стрелялок», мыльных опер, удивительно пустых любовных драм и псевдоисторических «преданий старины глубокой». Как ни парадоксально, но в ряду наиболее раскрученных (на новостном канале!) телепрограмм особым, вдохновенно подаваемым бесовством отличается авторская программа уважаемого кинорежиссёра Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон».
Такое как бы народное, но режущее ухо своей искусственностью название, представляется мне, возникло из нравственно – физиологической потребности автора признаться в неком тайном подсознательном. В своё время отец знаменитого режиссёра и актёра не менее знаменитый детский поэт и литературный чиновник Сергей Михалков сочинил памятные миллионам советских детей строки: «А из нашего окна площадь Красная видна, а из вашего окошка – только улицы немножко». Безобидное, даже несколько обезоруживающее, на первый взгляд, признание. Но, по большому счёту, вот ради этого ВИДА из семейного окна (не окошка!) отец долгие годы работал локтями в писательском союзе, а сын делает что-то подобное в союзе кинематографическом и в своей, так сказать, мега – патриотической телепрограмме «Бесогон». Я не стану сейчас про постыдную попытку расправиться с Юрием Нагибиным и про подлые технологии травли других советских писателей. Недосуг дебатировать здесь и о скандальных манипуляциях в рамках Союза кинематографистов. Никита Сергеевич и сам практически в каждой из программ кого-нибудь развенчивает или разоблачает: Ксению ли Собчак с её мамой-сенатором или каких-либо иных патологических ненавистников России. И делать это не трудно и совершенно безопасно при условии, когда для тебя российский народ и его нынешние руководители – одно и то же! Хотя если подойти к этому мировоззренческому единству с нынешними «измерительными приборами», то сразу выяснится, что взгляды на действительность граждан России, с одной стороны, и Путина с «друзьями» – с другой, не совпадают примерно…на 180 градусов. Вот умерший Ельцин – это другое дело! Его можно легко отделять от подданных и пинать без всякой опаски, невзирая даже на ещё живущую среди нас вдову Наину Иосифовну. Хотя легко вспоминается, что на выборах 1996-го года Михалков ратовал за Ельцина ровно так же, как и в 2018-ом за Путина. Всё, как завещал папа. А поскольку коммунистический пафос проживания в стране давно сменён прошлыми и нынешними «знакомыми» Н. Михалкова на капиталистический, то, согласно, по крайней мере, одной из налоговых деклараций, главный гонитель бесов российского искусства зарабатывает в месяц до миллиона долларов. Но это как бы вскользь, для уяснения всей разносторонности и глубины кинематографического и вместе с тем журналистского таланта. И опять-таки, как заявлено в начале, ещё и ради констатации вытеснения универсальных формул классики – например, пушкинской: «Гений и злодейство не совместны». Не знаю, как там «сумрачный германский гений» и итальянское злодейство, но вот русский режиссёрский талант и рыночное бесовство, творческая одарённость и чиновничье угодничество перед властью в нынешней России совместимы. Абсолютно!
Но вернёмся к простому русскому человеку, к его опять-таки обозначенной Пушкиным досадной слабости: «Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад!» На чём его на сей раз провела отнюдь не изобретательная на новации власть? Разумеется, всё на том же старом и добром патриотизме, которым с самого утра насилуют наш мозг сразу полдюжины прямых телеэфиров, телерингов, теледебатов и телешоу.
– Тихая моя Родина, – явно стесняясь своего нескромного городского бытия, обращался к своим землякам растерянный Николай Рубцов. -
Где этот дом? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
Но конкретная тишина нынче не в чести, потому что она не питает патриотизм подходящей случаю энергетикой, пафосом общих мест и размытых категорий. Куда продуктивней и действенней выхватить из 1964-го года сделанную фронтовиками лирическую драму «Жаворонок» и при помощи цифровых технологий перелицевать её в игровой боевик «про войну», о котором сразу по выходе на экран расстроенный кинокритик написал рецензию под названием «Якобы о войне». Почему расстроенный? Потому что он совестливый и понимает: заставить любить «тихую Родину» при помощи вранья невозможно. Более того, хорошо известный поколению немолодых критиков Виктор Астафьев неоднократно предупреждал не воевавших коллег, что тот, кто врёт про войну минувшую, тем самым приближает войну будущую. А нам, уже отслужившим и отвоевавшим, этого для своих детей очень не хочется. Да, и вообще, господа сценаристы-режиссёры, зачем из года в год вы тратите урезанные чиновниками средства на эти бесконечные ремейки, повторение уже пройденного, если Великая Отечественная до сих пор вся в «белых» пятнах? Почему вы никак не хотите использовать уникальный шанс – например, первыми снять фильм о боях подо Ржевом, небольшом райцентре Калининской области, где погибло более двух миллионов наших солдат и офицеров? То есть вдвое больше, чем при освобождении всей Европы! Или про Мясной Бор, где разлагающиеся трупы павших вызывали летом 1942-го дьявольское бурление местных болот. Неужели не пришла пора дать объективную оценку действиям тех, кто бездумно их туда послал? Даже не ради осуждения, а с целью понимания ещё ТЕХ, но по-прежнему тяготящих нынешнее российское общество процессов! Ведь если не поймём этого сегодня, то уже завтра и сами можем запросто сгинуть в этих гнилых болотах. Это ли не дань памяти о минувшей войне, уникальное, сберегающее цивилизацию и мировую культуру свойство? Что, в министерстве культуры или из самого Кремля не велят? Не ко времени? Не по ситуации? Не патриотично? А, может, просто окружив себя беспринципной и жадной обслугой, власть понимает, что эти миллионеры, лауреаты, орденоносцы и «доверенные лица» ни фига путного на таком материале не снимут? Ибо тут нужна не лукавая, громкоголосая конъюнктура, а врождённое, тихое чувство родины и правды! И, вообще говоря, давайте коллективно обратимся к доктору исторических наук Мединскому, который с позиций министра культуры только что, яростно защищая выше указанный кинропродукт, назвал нас всех «внутренней идейной фрондой», на которую «надо постоянно держать кулак». Вопрос такой: Правда и истина, как категории, входят в понятие «патриотизм? И нравственно ли, господин культурный министр, понуждать российских режиссёров и государственные студии к вранью на том лишь основании, что они там, у себя на Западе тоже врут? А ведь Вы так и мыслите ПРЕЛЮДНО: раз в основу создания «Спасти рядового Райена» положена вымышленная о войне на Западном фронте история, то отчего же нам не придумывать ради великих патриотических целей небылицы о фронте Восточном? А отчего, в самом деле, если у нас немцы убили около тридцати миллионов, а у американцев всего несколько сот тысяч человек?! Сейчас вот после первой волны проката «тридцатьчетвёрки» подсчитаем выручку – и вперёд с песнями: «Броня крепка, и танки наши быстры!» Как в патриотичные тридцатые: Трепещи, враг! С нами «первый красный офицер» товарищ Ворошилов! Но о врагах мы скажем несколько позже…