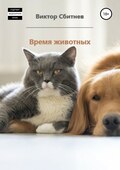Виктор Альбертович Сбитнев
Совсем другая история
По имени Владимир Ленский,
Душою прямо гетингентский,
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды,
Ум пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри чёрные до плеч.
Можно вспомнить и грибоедовского Чацкого, который сильно досадовал на то, что умный наш народ, увы, держит русских дворян, за немцев. Весьма показательны и курьёзы отечественной войны 1812 года, когда крестьяне, ушедшие партизанить, нередко нападали на русских офицеров, принимая их за французов. Именно поэтому и провалился с треском приход либералов в девяностые годы прошлого века. В сущности, им не на кого было опираться, поскольку с новгородских времён русские, в отличие от европейцев, а позднее и американцев, не идентифицировали своё внутреннее состояние с понятиями «свобода» и «равенство». У нас всегда были в ходу «Воля» и «справедливость», а «братству» в новой истории более всего соответствует наше «товарищество» (как исключение, братьями могут звать друг друга участники военных конфликтов, находящиеся в постоянной опасности быть убитыми). Но давайте для полной ясности поподробнее остановимся только на «Воле», ибо именно она «повинна» в провалах либерализма.
Итак, как я заметил выше, сладкое слово и понятие «свобода» пришло к нам с Запада. На Руси же со времён Новгородской республики ориентировались на такое понятие, как Воля, которое не имеет ни понятийных, ни терминологических аналогов в Европе. Например, республиканский, вечевой Новгород называли не свободным, а вольным, то есть городом в своём праве. И это очень точно выражало сущность вечевого правления, при котором вольные новгородцы запросто могли выгнать из города очередного князя, если он, по их мнению, не справлялся со своими обязанностями: «Уходи, князь, ты нам не люб!». Сказать же «свободный Новгород», «свободная Новгородская республика» – это, по большому счёту, не сказать ничего, потому что не от кого этому великому средневековому государству было освобождаться. Оно само хранило и освобождало всю матушку Русь от постоянного давления крестоносцев: шведов, поляков, литовцев и т.п. То есть свобода для русского человека – понятие абстрактное, пригодное разве что для бессмысленного и жестокого метания бомб в царей и государственных деятелей(вроде, Столыпина и Александра Второго) и пустой словесной перепалки (в «Отечественных записках», «Русском инвалиде» и т.д.), а Воля заключает в себе существенный правовой аспект. Недаром, свой выстраданный роман о Стеньке Разине Василий Шукшин назвал «Я пришёл дать вам волю», то есть право, поскольку и Разин, и Пугачёв – ни много- ни мало – претендовали на царский престол. Именно за право быть равными среди равных и поступать так, как велит Господь, они, народные заступники, и шли на плаху. А отнюдь не ради мифической свободы, которая ни к чему не обязывала. Именно эта необязательность и отвращает большинство русских от либерализма. Я бы даже сказал – безответственность. «На благословенном Западе, – писал в аккурат в 1993 году Валентин Распутин, – почти так и делается, оставляя во взрослости вместо чувства (Свободы! – В.С.) кое – какие обязанности». Ею, безответственностью, была буквально пронизана вся деятельность так и не сумевшего повзрослеть ельцинского правительства: от расстрела Белого дома до ваучеризации и грабительской приватизации, от уничтожения высокотехнологичного производства до преступной конверсии, развала «оборонки», распила и распродажи Тихоокеанского флота, уничтожения самой мощной и практически неуязвимой ракеты «Сатана», о которой американцы до сих пор вспоминают с содроганием, и т.п. В связи с этим мы вынуждены сегодня, в ситуации обострившейся международной обстановки, тратить огромные бюджетные средства не на, например, газификацию Центра России (В Костромской области из 25 районов газифицировано лишь 5), а на компенсацию оборонных потерь времён Ельцина и компании.
Да, в России до поры воцарилась гласность (Кстати, её вольнолюб Сергей Довлатов определил, как возможность говорить правду, но за это ни перед кем не отвечать), но свобода так и не стала в нашей стране основой для развития свободной рыночной экономики. Рынок оставался диким, а свободные от всякой ответственности братки тут и там доили малый и средний бизнес, не давая ему хоть сколько-нибудь окрепнуть и подняться. И прикрывали их преступную деятельность тоже своего рода либералы. В нашей Костроме была обворована каждая третья квартира, и безответственные, либеральные милиционеры почти никого не находили (думаю, что и милицию «перекрестили» в полицию именно поэтому). Лично нашёл обокравшего мой дом вора и привёл его в отдел, но господа «менты», столь разрекламированные на питерском ТВ, так ничего и не сделали, ссылаясь то на «колпак» прокуратуры, то на недостаточность улик, то на презумпцию невиновности. Жалкие они в ту пору были. (Позднее на одной из пресс-конференций в присутствии представителей всех СМИ города начальник УВД области сказал пишущему эти строки: «Мы в большом долгу перед вашей семьёй». Через год он, царство ему небесное, умер, а долги остались.). Колёса с автомобилей снимали буквально под окнами и тоже безнаказанно. Вечером и ночью на улицах повсеместно срывали шапки, отнимали дамские сумочки, раздевали и даже разували пьяных, ибо алкоголь стал продаваться повсюду и фактически круглосуточно. Свобода! Апофеозом её стало необъяснимое бегство наших армий из Европы (из тёплых казарм в открытое поле!) под кривлянье на немецкой сцене «раскованного» Ельцина.
И вообще, задумайтесь только, категорией, понятием Воли буквально пронизаны все основные составляющие русского мира. Например, существенную и боеспособную часть царской армии составляли так называемые вольноопределяющиеся, огромный тюремный мир России всегда поддерживали вольнонаёмные – «вольняшки», в армии самой «приятной» командой является команда «Вольно!», в спорте самой удачной для русских борьбой является вольная борьба (борцов в ней называют «вольниками») и так далее. Десятки примеров! Нет, если говорить о философии и литературе, то свобода, конечно, тоже появляется в писательском обороте. Но в связи с чем и когда? В этом смысле показателен «наше всё» Пушкин. Когда он молод, увлекается европейской литературой и дружит с декабристами-западниками, то пишет, обращаясь к ним: «И свобода вас примет радостно у входа…». Но проходит время, Пушкин, мудрея и совершенствуясь, обращается к сказкам и русской философии, и всё тут же встаёт на свои места: « Ты, волна моя волна, / Ты шумлива и Вольна»; «На свете счастья нет, а есть покой и Воля». То есть Пушкин полагает, что и в природе, и в человеческом обществе жизнеутверждающее равновесие достигается правом поступать так, как велит Создатель. Но построенная в послепетровской тоталитарной России по западным лекалам власть не даёт своим подданным этой возможности. Например, как, а главное – за что в хрестоматийном «Горе от ума» хозяева московской жизни осуждают Чацкого? Оказывается, «Он вольность хочет проповедать!». И ранняя лирика всё того же Пушкина во всех экзаменационных билетах всегда называлась «вольнолюбивой», ибо во времена, когда она создавалась, в прогрессивных дворянских кругах процветало вольнодумство, вольномыслие и вольнолюбие. Именно в это время в русском языке появились устойчивые словосочетания типа «Была бы моя воля!», «Я не волен», а крепостным крестьянам дворяне-вольнодумцы всё чаще выдавали вольную, то есть право жить и кормиться самостоятельно. И даже про – западнически настроенные русские радикалы через пятьдесят лет пришли к необходимости создания «Народной Воли», а вышедший из европейского символизма Блок в начале двадцатого века написал замечательный, пожалуй, самый сильный свой поэтический цикл – «Вольные мысли». Да, и «лихие люди», воспетые всё тем же Блоком в «Двенадцати», в принципе, отказавшись от свободы – «Свобода, эх, без Креста! Тра-та-та!» – ввели в свой понятийный оборот самую страшную клятву: «Век воли не видать!». А ведь что ни говори, в уголовном мире всё чрезвычайно точно определено и выстроено. И Воля даже для вора в законе и очевидно, прежде всего, именно для него – сакральное понятие. К слову сказать, и в армейском строю перед тем, как подать команды «Смирно!» и «Вольно!», подают команду «Равняйсь!». То есть прежде чем замереть, застыть в образцовом послушании, необходимо выровняться, соотнести себя с другими членами тесного людского сообщества, в данном случае войскового строя. Поскольку войсковой строй – это, в сущности, живая модель строя общественного, команду «Равняйсь!» можно расценивать, например, как референдум. В этой ситуации, как и при выполнении команды «Равняйсь!», сверяются позиции, системы координат, общие настроения («…сверение, как сверяют часы, своего сердца с её (Родины) страданиями и радостями». – Валентин Распутин). Характерно, что команду «Вольно!» подают лишь после команды «Смирно!». И никакой свободы, а лишь покой и воля – смирно и вольно. Таким образом, как мы видим, экзистенциальные мировоззренческие категории, закономерно перекочевав в армейскую этику (армия – это неотъемлемая часть общества), обрели словесную плоть в армейском уставе. Но если бы наш армейский строй управлялся по либеральным лекалам, то никакой команды «Смирно!» не было бы вовсе. Как говорится, выравнились – и «Вольно!». А, между тем, все основополагающие посылы строй воспринимает, находясь при исполнении команды «Смирно!». Нет её – нет и состояния покоя, без которого, уверяю вас, в конечном итоге и Воли – ни на грош! Есть одна лишь свобода, в том числе и свобода от общества, то есть всё та же пресловутая безответственность. Не оттого ли и НАТО стоит сегодня у наших ворот, что либералы Горбачёв с Шеварднадзе не заключили с главами стран, входящими в состав Атлантического блока, ни одного письменного соглашения, положившись в полном соответствии со смыслом триады «свобода-равенство-братство» на их честное, так сказать, братское слово, что НАТО на Восток – ни-ни! Увы, братья оказались такими же безответственными либералами. И вот сегодня мы крепко завязаны на путаные проблемы Украины и Молдовы, которые усложняют нашу и без того нелёгкую жизнь. Почему? Потому что, получив свободу, они положительно не знают, что с ней делать. Воля же работает на народ, на гражданское общество и правовое государство, а свобода, в конце концов, порождает либеральное мракобесие. Воля – это жизненно необходимая России эволюция, свобода – измордовавшие страну и народ революции. Возьмите любую революцию – хоть английскую с жестоким Кромвелем, хоть французскую с кровавым Робеспьером, хоть русскую не буду говорить с какими Лениным-Сталиным, хоть российскую либеральную с непредвиденным Ельциным и «лабораторным» Гайдаром: все они очень быстро перерождаются в свою полную противоположность и начинают активно «пожирать своих детей». Кто не верит в «либеральное мракобесие», пусть вспомнит, как либералы, активно проникшие в мир киноискусства, уже в середине 80-х, затравили гениального русского режиссёра Сергея Бондарчука, крупнейшего русского поэта Юрия Кузнецова (даже о смерти его никто не узнал!), практически перестали печатать и пускать в народ писателей-деревенщиков, как застрелили в 91-ом Игоря Талькова, как в громогласно объявленную ими эпоху демократии перекрыли для своих идеологических противников практически все крупные печатные и электронные СМИ. И если Воля собирает людей в артели, товарищества, позитивные людские сообщества, ведущие государство и его граждан к процветанию, как это было всё в том же республиканском Новгороде, то свобода очень скоро приводит к озлоблению и вражде между вчерашними сподвижниками. Доходит до того, что жена либерала Лужкова Батурина начинает судиться из-за некого имущества со своим родным братом! Какое тут, айм сори, «равенство – братство»? Да и остальные хороши: Ходорковский оказывается на нарах, Гусинский – в Израиле, Березовский – на том свете, Абрамович, раздваиваясь и растраиваясь, – сразу и в Англии, и в центральной Европе, и на Чукотке, а ещё есть и пятые, и двадцать пятые, и все они ведут себя, как пауки в банке. В просуществовавшей более пятисот лет Новгородской вечевой республике, напротив, все её воеводы, бояре, купцы и простые ремесленники ощущали себя как пальцы на одной руке. В отличие от остальных враждовавших друг с другом княжеств, в Новгороде никогда не было «смутных времён», бунтов, заговоров и восстаний. Веками вольным Новгородом и его обширными землями, простиравшимися до Урала (Камня), управляли народное Вече и митрополит. Князья, которых призывали на Новгородский стол, решали в основном военные и дипломатические проблемы. Мало кто знает, но, но в своё время (в середине 13 века) существенно повзрослевший и, можно так сказать, заматеревший князь Александр Невский более всего превозносился вольными новгородцами не за победы на Неве и Чудском озере, а беспрецедентный «ледовый поход» в Скандинавию, когда он, поставив свои дружины на лыжи, дерзко двинул через Копорье и Финский залив на территории Финляндии, Швеции, Норвегии, дойдя по ним до северных морей. Он пополнял свои рати угнетёнными в ту пору финнами, громил варяжские крепости и города. Под стенами новгородской Софии на общее обозрение выставлены красивые, но очень странные железные ворота с католической вязью: их в своё время воинственные викинги вывезли из Германии, а новгородцы отняли их у викингов. Позитивно сказывались на развитии Новгорода и визиты Александра Невского в орду, которая не посягала ни нашу Веру, ни на новгородскую Волю, как католические рыцарские ордена (это запечатлено даже в довоенном фильме «Александр Невский»), от которых Новгород веками оберегал обескровленную татарами и ослабленную усобицами Русь. И напрасно новгородцам ставят в вину неучастие в Куликовской битве. Во-первых, Москва принципиально не звала Новгород под свои знамёна. А во-вторых, и в главных, как неоднократно сетовали газеты Татарстана времён горбачёвской перестройки (когда открылись кингстоны гласности), новгородцы в течение почти двухсот лет, задолго до Куликовской битвы, по всей Волге «разоряли мирные татарские города», истребив степняков куда больше, чем рати Дмитрия Донского на Куликовом поле. Занимались этим профессиональные дружины новгородских ушкуйников, чем-то (Волей!) напоминающие лихие казачьи сотни Юга России. Но всё это темы другого, куда более долгого и скрупулёзного разговора.
Таким образом, либерализм на Руси вещь привнесённая, взращённая на искусственной, чуждой ему почве и удобренная западными учениями и отнюдь не отечественными историческими и общественно-политическими практиками. И Садко, и Буслай, которых один новгородский учёный в разговоре со мной запальчиво назвал «первыми русскими либералами» (очень интересная мысль!), на самом деле всё-таки не либералы, поскольку краеугольным камнем их мировоззрения является не «либере», не свобода, а Воля. Следовательно, они исповедовали не либерализм, а вольнолюбие, вольномыслие и не только исповедовали, но и активно проводили его в жизнь, заражая этим позитивным мироощущением весь новгородский вечевой люд. Кстати, народное вече собиралось не только под стенами Софии, но и во всех так называемых концах великого города (В одном из таких концов, на городском валу, я прожил половину своей жизни. И в юности, словно по традиции, мы собирались там, возле старой кирпичной арки, обсудить наши походы в Мясной бор – собирать останки бойцов погибшей в тех местах второй ударной армии и, чего уж там таить, ржавое оружие, которое потом вымачивали в керосине). Прекрасно понимая и ощущая эту свою особость, новгородцы ни с кем не хотели объединяться, а дружили лишь с вольным Ганзейским союзом (и италийскими республиками), который, к слову сказать, несколько раз в неурожайные годы спасал новгородцев от голода. Не продавался Новгород и Литве, с которой разве что торговал и, выражаясь нынешним языком, обменивался культурными достижениями. Недаром, к началу 16 века многие «литовские люди» поражали московитов своим чистейшим и более правильным, чем у них, русским языком. И не знаю, как бы развивалась Русь в 16 – 17 веках и позже, победи в великом противостоянии не Москва, а Новгород… Скорее всего, не было бы ни «смутного времени», ни титанических усилий Петра и вздыбленной им России, не понадобилось бы самому великому русскому императору «побеждать варварством русское варварство», потому что новгородцы были культурнее( о чём свидетельствуют многочисленные берестяные грамоты), а главное – состоятельнее европейцев и относились к последним с некоторым снисхождением. Но главное, не пришлось бы губить в десятках военных конфликтов, войн и мятежей огромные людские массы, закрепощать крестьян, разлагая необузданной, безответственной властью дворян и духовенство. И ведь всё это, и прежде всего, пренебрежение власти к своему народу, так или иначе, дожило до наших дней. И вот сегодня официально (это заявлено во множестве телепрограмм) считается, что патриоты, государственники работают на Россию, а либералы – против. На разного рода рингах и барьерах они осыпают друг друга тяжкими упрёками, обвинениями и даже ругательствами, вовлекая в этот завязанный ещё в прошлом веке конфликт всех смотрящих ТВ-программы россиян. На самом же деле, констатирую ещё раз, это ложный конфликт, не имеющий к чаяниям российского народа абсолютно никакого отношения. И не случайно многие россияне сегодня напрочь разуверились в каком-либо конструктивизме нашей внутренней политики (Валентин Распутин назвал их «внутренней эмиграцией») и считают все наши «круглые столы» на ТВ «пустой говорильней», источником пиара для многочисленных президентов и директоров разного рода фондов и институтов, депутатов и представителей исполнительной власти. В сущности всех россиян, русских (их на самом деле гораздо меньше, чем народонаселения РФ) выделяет среди прочих народов Земли переданное им генетически через века чувство Воли. И, по большому счёту, оно присуще и демократам, и патриотам, ибо деление это условно, поскольку связано с жизненным опытом, то есть с рядом повлиявших на внутренний мир случайностей. И никогда больше в обозримом будущем, думаю я, либералы на Руси не придут к власти, потому что они не любят и не умеют создавать и хранить народосберегающие системы, тем более, на территориях, где живём мы, по сути своей вольномыслы и вольнолюбы. Увы, народ либералам достался, действительно, не тот. Но для устранения этого курьёза не спорить надо нашим патриотам и либералам, а совместно изучить историю вечевой Новгородской республики, ввести во все наши учебники истории и философии категорию Воли, и тогда мы согласно вернёмся к действенному парламентаризму. И пусть будет у нас не призванный на стол князь, а выбранный большинством народа президент. Какая, в сущности, разница?
И ещё, для, так сказать, эмоционального, интонационного подкрепления всего выше сказанного, я хочу вспомнить те благословенные дни, в которые я, нет да нет, а возвращался в родной, вскормивший и воспитавший меня город. Как бы там ни было, как бы ни складывалось, я всегда первым делом еду к Юрьеву монастырю, что стоит при выпадании Волхова из озера Ильмень, на стрелке. В хорошую погоду вода в озере светлее воздуха, а в Волхове – красная. Это, говорят, оттого, что в 16 веке стрельцы и опричники Ивана Грозного перекидали в него с городского моста тысячи новгородских бояр, купцов и ремесленников – совсем как по Сталину: нет человека – нет проблемы. Проблемы Воли. Обыкновенно я сажусь на камни – спиной к угловой башне, а лицом к Ильменю. Я могу здесь сидеть часами, словно бедуин в пустыне. Вдали, почти на самом горизонте колеблются паруса рыбацких челнов и яхт, внизу, на полосе соприкосновения воды и песка, рыбаки достают из причаленных лодок свои снасти и сетки с рыбой, чуть выше на скамье какая-нибудь влюблённая парочка тоже, как я, не может отвести зачарованных взоров от серебристых вод славянского моря. Мне хорошо, мне ничего не надо.
к бы ни складывалось, я всегда первым делом еду к Юрьеву монастырю, что стоит при выпадании Волхова из озера Ильмень, на стрелке. В хорошую погоду вода в озере светлее воздуха, а в Волхове – красная. Это, говорят, оттого, что в 16 веке стрельцы и опричники Ивана Грозного перекидали в него с городского моста тысячи новгородских бояр, купцов и ремесленников – совсем как по Сталину: нет человека – нет проблемы. Проблемы Воли. Обыкновенно я сажусь на камни – спиной к угловой башне, а лицом к Ильменю. Я могу здесь сидеть часами, словно бедуин в пустыне. Вдали, почти на самом горизонте колеблются паруса рыбацких челнов и яхт, внизу, на полосе соприкосновения воды и песка, рыбаки достают из причаленных лодок свои снасти и сетки с рыбой, чуть выше на скамье какая-нибудь влюблённая парочка тоже, как я, не может отвести зачарованных взоров от серебристых вод славянского моря. Мне хорошо, мне ничего не надо.
Народная жизнь и приоритеты власти
Вот и отсалютовал Великий День Победы, самый холодный за последние пятьдесят лет. Но под непрекращающимся снегопадом и на пронизывающем ветру колонны Бессмертного полка нисколько не поредели даже, несмотря на ранний час прохождения акции: в Костроме она началась в половине девятого утра! Я смотрел на одухотворённые лица земляков и в очередной раз убеждался в том, что народный патриотизм, сколько его ни эксплуатируй, всегда был, есть и будет точь-в-точь таким, как описывал его граф Толстой ещё в середине позапрошлого века – хоть в рассказах про оборону Севастополя, хоть в эпопее про войну с Наполеоном. Он не терпит фальши и всегда отличался от патриотизма официального, при помощи которого пыталась и пытается овладеть обществом, в сущности, любая российская власть: монархическая, капиталистическая, большевистская, советская, демократическая, олигархическая… Просто, нынешнее время в силу своей социальной и этической специфики обозначает это «отличие» наиболее выпукло и контрастно.
Это понимание впервые пришло ко мне ещё в давнюю советскую пору, когда я занимался с абитуриентами литературным анализом толстовской эпопеи. Помните патриотизм столичных салонов в преддверии монарших назначений и патриотизм бородатых мужиков, солдат и офицеров, заслонивших Москву под Бородиным? Толстой специально сводит эти два типа отношений к Отечеству и существованию вообще, поскольку они вольно или невольно преследуют любого мыслящего русского человека на протяжении всей его жизни. Искренность и лукавство, любовь и притворство, духовное и материальное, совесть и карьера и, наконец, истина и ложь, то есть, как учили в советской школе, патриотизм истинный и патриотизм ложный. И вот всё это, что мы сообща находили у Толстого, удивительным образом перекликалось с главным конфликтом советской эпохи: между декларируемым властью и доминирующим в повседневной жизни рядового советского труженика. А потом это осмысленное однажды противоречие так и шло со мною по жизни – через горбачёвскую перестройку, гайдаровскую терапию, чубайсовские эксперименты (едва не написалось «экскременты») и ельцинский волюнтаризм. Поэтому к началу нового века я уже окончательно усвоил, что во власть у нас идут, как правило, ради персонального осуществления, так сказать, банального обывательского бренда: чтобы у меня всё было, и мне за это ничего не было! Кто считает иначе, тому вряд ли следует читать эту статью далее, поскольку она строится на принципах логического соответствия декларированных программных установок и жизненных реалий. К сожалению, весьма внушительная часть депутатского корпуса нынешней ГД в своей жизни и законотворческой деятельности руководствуется не логикой текущей российской действительности, а идеологией правящей партии, которая (идеология), согласно искреннему признанию её нынешнего спикера, – «это наш президент» (так Володин ответил на утверждение оппонента, что у ЕР нет конкретной идеологии). Исходя из этого многие члены и сторонники «ЕР» дописались и договорились до вещей, умом которых не понять, а верить в них – значит не верить ни Толстому в частности, ни в народное мироощущение в принципе.
Итак, Вера. Когда я смотрю на стоящего в стенах Храма Христа Спасителя Дмитрия Медведева с женой и свечкой, то испытываю досадное чувство неловкости, и мне хочется самоустраниться от этого невольного созерцания главы российского правительства, который таким вот неестественным образом отбывает свою должностную и партийную повинность. Его предшественники в близкой ситуации просто взорвали этот храм – и дело с концом, и никаких тебе укрытых платками смиренниц жён и покаянных свечек! Экспроприировали экспроприаторов, грабили награбленное, а чтобы не мучила совесть, учиняли от неё полную свободу… методом подрыва культовых зданий и избиения церковных служителей. Примерно так поступили большевики в моём родном селе Андосово Нижегородской губернии: разграбив и испепелив барский дом и всё казённое имущество, они затем забрались в местную церковь времён Екатерины и, вытащив оттуда все иконы и прочую утварь, учинили на центральной площади огромное кострище, в свете которого до глубокой ночи сладострастно рвали церковную парчу и испражнялись на связанного по рукам и ногам священника. Возможно, меня захотят обвинить в ложной и даже провокационной параллели, только зря, господа, поскольку, как говорится, история развивается по спирали, и что не успели спереть вчера, то сегодня поспирали! Ещё вчера мы очень любили ездить вниз по Волге, в живописный Плёс, до недавнего времени чрезвычайно свободное для прогулок и доступное в смысле проживания и пропитания место. Однако, после того, как это Божье место облюбовал господин премьер, прогулки по набережной в нём пресеклись огромным забором, а цены, как на проживание, так и на пропитание поднялись в разы. Говорят, теперь в Плёсе всем заправляют москвичи. Поэтому мы стали спускаться несколько ниже по Волге, до Кинешмы, где покамест не угнездились ни чиновники, ни депутаты. Кстати, выше Плёса по течению, всё волжское побережье вокруг Трифыныча, стало для туристов вообще недоступным – по причине передачи его в руки другого известного в прежнее время представителя федеральной власти. А что такое низовья разделяющей Костромскую и Ивановскую земли рек Нёмды и Унжи? Это вереница угодий правящей элиты с богатыми причалами для катеров и яхт и просторными беседками для разнообразных гуляний и забав, включая выступления духовых оркестров. И если в нескольких верстах от Волги вам повезёт услышать какую-нибудь оркестровую штуковину, то будьте уверены: её музыкальный пафос, прежде всего, поразит вас своим бескомпромиссным российским патриотизмом! Стоят солидные господа во фраках с манишками и бабочками и дуют самозабвенно «Боже, царя храни!», «Вещего Олега» или «Москву златоглавую». А где-то там, во глубине, на фоне увитых плющом апартаментов лакеи разносят гостям игристое вино с ананасами и французским сыром. Как видим, у официального патриотизма есть физически осязаемые и воочую созерцаемые предпосылки: чем громче и последовательней ты кричишь «Слава, России!» и «Мы вместе!», тем круче твои наделы общероссийской земли! Дошло до того, что Никита Михалков уже открыто хвастает по ТВ своим «барским имением», где живут вполне счастливые «крепостные», которые в благодарность барину усердно обихаживают все его хозяйственные постройки и наделы. По-моему, Никита Сергеевич, пришла Вам пора один из «Бесогонов» полностью посвятить вредности либеральной реформы 1861 года. Как говорится, «народ освобождён, но счастлив ли народ?». А он нынче, увы, не счастлив ни в Плёсе, ни в низовьях Нёмды и Унжи, ни близ Валдая, где иные угодья российских патриотов ещё обширнее медведевской Миловки и зурабовского Трифыныча!
Но главная неприятность для российского общества заключается не в том, что наши номенклатурные патриоты получают за свой патриотизм щедрое вознаграждение, а в том, что, во-первых, будучи при ключевых должностях, они, так сказать, освобождают от мук совести своих многочисленных подчинённых, потакая проявлению их далеко не лучших человеческих свойств, а во-вторых, патриотизм и сам по себе является для всего этого многочисленного российского истеблишмента идеальным оправданием и прикрытием его эгоизма, ограниченности и доселе не виданной в стране коррупционности, которая заключает в себе все мыслимые и немыслимые людские несовершенства и пороки. В сущности, я веду речь о деформации нравственности в кулуарах власти, где нравственно здоровая, полноценная личность ощущает себя как минимум неуютно, не в своей тарелке, в связи с чем теряется, выпадает из процесса управления страной, регионом, отраслью. Более того, этот губительный процесс «рыбак рыбака…» проникает глубже, практически во все сферы как минимум гуманитарного сознания: в правовую, образовательную, кино – теле, искусство, СМИ, культуру и т.п. Только что в очередной раз с редким удовольствием просмотрел два фильма: наш – «Они сражались за Родину» и американский – «Гладиатор». При этом впервые обратил внимание на объёмные титры – перечни имён людей, занятых при изготовлении этих замечательных кинолент. Понятно, что всем занятым в работе над картинами профессионалам пришлось платить и, вероятно, особенно американцам, немалые деньги. Но подлинное искусство того стоит. Эти картины будут жить вечно! Вместе с тем, ко Дню Победы наша современная теле – индустрия «выкинула» российскому зрителю около десятка новых телевизионных художественных фильмов, из которых не запомнилось ни одного. И уж смотреть их повторно нет никакого смысла! Над ними работали «узкими группами специалистов»: то ли денег мало отпустили, то ли экономили, чтоб из отпущенной суммы самим больше получить. И вообще, если пристальней глянуть на современную индустрию кино, то легко заметить, что продукты, которые она готовит и поставляет, уже изначально обречены на неуспех, поскольку в основе большинства нынешних патриотических фильмов лежат никудышные сценарии, кое-как сработанные «групповым методом». Лично знаком с одним из подобных сценаристов – специалистом по любовным коллизиям, который работает в «творческом сообществе» со специалистами по природе и погоде, по производственным коллизиям и бизнесу с экономикой, а ещё там есть целые группы, которые занимаются так называемыми «стрелялками», массовками, «войнушкой», политикой и так далее. Короче, каждый пишет свой отдельный кусок, а куски потом собирают воедино и склеивают, спаивают, корректируя и исправляя при этом выбивающиеся из общего контекста детали. Следует также заметить, что нечто подобное нынче стало применяться и в литературе. Это когда добившемуся читательского признания, а главное – коммерческого успеха писателю, так сказать, надоедает писать самому, и он нанимает на этот процесс литературных рабов, специализирующихся на литературной имитации. В результате мы всё чаще сталкиваемся со странным, на первый взгляд, явлением стремительного вырождения того или иного таланта, особенно в жанре фантастики и детектива. Вот, к примеру, я прочёл с десяток романов фантаста Л., которые, с моей точки зрения, явились прямым продолжением творчества братьев Стругацких. Естественно, я стал выискивать на магазинных полках новые вещи Л., даже, несмотря на то, что они, обретя популярность, стали стоить значительно дороже. Только вот чтение на сей раз меня скорее раздражало, чем вдохновляло, поскольку и стиль, и язык, и сам смысл романов Л. изменились необычайным образом! И, полагаю, что если эти, так сказать, новые романы Л. подвергнуть серьёзному анализу, то можно доказать либо то, что они написаны вовсе не Л., либо факт его откуда ни возьмись взявшейся душевной болезни (известно, что психическое расстройство меняет даже почерк человека). В читательском кругу нынче даже такой упрёк укоренился: «И этот (эта) исписался!». Спросите, отчего сие происходит? А всё оттого же, что и Миловка в Плёсе, и виноградники в Тоскане – от развивающейся как вглубь, так и вширь духовной деформации. Она буквально парализовала деятельность всех наших некогда чрезвычайно популярных и весьма состоятельных материально так называемых толстых журналов. Нынче они либо вообще ничего не платят своим авторам, либо авторы сами должны заплатить за публикации своих произведений. Дошло до того, что журнал «Российский Колокол» бросил клич ко Дню Победы: дескать, присылайте в редакцию свои воспоминания о фронтовиках, и мы их готовы напечатать… за деньги. На это я предложил членам редколлегии воспоминания ветерана «СС», заверив, что неплохо заплачу. И знаете, возмущений на это не последовало… Мне осталось лишь написать по этому поводу заметку – «Почём звонит колокол?». Впрочем, нашлось одно совестливое издание, которое, принимая мою повесть к публикации, честно предложило написать заявление на имя главного редактора о том, что я не претендую на гонорар… Но и такое нынче встречается крайне редко, ибо во всех столичных структурах, в том числе и в изданиях, уже давно никого не интересует провинциальная Россия как таковая: Миловка ли, Валдай ли, новые ли Астафьевы с Беловыми, Горины ли с Тарковскими (последний родился совсем недалеко от Плёса)… Получат они гонорар – не получат, обидятся – не обидятся, выживут – не выживут. Какая разница?! О ситуации в СМИ, в которых я долгие годы работал, даже писать не хочется. Если бы такое было возможным, то я наградил бы Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва и их коллег самыми высокими партийными наградами и щедрыми грантами для написания мемуаров и, с учётом права российской нации на выживание, убрал бы их с телеэкранов. Впрочем, ради справедливости, следует заметить, что в провинции сегодня журналистики нет как таковой вообще. Есть рутинная подёнщина по заполнению неких газетных площадей и отпущенного Центром времени под местные телепрограммы и эфиры. Просто, из Москвы спускается так называемая сетка с заданными темами и возможными выводами, а дальше – чисто технический процесс. Предлагать местным редакциям нечто эксклюзивное, оригинальное – безнадёжная трата времени и душевных сил! О культуре могу сказать лишь то, что подданные министра Мединского, библиотекари в областной библиотеке, молодые в общем-то женщины, зарабатывают едва ли больше десяти – двенадцати тысяч рублей в месяц. И что особенно прискорбно, областная научная библиотека уже второй год не выписывает периодики: ни «толстых» журналов, ни литературных альманахов, ни газет – НИЧЕГО! Интересно, делится ли министр этим свои «горем» с патроном Медведевым где-либо на брегах некогда бурлацкой реки? Что касается образования, то вот вам всего одна цифра. В былые годы известнейший костромской профессор, автор многих книг и монографий Юрий Лебедев читал свои замечательные лекции по истории русской литературы курсу из 80 – 90 студентов. Сегодня его слушает… восемь человек. Недавно «в целях оптимизации» и ещё чего-то там были слиты в одно целое бывшие Костромской педагогический и Костромской технологический. Что получилось при этом, никто понять до сих пор не может! Но, как говорят преподаватели известного ранее на всю страну костромского «технолога», который в своё время закончил Сергей Собянин, КГТУ, как дефиниция высшей школы, исчез с радаров высшего образования РФ на 100 процентов! Поскольку сегодня стали весьма чувствительными некие усилия по очередному восстановлению «доброго имени» Сталина, то замечу к слову, что процесс слияния КГТУ и КГУ имени Некрасова в сталинское время назвали бы вредительством, а его инициаторов – врагами народа. К сожалению, ни федеральным, ни провинциальным «патриотам» подобные мысли в головы не приходят. Один из таковых – историк, профессор местного университета Андрей Белов с завидной лёгкостью сообщает в одной из передач местного ТВ, что сегодня мы, слава Богу, вновь начали строить самодержавие, без которого России просто не выжить. Кому, простите, не выжить? Тем, кому за их «патриотизм» щедро «отстёгивают» из госбюджета и привлечённых капиталов разного рода нуворишей, заблаговременно усаженных властью на нефтяные трубы? «Мы – вместе!» – самозабвенно кричали на торжествах, посвящённых Дню Единства, народные избранники и патриоты Исаев, Яровая и иже с ними. С кем, господа, вы вместе? С сорока миллионами пенсионеров, более половины которых едва-едва сводят концы с концами и то в основном за счёт выращенного на приусадебных и дачных участках? Пусть та же Яровая прямо ответит на такой наипростейший вопрос: может депутат оставаться депутатом, зная о том, что на его содержание госбюджет отпускает до миллиона рублей, а на содержание какого-нибудь бывшего колхозника или слесаря десять – двенадцать тысяч? Никогда Яровая на такой вопрос не ответит, ибо в орбиту её, как народного избранника, интересов де-факто не входит проблема качества жизни народа России. А ведь это главная причина создания собственно самого института парламентаризма! Но не в России, где, повторюсь, номенклатурный и народный патриотизм, в основе которого лежат любовь и уважение к людям своей страны, практически не пересекаются, поскольку наша номенклатура всегда держала свой народ за некий компост, перегной, на котором там что-то этакое должно вырасти: то самый продвинутый чемпионат мира по футболу, то керченский мост, то восстановленная Пальмира, то арктические ВС… Единственный день в году, когда эти два патриотизма не перечат друг другу, есть 9 Мая, хотя, если задуматься, то и Победу нашу в российском народе не зря считают «праздником со слезами на глазах». Совсем иначе смотрят на победу во второй мировой англичане и американцы. И не потому, что у них короче память, а, прежде всего, потому, что их потери в этой войне несоизмеримы с нашими. На днях канал «История» рассказывал о боевых действиях союзников в Европе. Огромную ставку союзное командование делало на так называемые «ковровые бомбардировки», которые наша пропаганда всегда порицала за неоправданные разрушения немецких городов и бессмысленную гибель мирного населения. И в самом деле, на один только Кёльн Англия отправила единовременно около тысячи (!) самых мощных в мире бомбардировщиков. После этого города не стало, как не стало и Дрездена. Так они «ломали дух» немецкого народа и устраняли препятствия на пути к своей победе. Наши почти всё брали штурмом: Будапешт, Бухарест, Софию, Вену, Варшаву, Прагу, Берлин. В результате миллионы наших остались там… в братских могилах. Может, поляки благодарны русским мужикам за спасённый от фашистов красавец Краков? Нет, они больше порицают нас за своих офицеров, расстрелянных сталинскими патриотами в Катыни, и массово сносят памятники советским воинам-освободителям. Но я сейчас не об их короткой памяти, а о нашей – однобокой. Если англичане и американцы за всю вторую мировую – а они кроме Европы ещё активно воевали в Африке и в акватории Тихого океана – потеряли по нескольку сот тысяч убитыми, то наши только под Ржевом – два миллиона солдат и офицеров. А есть ещё Мясной Бор и иные местечки российского захолустья, поглотившие, каждое в отдельности, сразу по нескольку кёльнов и дрезденов! То есть я об отношении нашей власти к нашему народу. Она, наша самая патриотичная в мире власть, не тратила необходимого количества бомб, она почти всегда обходилась «неучтённым количеством» своего народа: «За Родину! За Сталина!» – в рост на самые скорострельные в мире пулемёты! Я родился ровно через десять лет после войны и успел запомнить родное село, в которое с войны не вернулось более двухсот молодых мужиков. Сейчас там не живёт и десятка больных стариков. И это тоже, увы, индикатор нашей победы и, в значительной степени, подлинной сущности нашего номенклатурного патриотизма. Может, поэтому и выдался таким холодным и снежным этот весенний май 2017-го? Только возле Вечного огня и удалось согреться, под сенью обелиска памяти о ста с лишним тысячах не вернувшихся с войны костромичей. И это при том, что Кострома всегда оставалась в глубоком тылу, и что даже сегодня в ней не живёт и трёхсот тысяч.