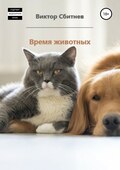Виктор Альбертович Сбитнев
Совсем другая история
Надо жить со своим народом!
Превратности российской справедливости
Когда-то давным-давно, ещё в советскую пору, я, пребывая в своей родовой деревушке на студенческих каникулах, поехал в райцентр за хлебом, сахаром и иными по тем временам дефицитными продуктами. Наполнив ими под завязку рюкзак и сумку, решил зайти в привокзальное питейное заведение – «шалман» – выпить пару пива и съесть рыбий хвост. Пиво, естественно, было жидким, а от рыбы припахивало негоже. Но тут уж поделать ничего было нельзя: в ту пору и в областной столице «шалманы» редко удивляли хорошим пивом. До пресловутой горбачёвской борьбы со змием было ещё далеко, а потому разливали в заведении и водку. Кое-кто тайно покуривал, многие, несмотря на грозное объявление «Своё не приносить и не распивать!», как раз этим и занимались: разливали под столиками магазинную и соответственно более дешёвую водку, а то и «чернила» типа «Золотой осени» (в мужичьем мире её окрестили «Золотой плесенью»). Выпив первую кружку пива, я достал из сумки кусок «Особой» колбасы и ломоть местного хлеба, более похожего на коричневый пластилин, а то и на кое-что похуже. Надо сказать, что за полтора месяца деревенской жизни, которая проходила по большей части на сенокосе и лесозаготовках, я сильно одичал, а потому даже поселковый «шалман» невольно воспринимал, как этакое окно в цивилизацию. Мужики тут собрались самые разные: от типичных советских опоек с характерной одутловатостью лиц до вполне приличных молодых людей с инженерской внешностью. В шалмане стоял то усиливающийся, то замирающий говор, который после долгого лесного безмолвия заметно волновал и был вполне приятен. Я неторопливо уплетал свою колбаску, а этот волнообразный шум как будто убаюкивал меня. Так прошло довольно много времени, потому что я залезал в свою сумку ещё и ещё. И вдруг шум забегаловки как-то странно заколебался, словно согласно беседовавшие до этого посетители заметили нечто необычное и разом смолкли. Я поднял голову и увидел неподалёку от стойки неряшливо одетого бородатого мужика неопределённого возраста, который забирался на пустую пивную бочку. Это занятие у него явно не получалось, а потому стоявшие рядом приятели стали сначала подбадривать его, а затем и подсаживать. И вот он, едва не доставая лохматой нечесаной башкой до брезентовой крыши, воцарился над всей пьющей и закусывающей компанией. Поначалу взгляд его блуждал, но вскоре приобрёл оттенки одного сплошного, взыскующего упрёка. Люди постарше, надеюсь, помнят то дуалистическое брежневское время, внешне очень спокойное, медленно текущее и даже вязкое, а внутренне напротив – колкое, шершавое, всё в протестных воронках и политических анекдотах. И вот, постояв так в очевидной попытке привлечь к себе всеобщее внимание и, видимо, настроить собравшихся на нужную волну, мужик стал читать … Лермонтова… «Смерть поэта». Я, студент филфака, скажу без преувеличения, натурально обалдел. Зачем и кому он это читал? Ну, конечно же, не из любви к Пушкину или литературе вообще. Это стало понятно, когда он дошёл до последних, обличительных строк: «Вы, жадною толпой стоящие у трона», «Пред вами суд и правда – всё молчи!» и так далее, вплоть до «И всей своей вы чёрной кровью не смоете поэта праведную кровь!». Понимаете, и я, и все собравшиеся в шалмане простые поволжские мужики почувствовали вдруг, что стихотворение написано вовсе не полтора века назад, а только что, вот здесь, где-то едва ли не под заставленным пивными кружками столом. Ведь за пивом, а тем более, за водкой о чём обычно говорили наши русские работяги? Конечно же, о справедливости: о работе, где начальник ни за что – ни про что урезает премию, о родной улице, где сосед – куркуль продаёт по ночам втридорога палёную водку, о своей собственной семье, где вконец распоясалась безбашенная тёща, но и о секретаре райкома, который, занимаясь пустой трепотнёй, за два года получил уже вторую квартиру. Что тут началось, когда он закончил! Сказать, что гул народного негодования – это значит, не сказать ничего. Буфетчица тут же выставила табличку «Технический перерыв», а я всерьёз испугался, что пивное общество сейчас же вооружится вилами и отправится к райкому партии свергать действующий режим.
Я вспомнил сейчас об этом с одной единственной целью: убедить читателя в том, что искони, с седых времён создания «Русской правды» и Новгородского вече основными духовными скрепами составляющих всего русского мира были и остаются обострённые чувства низового народного патриотизма и укоренённой, можно даже сказать – этнической справедливости. В сущности, всё остальное – и законопослушность, и служение родине, и благополучие частной жизни – к ней, справедливости, прилагаются. И даже вера наша православная, в отличие, скажем, от католической, во всём ставила и ставит это чувство, это душевное состояние во главу угла: и во взаимоотношениях мужчины и женщины, и в воспитании детей, и в артельном труде, и в сомкнутом дружинном строю. Почему? Полагаю, потому, что веками сначала на Руси, а затем в России и Советском Союзе между народом и властью существовали не просто противоречия, а вечная непримиримая конфронтация, нередко переходящая в войну на истребление. И, разумеется, инициатором таких взаимоотношений всегда была власть, которая, в сущности, никогда не любила, не берегла свой народ. «Живая власть для черни ненавистна!» – как всегда точно сформулировал в «Борисе Годунове» русскую общественную константу всё тот же Пушкин. А в 1978 году в интервью «Русской мысли» Иосиф Бродский, так сказать, объяснил природу этой ненависти: «Что происходит в России? Государство рассматривает своего гражданина либо как своего раба, либо как своего врага. Если человек не попадает ни под одну из этих категорий, Государство всё-таки предпочитает рассматривать его как своего врага со всеми вытекающими последствиями».
Я не стану здесь приводить некие исторические стадии этой «народной ненависти», ибо они аксиоматичны и скрупулёзно исследованы целым рядом научных монографий и даже популярных романов. Замечу лишь, что с приходом большевиков война со своим народом стала для власти делом поистине будничным: красный террор, подавление крестьянских восстаний и так называемых контрреволюционных мятежей, изгнание и массовое уничтожение интеллигенции и духовенства, военный коммунизм, коллективизация и индустриализация… с параллельно растущей системой лагерей – от Соловков до Гулага. Всех, кто даже не сопротивлялся, а просто пытался жить самостоятельно, по совести, уносили многочисленные «воронки», а затем столыпинские вагоны – в гибельные дали необъятного северо-востока самого крупного и совершенно не приспособленного для жизни континента. Сегодня всё чаще обращаются к трагическому опыту финской войны, которую Александр Твардовский осторожно назвал «незнаменитой». На ней замёрзали целыми полками! Соотношение погибших в боях к погибшим от морозов было примерно 1 к 5. Но разве генералы РККА не знали про финские морозы? Знали! Но почему тогда не экипировали брошенные в промороженные приполярные леса полки в тулупы и валенки? Иначе мы сегодня смотрим и на многое из того, что произошло в годы Великой Отечественной. В моём родном селе стоит высокая стела. На ней более двухсот фамилий погибших на фронте сельчан, в основном молодых работящих мужиков. Сегодня некогда красивое приходское село усохло до размеров хилой деревеньки, выселка, на улицах которого такую огромную толпу мужиков просто невозможно представить. И погибли то они по большей части не в Сталинграде и не под Курском. Есть в Калининской области такой небольшой городок Ржев, под которым немцы остановили в начале сорок второго года наши наступающие из-под Москвы войска. И держали их там аж до сорок третьего, до той поры, пока, в связи с событиями под Сталинградом, они ни ушли оттуда сами. Так вот, согласно последним данным, под этим городком районного масштаба легло порядка двух миллионов(!) советских солдат и офицеров. Туда – единственный раз за всю войну! – выезжал даже сам товарищ Сталин. Всё тот же Александр Твардовский, которому многое разрешалось, написал знаменитое «Я убит подо Ржевом», а Михаил Ножкин сочинил песню «Три слоя»: тремя слоями вокруг городка и его предместий лежали наши убитые бойцы. Военное командование, власть бросали их в лоб на самые скорострельные в мире немецкие пулемёты, пытаясь, прежде всего, обезопасить явно наделавший в штаны руководящий аппарат ЦК (Сталин несколько раз с боязливой озабоченностью спрашивал Жукова: а удержим ли мы Москву?). Или, к примеру, празднуя очередную годовщину победы под Москвой в конце 1941 года, государственные СМИ с гордостью напоминают россиянам, что под стенами столицы немцы потеряли полмиллиона убитыми. Но мало кто знает, что в Мясном Бору, неподалёку от Новгорода, полегло примерно столько же нашего, одетого в серые шинели народа. И если немцы хотя бы рвались к Москве, пытаясь взять её любой ценой, то наши мужики просто сгинули в холодных болотах… по мановению всё той же безжалостной вероломной власти. Я знаю о чём пишу, ибо работал в Мясном Бору учителем и собирал в местных лесах останки павших и их солдатские медальоны.
Война с народом продолжилась и после войны. Теперь в лагерях умирали вчерашние фронтовики: кто за плен, кто за длинный язык, а кто и за появившуюся на фронте привычку выживать, то есть жить независимо, в том числе, и от вероломного государства (роман Ю.Бондарева «Тишина» и др.). Да, Хрущёв развенчал культ личности и вроде бы даже изменил природу отношений внутри этой основной исторической пары «народ – власть». Но, думается, термин «хрущёвская оттепель» появился в народном обиходе всё же с подачи некой интеллигентской элиты, вхожей в правительственные кабинеты, где принимались решения по поводу «печатать – не печатать», «снимать – не снимать», «выставлять – не выставлять», «награждать – не награждать». Если же говорить о жизни народной, то она стала куда хуже, чем при Сталине. В деревне, например, где я жил мальцом в начале шестидесятых, вовсе не было даже чёрного хлеба, а колхозники получали семь рублей зарплаты и мешок ржи или пшеницы. Мололи и пекли хлеб сами. Обшивали и обували себя тоже сами. Долго потом в саду возле нашего дома валялись обожжённые печным огнём хлебные формы, изъеденные короедом колодки для тачания обуви, какие-то проржавевшие ёмкости для выделки шкур и валяния валенок. Вообще, если честно, то моему деду и его фронтовым товарищам с их семьями государство только вредило, забирая изрядную часть произведённого ими продукта. Забирало на своё не нужное никому в российской провинции содержание. Взамен оно передавало по радио якобы новости, в которых клеймились американский империализм и иные страны, где власти относились к своим подданным несколько иначе. Как ни странно, но самым благоприятным, самым благополучным для центральной России, и прежде всего, для русской провинции стало брежневское правление, главным образом – в семидесятые годы. Заметно увеличились зарплаты и пенсии, наконец-то достойно зажили ветераны войны, и вполне свободно училась, работала и отдыхала молодёжь. Давайте посмотрим через призму той, «застойной», поры на день сегодняшний, то есть, в сущности, попробуем разобраться, лежит ли классическая государство образующая пара «народ – власть» в плоскости прокламируемого «Единой Россией» посыла: «народная власть – для поддерживающего её народа!»?
Замечу сразу, что очевидно с целью или нивелировать полностью, или хотя бы сгладить углы противоречий между властью и народом опытные лидеры идущей в гору партии и выбрали для неё столь простое, но хорошо проверенное временем название – «Единая Россия». Ведь, по большому счёту, это всего лишь современная перелицовка популярного советского лозунга: «Народ и партия – едины!». Но, думается, что они – современные хозяева жизни и простой российский народ – к сегодняшнему дню едины в куда меньшей степени, чем партийные аппаратчики и, скажем, провинциальные учителя, соцработники, библиотекари, почтальоны, медсёстры и крестьяне в семидесятые годы. И поскольку такое несоответствие верховной воли самым необходимым потребностям низов становится всё очевидней и … позорней, с некоторого времени в России запущена раскрутка ура-патриотических настроений. С одной стороны, ещё в 90-е годы мы только об этом и мечтали и даже плакали, когда бывший министр иностранных дел РФ «разрешил» своим нынешним соотечественникам бомбить православных сербов, но с другой… Ещё Лев Толстой писал о том, что есть патриотизм народный, то есть искренний, бескорыстный, соединяющий нас в единое целое, и есть патриотизм ложный. Этот зиждется на корысти, то есть на желании личных, персональных благ, денег и власти. Возможно, некоторым из «хозяев» и в самом деле кажется, что они – российские патриоты и, кое-как научившись креститься и выстаивать в храмах службы, заняты богоугодным делом. Но даже таковые, в лучшем случае, напоминают пресловутых аистов, которые засунули головы в пески Крыма, Сирии, Турции, а то и Бразилии или ЮАР. Что же касается собственно России, то, с моей точки зрения, скрепы между составляющими российское общество структурами имеют уже не естественное, но привнесённое по инициативе властей происхождение, то есть формальны и, следовательно, в значительной степени эфемерны. Сколько ни говори «сахар», слаще во рту от этого не станет – сколько ни скандируй на московских улицах «Мы – вместе!», единства между костромскими библиотекарями, получающими по десять тысяч, и депутатами Госдумы, сделавшими себе «довольствие» по полмиллиона, не будет. А ещё есть порядка сорока миллионов пенсионеров, которым отказали в индексации и хотят решить проблему где одноразовыми каникулярными подачками, а где и примитивной пропагандистской пугалкой: или «Единая Россия» с Путиным, или либералы, развал и война. И все об этом прекрасно знали и знают: и лидеры «Единой России», и премьер со своими министрами, и банкиры с представителями госкорпораций, и президенты с директорами многочисленных институтов и фондов, и особо приближенные к власти творцы кино, науки и искусства, и даже сам Президент! Ну, и что? Как заметил в «Росбалте» профессор из Санкт-Петербурга Дмитрий Травин, «кадровые назначения президента не имеют никакой связи с теми дискуссиями, которые идут в обществе, как будто Кремль и страна существуют в совершенно разных мирах (…). Элиты продолжают бороться за ресурсы, а народу приходится мириться с застоем (…). Возьмётся ли Путин за трансформацию загнивающей экономики, или мы будем по-прежнему медленно сползать вниз под бурные продолжительные аплодисменты, как во времена Леонида Брежнева?». И в этой очевидной параллели, в этическом отношении, нет ничего позитивного, что бы говорило в пользу нынешних элит. Напротив, съезды КПСС, при всей избирательности делегатов, были, по большому счёту, народными, и генсеку внимали шахтёры, доярки, слесари и учителя. Среди приглашаемых в Георгиевский зал Кремля или в Манеж – одни и те же, те же и одни. То есть в самом прямом и точном смысле – элита. Но элита весьма специфическая, поскольку комментировать комментарии президентского обращения некоторых её представителей у меня нет сил: патриотизма больше, чем у панфиловцев, а владения родным языком меньше, чем у дошколят, с которыми на том же телеканале регулярно беседует Максим Галкин. Но давайте для убедительности приведём некоторые цифры, то есть ответим на, так сказать, пошлый даже по нынешним анти – коррупционным меркам вопрос: Почём нынче российский патриотизм?
Поскольку, прежде всего, депутатам ГД, то бишь народным избранникам, российский народ обязан своими мизерными пенсиями, отказу в их индексации и мышиными в провинции зарплатами, то целесообразно посмотреть на динамику их депутатского благосостояния. Так, до 1 сентября 2013 года депутат Госдумы официально (!) получал всего 161 тысячу рублей. Но поскольку именно в это время на Россию подули предсанкционные ветры, и поползла вверх инфляция, наши кормильцы решили материально обезопаситься и добавили себе в аккурат сотенку тысяч, уравняв свой доход с зарплатой российских министров. Но ровно через год и этого оказалось недостаточно, и они подняли своё официальное довольствие ещё почти на двести тысяч. То есть их официальная зарплата стала превышать среднюю, например, по костромскому региону в 14 раз! Для сравнения не лишне будет заметить, что в США депутатская зарплата выше средней по стране в 3 раза, а в Германии – в 2. Кроме того, каждый месяц наши депутаты получают существенные поощрения (за патриотизм?), размер которых варьируется от 60 до 80 тысяч рублей. Им также выдаются по 200 тысяч рублей на зарплаты помощников, которым к тому же доплачивают регионы. Депутаты не тратятся на покупку дома или квартиры. Напротив, они выбирают жильё сами, практически в любом районе города. Добавьте сюда услуги спецполиклиник и санаториев со специальными скидками, весьма солидные выплаты на транспортные расходы (частично оплачивают даже членам семьи), оплату отпуска в 42 дня, проезд туда и обратно и так далее. Каждый депутат имеет право на добавку к трудовой пенсии, как-то: если он пробыл народным избранником от года до трёх, то будет получать пенсию в размере 55 процентов от зарплаты, а если более трёх лет – то все 75 процентов! Причём, если повышается депутатская зарплата, то повышается и пенсия. По объективным подсчётам, последнее повышение депутатского благосостояния – на общую сумму в 1,2 млрд. рублей – стало рекордом за всю историю России. Да, и не только России. Так, наш депутат в среднем получает около 8 тысяч евро, а в Германии и Англии – 7838 и 6988 евро соответственно. Во Франции и Швейцарии и того меньше: 5637 и 5440 евро. Уровень жизни народа в этих странах и России, я полагаю, сравнивать излишне, да и, честно говоря, неприятно.
Если говорить в этом смысле о российском правительстве, то, согласно опубликованным декларациям, самым состоятельным членом правительства является Александр Хлопонин с годовым доходом в 280 миллионов рублей. И если кратко, то на общем депутатском фоне наши президент с премьером, заработавшие соответственно 7,6 и 8 миллионов рублей, выглядят сущими голодранцами. Про зарплаты спортсменов не буду, ибо они реально влияют на нашу политику, лишь завершив спортивную карьеру. А вот люди искусства и поп-культуры влияют, и очень существенно. Например, главный киношник страны и автор патриотической телепрограммы «Бесогон» Никита Михалков заработал в 2015 году более 150 миллионов рублей, а порицаемые Западом за агрессивный патриотизм Георгий Лепс, Стас Михайлов и Филипп Киркоров – по 15, 10 и 9,7миллиона долларов соответственно. Весьма характерны в этом смысле заработки глав наших госкорпораций. Например, на территории Костромской области природный газ практически отсутствует, а глава, так сказать, «Национального достояния» Алексей Миллер заработал в прошлом году 25 миллионов долларов, как, кстати, и лидер нефтяных рек России Игорь Сечин. То есть по 140 миллионов рублей за каждый месяц своей изнурительной работы. На 10 миллионов отстал от коллег глава самого прибыльного в стране банка Герман Греф… Сколь качественно сработали эти господа – судить не мне, но, к примеру, проценты по кредитам для народа в сбербанке заоблачно высоки. К чему это приводит? Ну, например, в начале декабря на морозном востоке Костромской области изловили пенсионерку, которая… ограбила магазин. Как оказалось, пошла на это из-за невозможности вернуть банковские проценты по кредитам. Не стану ещё раз вспоминать о скандале с беспрецедентной премией, выплаченной главе «Почты России». Замечу лишь, что он благополучно остался на своём месте, заявив, что деньги возвращать не намерен, поскольку все так получают. И скандал очень скоро сам собою затих. Между тем, наша нынешняя почта работает безобразно! Любой необходимый визит туда – сущее испытание на выносливость!
Таким образом, без какой-либо натяжки имущественные и социальные противоречия, возникшие сегодня между российским народом и властью, можно по-ленински назвать «кричащими»! Это всё те же противоречия – между «верхними» тысячами и «нижними» миллионами, в прошлом характерные для любого империализма, хоть европейского, хоть российского. Но Европа, как видим, эту критическую стадию благополучно миновала. Как обернётся в России? Думаю, всё может измениться к лучшему лишь в том случае, если народ, в конце концов, станет пристальней всматриваться в реальные действия власти, конкретных её представителей и, наконец, поймёт, что все эти толстовские обитатели салонов Анны Павловны Шерер не только выжили, но и тысячекратно преумножились, объединившись в так называемые властные элиты. И если в истошных воплях столичных демагогов «Мы вместе!» он, народ, наконец-то услышит всего лишь эхо презренного металла, коим обильно одобряет эти вопли власть. Нет, это не призыв к какому-то массовому недовольству, а тем паче бунту, это всего лишь обращение к здравому смыслу, к тому самому, благодаря которому в США, например, выборы по-прежнему, как и в девятнадцатом веке, непредсказуемы, в связи с чем и… справедливы. Таковыми они должны стать и у нас, в веками обречённой на погоню за ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ стране.
Москва? А, говорят, она на нас с неба упала…
«Россия не в Москве, а среди сынов её». /Из сказанного генералом Раевским на военном совете в Филях /
«Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх». / Иосиф Бродский /
Почему с неба?.. А потому что оттуда испокон веку падали на Русь все самые непредсказуемые удачи и несчастья. Особенно пристально и даже в нетерпеливом ожидании мы вглядывались в него детьми, нечесаными дворовыми мальчишками. Высыпали ближе к вечеру из своих блочных пятиэтажек к какой-нибудь песочнице, сбивались в шумную хулиганистую ватагу и летели стремглав за городской Вал, где текла мутная речка Гзень, буквально на наших глазах превращаясь в открытую сточную канаву. Потом, разумеется, её взяли в трубы, но тогда… по её илистому руслу сползало к Волхову всё отжившее свой век и потому больше не нужное людям: старые стулья и скамьи, разбухшие ящики и коробки, щелястые корзины и кузова, порожние от кабеля катушки и невесть как угодившие в Гзень собачьи будки. О, если бы воля наших родителей, то мы наверняка бы увидели среди этих отбросов и присланных им из Москвы начальников! Но нас это тогда мало интересовало. Мы высматривали в мутных, неприятно пахнущих водных потоках так называемых «белых окуней», которых наловчились выуживать длинными сучковатыми палками. Именно так мы называли белые, идеально тянущиеся резиновые мешочки, которые наши осторожные отцы стыдливо покупали в городских аптеках по четыре копейки за пару. На витринах они значились презервативами подмосковного Бачковского завода и вполне надёжно помогали стараниям наших скудно живущих в «хрущобах» родителей уберечься от появления на свет нежданного пополнения. Весь улов мы неизменно складывали в баночки и несли к разложенному на берегу костру, где дожидался приготовленный заранее карбид – «ацетиленовый камень», вынесенный с ближайшей стройки. И вот когда на город опускалась темень, мы «кормили» выловленных «окуней» кусочками карбида, который затем заливали водой. Тут же начинался процесс бурного газоотделения, и далее оставалось лишь завязать раструб презерватива какой-либо подручной бечёвкой. Он очень быстро разбухал до размеров настоящего воздушного шара! Однако, жизнь последнего была недолгой… ибо всякий раз кто-то один из нас, осторожно двигаясь спиной, подносил раздутое, потерявшее цвет чудище к костру и круто выпускал его над пламенем. В тот же миг на наших глазах происходило нечто невероятное! Яркое белое пламя с реактивным свистом устремлялось круто ввысь, съедая всё на своём пути: комаров, мотыльков, порхающий над теплом костра пепел, поднятый с земли мусор и даже запущенных кем-то бумажных журавлей. Порой оно улетало так высоко, что, казалось, его видно из самого Дома Советов, откуда правил нами присланный из Центра «Хозяин». Но главное, вместе с этим белым пламенем улетали в родное ночное небо все докучные заботы и беды, заветные мечты и несбыточные надежды. Через секунду – другую над головой не было уже ничего, только небо и воздух, да, может, как надеялись мы, огни уходящего к Москве самолёта. Откуда ж нам, наивным, было знать, что уже тогда тот, кто летал в нём туда и обратно, смотрел вниз на зыбкое, быстро истаивающее зарево заштатного городишки с вполне сложившимся пренебрежением или не смотрел вовсе…
Заголовок этого эссе есть, очевидно, перелицованная на современный лад реплика эпизодического персонажа драмы Александра Островского «Гроза». Малограмотная жительница города Калинова (Костромы) пытается дать толкование некоторым историческим событиям и, так сказать, «ухватить» современную общественно-политическую атмосферу. Только, разумеется, поволжская мещанка говорит не «Москва», а «Литва», которая некогда в составе Польско-Литовского государства посягала на обладание Москвой и всей, по нынешним меркам, центральной Россией. Литва нынче, слава Богу, ушла в Евросоюз, а вот проблема Москвы, как это ни странно прозвучит, стала для центральной России куда острее «литовской». При этом совершенно непонятную жёсткость и ни чем не объяснимую скупость Москва проявляет в последние годы в отношение из без того «недокормленных» провинциальных культуры и литературы.
Ещё каких-нибудь пять лет назад посещение Костромской областной научной библиотеки становилось для многих, без преувеличения, маленьким праздником, поскольку здесь, в зале периодики, можно было провести и два, и пять часов, почти не замечая времени. В степенной тишине паркетных залов, под умиротворяющими картинами местных мастеров листать свежие номера «литературки», «комсомолки», «культуры», «новой», «МК», «АиФ», не говоря уже о всегда желанных и непредсказуемых «Огоньке», «Экране», «Искусстве кино»… Что может быть занятней для читающего, охочего до всего нового человека? А за так называемыми «толстыми» журналами можно было просидеть и сутки без продыху, ибо художественная реальность всегда нивелирует всякий счёт реального времени. Сегодня в зале периодики одиноко, как в гробу, потому как туда стало не зачем ходить. Уже несколько лет самой крупной библиотеке региона не отпускают средств на подписку. Само собой, по традиционным каналам новых книг библиотека тоже не получает. Остаются разве что добровольные пожертвования добрых людей вроде костромского губернатора. Парализована и издательская деятельность. Об остальном и говорить не хочется, поскольку всё сколько-нибудь необходимое местным науке и культуре зиждется на голом энтузиазме преданных своему делу библиотекарей. Минувшей осенью меня пригласили в дом-музей небольшого сельца, под город Буй, на очередной юбилей известной русской писательницы девятнадцатого века Юлии Жадовской, которой покровительствовали многие известные литераторы девятнадцатого века, включая Вяземского и Пушкина. Однако, за день до назначенного срока выяснилось, что поездка не состоится: нет исправного транспорта. До Буя всего сто километров, но и они оказались непреодолимой преградой для «колёсной мощи» местной Культуры. Попытался добраться до районного центра Буй на своей легковушке, но, слава Богу, догадался во время повернуть назад, рискуя уже на полдороге остаться без бамперов и колёс. Зато осмелюсь признаться, личная машина спасла нас с женой минувшим летом, когда мы рискнули отправиться в Карабиху – получать премию за успешное участие в Некрасовском конкурсе поэзии. Пора стояла чрезвычайно дождливая. Нет, и местные чиновники, и московские гости весьма уютно расположились под козырьком специальной эстрады, а вот участники конкурса, провинциальные поэты и любопытные зрители, – на скамьях под секущим дождём. Было не по-летнему холодно и сыро, а чиновники всё говорили и говорили: о заботе министерства культуры, о добропорядочных меценатах, достойных наследниках традиций Третьякова и Сытина, о самом Некрасове, которому здесь повезло родиться и вырасти настоящим русским патриотом, и, конечно, о том, что все мы должны быть благодарны местной власти за то, что она устроила нам такой замечательный праздник. И ни одного некрасовского стиха… Поэтому, не дождавшись завершения всего этого «чиновничьего безобразия», я потащил насквозь промокшую жену к оставленной чёрт те где машине, по дороге проклиная ненавидимых Некрасовым «полицмейстеров» за то, что даже в столь ненастный день приглашённым не разрешили припарковаться ближе к усадьбе. Согрелись мы только на полпути к дому, на узкой – в два ряда – трассе, которую исстари народ называет «дорогой смерти». И, признаться, есть за что, ибо почти каждый километр Костромского шоссе отмечен либо водительской баранкой, либо красной звёздочкой, либо православным крестом. И лишь тогда впервые за весь день «некрасовских торжеств» в сознании явственно, сами собой зазвучали памятные с детства строки:
Прямо дороженька – насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то всё косточки русские –
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?
Возможно, кто-то из москвичей, как это случалось не раз, саркастически заметит, что де такова русская провинция. Но, по большому счёту, причина не в провинциальной нерасторопности, а в полном отсутствии средств. Именно поэтому в кулуарах наших скромных литературных собраний всё чаще передаётся из уст в уста ставшая болью всей русской жизни присказка: «Случались времена и трудней, но подлее не было!». Иными словами, сегодня ни Распутина, ни Рубцова, ни Шукшина с Казаковым могло бы и не появиться. Ибо ухабистым до непроходимости стал путь от запущенной земли окраин до холёных улиц и площадей изысканного Центра с его многочисленными изданиями, издательствами и тучей образовавшихся окрест профильных фирм и компаний. И если литературная периодика, особенно почвеннической направленности, ещё хоть как-то, иногда, от случая к случаю, при определённых условиях – например, если написал заявление, что на гонорар не претендуешь, – идёт на контакты с «талантами из глубинки», то издательства и киностудии давно стали для потенциальных последователей Астафьева с Беловым неприступными бастионами. Минувшим летом пишущий эти строки предпринял нехитрый коммуникационный эксперимент, рассылая в течение целого месяца свои повести и романы с синопсисами возможных сценариев по киностудиям и режиссёрским центрам, государственным компаниям и частным фирмам. На два десятка щепетильно составленных предложений о сотрудничестве из Москвы и Петербурга не ответил никто. На единственное же письмо, посланное в Минск, уже через неделю пришёл обстоятельный ответ с «Беларусьфильма», в котором содержалось искреннее сожаление о невозможности работать по представленному, эстетически и этически вполне устроившему студию материалу, в связи с его «чрезвычайно российским звучанием». «Увы, – несколько виновато объяснялась редактор, – сегодня перед нашим руководством, как, вероятно, и перед Вашим, поставлены конкретные национальные ориентиры». Национальные ориентиры, подумал я. Везёт же людям! Конечно, ориентиры есть и у российских кинематографистов, только они банальны до неприличия. Нет, вероятно, весьма многочисленную армию обывателей вполне устраивает то однообразное «мыло», которое нынче транслируется десятком российских телеканалов. Но не помню ни одного просвещённого знакомца, вдруг назвавшего мне хоть какую-то из новинок отечественного кино, которая бы заставила его, как Фауста, воскликнуть: «Остановись, мгновенье!..». Более того, кроме явно перехваленных рекламодателями «Движения вверх» и «Льда», нет в нашем прокате нынче премьерной ленты, с которой хотелось бы «ещё раз уйти и не вернуться!» А в искусстве иначе и не бывает! Оно… хотя бы на время должно уносить в вечность. Но вечность у подавляющего большинства законодателей мод в нашем «ориентированном на национальные приоритеты» киноискусстве сегодня «в ориентирах не ходит». Хорошо помню, как некий едва встающий на крыло молодой актёр (в сущности, совсем ещё мальчик!) искренне признавался интервьюёру, что перво-наперво неплохо бы достроить загородный дом и поменять автомобиль… Видимо, денег студиям выделяют в самый аккурат, а потому пилить киношный бюджет, с учётом подмосковных домов и престижных машин, надо на как можно меньшее число занятых в проекте. Не потому ли и нет едва ли ни у одного современного телефильма (исключая экранизации, подобные «Тихому Дону» Сергея Урсуляка) сколько-нибудь приличного сценария? Но даже если он и наличествует изначально, то обычно исчезает постепенно, по ходу вовлечения во всё длящийся и длящийся (ради освоения максимальной массы дензнаков!) съёмочный процесс. Возьмите, к примеру, «Склифосовского», если и не блестящий, то поначалу вполне себе добротный телевизионный фильм. А вот дальше пошло – поехало. Одна сюжетная линия – в одну сторону, вторая – в другую, а третья – в никуда. И профессионал с хода заметит, что сценариев несколько, и режиссёр, перенапрягаясь и раздражаясь, усердствует свести их в один. Поэтому двоится и даже троится главный герой сериала, которого в новых сериях буквально осадили Танталовы муки испытаний. То… вдруг бомба в пациенте, то обвалившийся подъезд, то гибельная глыба над пациентом, то какие-то мутные соцработники, то безнадёжные поиски ребёнка в стылом лесу, а то и «американская кома» бывшей жены в то самое время, когда жене нынешней вот-вот рожать проблемно выношенного первенца… А рядом, как грибы после дождя, вырастают и вырастают всё новые сюжетные линии и норовят превратиться в главные. И это, заметьте, одна из самых удачных работ на нашем российском телевидении. Что уж тут говорить о сонмище почти ежедневных «стрелялок»! В этих априори никакой литературы не ночевало, всё снято буквально с колёс и сыграно, как в джазе, по ходу: режиссёр задаёт тему, актёры фантазируют сообразно своему таланту, а оператор снимает, благо нынче «цифра», и дорогой плёнки на дубли не требуется. И всё это, увы, имеет к искусству ровно такое же отношение, как меню арбатских кафе к трапезе «застарелого» московского бомжа. И как тут не вспомнить, что Москва, по свидетельствам целого ряда летописных источников, некогда была всего лишь «относительно небольшой деревней на юго-западе ростово-суздальской земли». И даже говорили в разных концах этой растущей, как на дрожжах, деревни по-разному, не до конца понимая друг друга. Так что, не с тех ли уже времён родилась популярная ныне мысль о соединяющей население «вертикали»? Да и откуда ещё? Ведь на столь обширных просторах, как российские, всему сколько-нибудь разумному способно развиваться только по горизонтали, то есть к окоёму – началу неба, до которого может объять земные вёрсты человечье око? (Заметим, что при образовании Новгорода или Петербурга действовал совсем другой механизм роста).