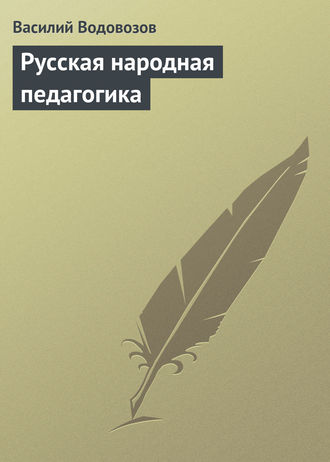
Василий Водовозов
Русская народная педагогика
В рассказе «Дедушка Назарыч», написанном прежде, заметнее преднамеренная идея автора. Здесь любопытна характеристика дедушки по формуляру: «Илья Назаров, сын Назаров, Костромской губернии, из помещичьих крестьян, отроду 18 лет, зачислен рядовым в Великолуцкий пехотный полк… ахти батюшки! Страшно сказать – в 1792 году! Холост, в штрафах не бывал; в сражениях против неприятеля… ай родимые! Целых три листа исписано: и против поляка, и против шведа, и против француза, турка, персиянина, египтянина – против всего, значит, света! Лучше бы штыком в плечо, саблей через лоб и по носу, а картечью только контужен. И все-таки видно не сконфужен! Еще что? Знаки отличия имеет: медали – за шведскую, французскую, турецкую, персидскую кампании; за взятие Парижа особенно; за помощь турецкому султану против египетского паши опять особенно; на владимирской ленте медаль «За спасение погибавших», опять-таки особенно. Кресты: св. Георгия, Кульмской и св. Анны за двадцать лет беспорочной службы. На левом рукаве мундира нашивки: три из желтой тесьмы, а три за вторительную службу – из чистого, отцы мои, золота! По вторительной же службе произведен в унтер-офицеры, и прибавлено в графе о науках: «читать умеет».
Вот этого-то дедушку, когда он от старости ослабел и негоден стал к службе, отпустили с богом на покой, и побрел он на родину, имея не более серебра в кармане, чем сколько пришпилено было к шинели на груди у него. Пришел он домой, но никто не признал его и не вспомнил. Один только нашелся дед слепой: «Помню, помню! – сказал он, – помню, как покойный Назар сына сдавал в рекруты; парнишко был из себя ничего, бравый!» – «Это я, земляк ты мой почтенный!» – сказал Назарыч, кинувшись к слепому. «Ничего, отец мой, не вижу! – отвечал слепой, – а коли ты, так стало-быть это ты сам и есть! Милости твоей просим!»
Какая же судьба постигла Назарыча? Все устроилось, как нельзя лучше. Помещик был человек добрый, немец его управитель тоже очень добрый человек; они определили Назарыча лесником, потому что он не хотел даром есть хлеба; в лесу он устроился домком, взял к себе нищую с ребенком; нищая оказалась тоже очень добрая женщина. Стал Назарыч тереть табак – производство, которым он приобрел себе славу еще в полку. Его приятель пономарь нарисовал ему вывеску, где очень искусно изобразил самого дедушку в облаках с макитрой в руке, а над головой надписано было золотой краской: «Приотменный табак». Вывеска стала привлекать проезжих: немец управитель с братом, оба страшные табачники, закупили у Назарыча весь запас, и старик скопил копейку. Но умерла его хозяйка; мальчик, сын ее, остался сиротою на его руках: дедушка добрым делом помог сиротству милого Васютки. Он спас от смерти одну поселянку, а мужа ее, который нечаянно затерял волостные деньги, избавил от плетей и ссылки, отдав все свои 300 рублей асс. скопленные долголетними трудами: и муж, и жена клялись любить и беречь его Васютку пуще родных детей. Назарыч был теперь вполне счастлив; к тому же помещик отдал ему в полное владение земельку, на которой он жил. «Как бы все так удавалось бедному, доброму человеку, хоть на старости лет!» – скажете вы. Что ж? Об этом приятно прочитать и в книге. Несмотря на всю эту идеальную обстановку, в которой даже пономарь является отличным знатоком искусства, рассказ веден с большим уменьем и естественностью. Сравнивая богатые палаты с хижиной дяди Назарыча, автор говорит: «Там гордый барин бросил вдруг тысячи: ешьте, веселитесь! И никто ему и спасибо не сказал, и не поморщился – бросил и забыл: пришлют, мол, с деревни, не столько еще! А здесь, экая невидаль: триста ассигнаций! Мало ль что – последние!.. Словом, господа, в нашей убогой лачуге, несмотря на всеобщую радость, важного виду никакого не было: тут не важный вид, а жизнь вседневная. То есть совсем простое, подходящее дело. Правда, что дело оно – хорошее!» Эта добрая мысль высказывается в целой повести.
Более твердою рукою очерчены солдатские характеры в рассказе «Сибирлетка», взятом из последней крымской войны. Раненых солдат привозят в немецкую колонию, и рассказ идет о том, как они в ней живут между добродушными немцами, нянча маленьких детей, беседуя за кружкой немецкого пива. Тут является Егор Лаврентьич, прямой и честный ефрейтор, который говорит о своих ранах: «Я ведь только по наружности ободран, то есть порвало некоторые жилы и часть мелких костей порасхрястало, а нутром – совсем здоров, ничего не попорчено». Его характер особенно хорошо выражается там, где он объясняет своему хозяину немцу, что такое значит «оказаться»: «Хороший и откровенный солдат, как только поступит куда-нибудь вновь, так сейчас же и «окажется», то есть окажет себя, какой он такой; не станет морочить людей да прикидываться простотой, а действует прямо, без хитрости; например: испивает он – ну, сейчас же, как поступил куда – возьмет, да и тринк! И тринкнет, выпьет то есть, порядком: знайте, мол, все – я пью». Но лучшим типом всей повести служит Облом Иванович, коренастый, крепкий солдат с безобразной наружностью, у которого брань не сходила с языка, но душа была добрейшая. Приведем рассказ его, составляющий чуть ли не лучшее место в книге: «Всяк бывало, сударь, разно оно было! А мое дело было плохо! Прибыли мы, рекрута, в роту; фельдфебель сделал смотр, взглянул на меня и говорит: «Вона какой еще! Экая дубина, это никак сам леший! Да ты, братец, говорит, просто облом!» А я сробел маленько да и говорю: «Облом, дядюшка; меня так и батька звал». – «Ну, Облом, так Облом! Будет, говорит, к дровам часовой, да приспособить его к швабре!» Меня и приспособили. А там пошло ученье – беда, братец ты мой: ломали с полгода, все брались: что взглянут, плюнут да и отойдут: «Сработал же тебя, мол, леший!» Вот и все. Скоро и год прошел, товарищи все уж по разрядам встали, а у нас все по-старому: капитан подойдет – тихим учебным шагом ма-а-арш! Экая дубина! Скорым шагом марш! Да где ж у тебя нога? – говорит. – Эй, фельдфебель! Поучи сам его, там, мол, знаешь, у плетня. Ну, поучимся, и плетень чуточку попортим, а ноги, сударь мой, не найдем: нет как нет ее бестианской. Приехал майор, посмотрел: «Это, говорит, что за пень? Ну-ко, ма-арш! Скажите мне, капитан, говорит, разве это нога? Разве это – так сказать – образование? Стыдно вам, говорит: погубите вы, сударь, и себя, и меня…» Капитан возьмет – покраснеет да мигнет фельдфебелю: опять к плетню меня, дружка сердечного. Хлоп! Сам полковник смотрит: на шаг, дистанции ма-арш!.. Пошли – и я, сударь, иду. «Стой, стой, стой! Провалитесь все вы, говорит, сквозь землю! Да где, говорит, я найду вам место? Куда, у него, говорит, носки смотрят: это что за разврат такой!» А у меня, вот у этой ноги – Облом Иваныч ударил по деревяшке – носок-покойник смотрел вот так: и он согнул ладонь кочергой да еще в сторону. «Пусть уж нет проноса, – кричит полковник, – пусть нет игры в носке, вольности в шагу – да кой чорт может быть игра, тут совсем ноги нет! Ах, вы, вы! Разумеете, говорит, кто вы?» Меня опять к плетню в гости! И разорили мы с фельдфебелем весь плетень – аж поросятам приятно: переправу открыли им без препятствия, а ноги так и не отыскали, сударь мой! Приехал же, о Господи! сам генерал – взглянул и весь почернел! «Как же вы мне смеете, говорит, представлять это? Я прибыл смотреть, то есть, образование, говорит, а вы мне суете бревно! Как же вы осмелились все – а?» И пошел, и пошел!.. «Спрятать его, подлеца, на кухню или в дрова, с вами я поступлю, говорит, по закону, а мне, говорит, дурно, я болен: солдат идет – и ноги нет! Прошу покорно! Погубите вы государеву армию!» – сказал генерал, а сам весь позеленел и уехал. Вот я с тех пор, аж до первого сражения с туркой, пятнадцать лет варил кашу, а последний раз сварил кашу, да и сам не ел; котла не выполоскал – тревога: таф, таф! Артиллерия, слышу, катает, душа не стерпела, я, сударь, ковш об землю да во фронт! А на мое место отыскался, вишь ты, гусь еще почище меня! Да видно напророчили мне – суди их бог, государь и военная коллегия – такую беду, что подслушал что ли француз мошенник, да ядром-то мне по ногам – фурр! На что-те, говорит, нога! Хорошо еще, что я маленько врозь их держал – уж так и родился раскорякой – вишь, одну отшибло, а то была бы мне нога, сударь мой!»







