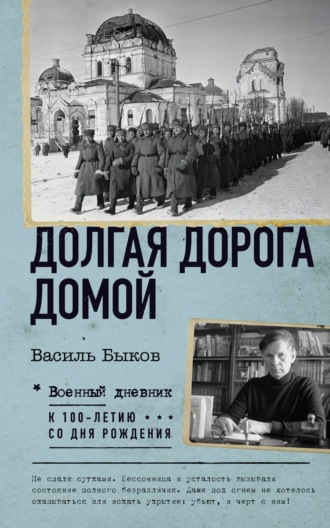
Василь Быков
Долгая дорога домой
Здесь, наверное, стоит вернуться назад и рассказать, как в начале весны возникло у нас «братание с немцами». Все было так, как написал я в «Проклятой высоте», хотя, может, немного и не так. Может, даже страшнее. Действительно, случилось это в роте автоматчиков. Той весной погода вдруг резко испортилась, налетела вьюга, намела целые сугробы снега. А потом внезапно – солнце, теплынь. Снег растаял, и весна вновь взяла свое. В ночь перед этим немцы выбили роту с высоты и укрепились на ней. А наши вместо того, чтобы сразу же атаковать и отбить высоту, решили замириться с немцами, немного отдохнуть, пока начальство далеко – штабы отстали. Инициативу проявил старшина роты. Наших и немцев разделяла небольшая речушка, за которой и была та самая высота. Старшина вышел на берег речушки и вызвал немецкого обер-лейтенанта. Заключили перемирие, наладили связь. К воде стали ходить и наши, и немцы – постирать портянки, обменять махорку на сигареты. Ну и поговорить. Словом – братание. Самое настоящее. И продолжалось оно два дня. Командира роты в эти дни не было, его замещал взводный, парень молодой и неопытный. Как все обнаружилось? Да очень просто. Когда раненых из этой роты отправляли в тыл, тамошний санинструктор, услышав их рассказы, и «стукнул». Начальство, естественно, взвилось…
Однажды ночью две моих сорокапятки нежданно перебрасывают на чужой участок. Удивляюсь, но молчу: чего в штабах ни придумают? До рассвета окопались, сидим. Пехота немного впереди и внизу. Там какое-то странное движение, легкий шум. Слышу краем уха, но не могу понять, в чем дело. А тут еще подтянули минометы, артиллерию. Я – на прямой наводке. Только рассвело, смотрю: немцы идут к речке. Идут с оружием, но совершенно открыто. Подходят к берегу, кричат: «Эй, Иван!» и еще что-то. А у нас все замерло. Ни звука. Постояли они, между собой поговорили и, видно, встревожились. Двое – бегом назад. Остальные тоже стали отходить от берега. Вот тогда-то наши и врезали. Сначала артиллерия дала жару, потом поднялся батальон и – через речку, на высоту. А немцы молчат. Вот и речка позади, и лужок. Дальше – размякший грунт на скате и очень крутое место с небольшими кустиками. Как только пехота до них дошла, немцы и ударили. Да так, что только несколько раненых выползло к речке.
Целый месяц высоту эту брали. А взять никак не могли. До 20 августа – начала Ясско-Кишиневской операции – она оставалась у немцев. А людей под нею сколько положили! Там я едва в плен не попал. Вместо меня угодил начальник штаба стрелкового батальона.
В Румынию вошли с боями. Но дальше движение ускорилось: противник не оказывал серьезного сопротивления. В одном селе солдаты выкатили на улицу бочку с вином, обступили ее с котелками, а пить боятся. Нам ведь все уши прожужжали перед наступлением: мол, вступаем в капиталистическую страну, возможны любые провокации. Еды у румын не брать, вина не пить – все отравлено. А бочка – вот она! Ребята кричат: «Фельдшера сюда!» Прибежал младший лейтенант Федорков (он позднее погиб в Венгрии). Все к нему: проверь! Может, яду подсыпали? Тот долго не раздумывал, зачерпнул котелком и глотнул как следует – порядок, дескать, не отравлено, давай до дна! Ну, до дна и выпили. Даже осталось чуток. Вылили на дорогу, чтоб врагу не досталось.
Румыны по приказу короля Михая (Сталин наградил его впоследствии орденом Победы) дружно капитулировали. Или просто разбегались по домам. У них было много лошадей, и мы нередко обменивали своих доходяг на румынских или немецких битюгов. Появились у нас даже запасные. Потому что на фронте лошадей погибало не меньше, чем людей, и артиллеристам всегда не хватало тягловой силы.
На войне почти все происходит неожиданно. Вдруг узнаём, что нашу дивизию, да и всю армию, снимают с фронта. Мы должны прибыть на какую-то тыловую станцию. Начинается погрузка в эшелоны. Вагонов мало, теплушки до отказа набиты пехотинцами, а артиллерия располагается на открытых платформах вместе с орудийными расчетами и командирами. Дождь и ветер прошибают насквозь. Защита от них все та же – палатки.
В пути я заболел. Получилось это очень некстати, ибо, по словам моего друга взводного Егорова, кто же болеет по дороге в тыл? Тем не менее – свалило. Сначала возобновилась малярия, которая трясла меня еще с приречных плавней, затем добавилось еще что-то. Лежать на платформе, под палаткой, стало просто невыносимо: почти непрерывно хлестал холодный осенний дождь. Меня перенесли в теплушку санчасти. Но и в ней было холодно. А доктора наши в войну научились, кажется, только резать, а как лечить обычные болезни, начисто забыли. Пробыл я в санитарной теплушке до самого Луцка, но не почувствовал себя лучше. Наши выгрузились в лесу и тотчас за дело – строить землянки, шалаши, оборудовать коновязи. А я совсем занемог. Снова доставили меня в санчасть, которая помещалась в заброшенном доме без окон и дверей. Лежу один на соломе, дрожу. Во всем теле жар. Таблетки, которые мне дают, не помогают. В какой-то момент понял: если я сейчас же не встану и не уйду отсюда, – загнусь. Я собрал всю свою волю, все оставшиеся силы и, хватаясь руками за хвою, кое-как добрел до своих ребят. Они дали мне полкружки самогону, от которого я сразу же уснул, а после – вообще оклемался.
На новом месте почти с первого дня начались занятия – полевые и строевые (а как же – железная традиция, перенятая у прусской армии), для командиров – совещания, для солдат – политподготовка (тоже традиция, только советская). Как-то вечером заходит в мой шалаш полковой смершевец, интересуется, сколько в последних боях было убитых, сколько раненых… Отвечаю. «А Мокиш, – спрашивает, – тоже убит?» – «Да, – говорю, – тоже. На Серете». – «Вы видели своими глазами?» – допытывается он. Тут я немного встревожился, потому что Мокиш во время бомбежки куда-то исчез – может, прямое попадание? Бой был очень напряженный, и никто не заметил, куда он делся. Чтобы не доставлять себе лишних хлопот, я, когда стали составлять донесение о безвозвратных потерях (т. е. о погибших) и раненых, внес Мокиша в число убитых. «Так вот, – говорит смершевец, – вы покрываете дезертира. Ваш Мокиш задержан комендантским патрулем в Бельцах. С какой целью вы фальсифицировали данные о нем?»
Вот беда! Лихо на нее и на этого Мокиша, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Да и я – ворона. Но кто ж мог подумать, что он драпанет домой?.. Пришлось писать докладные и объяснительные, оправдываться. Смершевец еще раза два приходил. Потом отстал.
Тем временем мы получили пополнение, и меня перевели из батареи в ПТО 2-го батальона. Командир батальона (вновь Смирнов, капитан, бывший школьный учитель), когда я пришел представляться, тотчас дал мне нагоняй за плохой порядок на коновязи, за нечищенных лошадей. (Боже, сколько крови попортили мне они! И в войну, и после нее. Забота о чистоте сбруи, бесконечные выводки – это были живучие рецидивы старой кавалерийской традиции, с которой никак не хотели расстаться и в новое время. Увы, каждая армия готовится к минувшей войне, а будущая приходит неожиданно.) Как бы там ни было, мой новый комбат был строг и требователен и сделал мне немало «втыков» уже в боях на венгерской земле. Но я на него не в обиде – многие из них заслужил.
Формировка, однако, довольно скоро кончилась. И мы подготовились к отъезду на фронт. Перед самой погрузкой пришлось стать свидетелями страшной сцены: на наших глазах расстреляли двух солдат, ограбивших недалекий хутор и убивших его хозяев. Их судил военный трибунал и приговорил к высшей мере. Утром на поляне полк построили буквой «П» и посередине выкопали яму. Осужденных без погон и поясных ремней поставили перед нею. Затем комендантский взвод дал залп, и оба они свалились в эту яму. Мы не смотрели, как их закапывали, но состояние духа было угнетенное. Конечно, все понимали: те двое получили, так сказать, по заслугам. Но сама эта казнь на виду у сотен людей глубоко покоробила нас. Именно с таким чувством полк отправился на станцию Луцк, где нам предстояло грузиться в эшелоны.
На этот раз теплушки были с печками и нарами. В отдельном вагоне – лошади (конский состав, согласно военной терминологии), среди них – четыре крупных немецких битюга моего взвода. Они без труда тянули орудия с передками. Но только шагом – рысью не умели. Кроме того, требовали слишком много корма. А сена не было, а овса не давали. Сколько ни обращайся к начальству, у него один ответ: достань! Достань и накорми! Понятно?.. Исполняйте! Мои солдаты и «исполняли». Где-то на станции нашли платформу со свеклой и накормили ею голодных битюгов. Через день одна кобыла сдохла. Что делать? Скоро выгрузка, а как везти пушку неполным «конским составом»? Дошло до начальства, до политаппарата. Те подняли шум: утрата боеспособности, виновного – к ответу. А виноват, без сомненья, командир, лейтенант Быков. Опять завели дело…
У меня в то время командиром орудия (того самого, что по-прежнему не имело прицела) был башкир, старший сержант Закиров, большой спец по лошадям. Он и говорит мне: «Не дрейфь, лейтенант, выгрузимся – коня добуду. Еще получше». И действительно, приводит. И не одного. Даже мне достал отличного рысака под седло. Жаль, вымахал тот слишком высоко. Влезть на него я мог только с забора или с пня – с земли нога не доставала стремени. Зато ехать на нем было одно удовольствие. Я испытал это на марше, когда мы двигались через Трансильванию, партизанскую Воеводину, догоняя 3-й Украинский фронт. В дальнейшем серьезных боев не было, немцы на тех рубежах оборонялись не очень упорно, и вскоре мы вошли в Венгрию.
Это была первая на нашем пути по-настоящему европейская страна, не разрушенная войной, с многочисленными остатками довоенного благосостояния и устойчивого быта. Поздней осенью, в дождь и слякоть, идем, бывало, через венгерские городки и селения и жадно смотрим на добротные, под черепицей, дома, на крепкие ворота, проволочные ограды. Белые стены красны от связок развешенного на них перца, знаменитой венгерской паприки… Население встречает нас доброжелательно, даже гостеприимно, хотя венгерская армия еще воюет против нас, разве что не с такой завзятостью, как немцы. В каждом доме белый хлеб, копченое мясо, колбаса, варенье. Фрукты и овощи тщательно переработаны, и все, что заготовлено для зимы, хранится в погребах. Мы в них, конечно, лезем. Погреб – надежное убежище во время боев и бомбежек. Ну и потом эти ряды банок и чудесное венгерское вино. Никак не хочется вылезать наверх – туда, где кровь и смерть. Благодаря обилию продуктов и вина войска наши перешли на самообеспечение. Варево, которое готовилось в полевых кухнях, просто не брали. Зачем? Движется, скажем, колонна через село, солдаты, как мыши, шмыг-шмыг по дворам. А когда догоняют строй, у каждого за пазухой – окорочок, в противогазной сумке – банки с вареньем, на штыке – буханка белого хлеба, а в руке – канистра или ведро вина. Командиры смотрели на это сквозь пальцы: перепадало и им. Все-таки Венгрия была союзницей Германии, и поэтому солдатам многое сходило с рук.
Перед самой зимой мы форсировали Дунай. Удалось это не сразу.
Трое суток шли безуспешные бои. Дунай там широкий, может, такой, как Волга. С одного берега еле виден другой. А ночью вообще ничего не увидишь. Все равно – форсируем. В темноте. Сначала артподготовка – довольно слабая, средствами штатной артиллерии. Только я пострелял немного на крайнем прицеле, бежит связной от комбата: «Прекратить огонь! Чем будешь стрелять на том берегу?» Дескать, если расстреляешь весь боезапас здесь, для того берега ни хрена не останется. Это верно. Решаю экономить. Через некоторое время прибегает начальник артиллерии: «Почему прекратили артподготовку? Немедленно – огонь!» Ну ясно: он отвечает за артиллерийское обеспечение, а тот берег его пока мало волнует. Так было две или три ночи. Постреляем немного, а потом передовые роты на плотах и лодках отплывают от берега, чтоб захватить плацдарм, и больше не возвращаются, разве что прибредет откуда-то снизу по течению случайно выплывший солдат и дрожа расскажет, как их встретили немцы.
Так продолжалось до того дня, пока на Дунае не появились наши бронекатера с танковыми башнями на палубах, из которых торчали орудия. На некоторых были установлены «катюши». Мы погрузились на эти катера и под их прикрытием высадились, наконец, на противоположном берегу. С него и начали наступать в направлении озера Балатон. И тут напряжение стало нарастать, ожесточенные бои шли днем и ночью.
Помню, когда комбат отдавал приказ, мы всегда интересовались, кто перед нами: немцы или венгры? Если венгры, то знали: они долго сопротивляться не будут, нажмем – отойдут. Другое дело – немцы, те сколько хотели, столько и удерживали позиции. Легко сбить их было невозможно. А погода стояла мерзкая – стужа, дождь со снегом, слякоть. Ну и местность… Сначала приходилось одолевать лесистые холмы, потом – болотистые поймы, мелиорационные каналы. Окапываться там было негде, поле боя простреливалось насквозь.
В этой обстановке я со своим взводом опять попал в труднейшее положение. Поздно вечером под проливным дождем батальон занял крупное венгерское село. Промокшие и вконец утомленные солдаты пошли греться к венграм, начальство – вслед за ними. Спать в наступлении вообще не удавалось. Если представлялась редкая возможность, то минуты для сна урывали кто где мог. Особенно если командиры хоть ненадолго куда-нибудь исчезали. Мы закатили орудия в первый попавшийся двор и, зайдя в дом, тотчас вповалку улеглись. Я, показалось мне, едва успел закрыть глаза, а проснувшись, вижу: светает. И слышу: за селом, в лесу, идет бой. Батальон, наверно, выдвинулся туда, а нас или не нашли, или в спешке просто забыли поднять. Ну, думаю, плохи мои дела… Потому что я со своими пушками должен быть там, в боевых порядках. А я проспал. И солдаты мои проспали. Мы мигом подхватились и рванули за пехотой, нахлестывая коней. Напрямик, через поле, под огнем. До леса – рысью. Командир батальона – ко мне, тычет пистолетом: за уклонение от боя. Показалось, он сейчас расстреляет меня: батальон залег, немцы бьют разрывными, их скорострельные МГ секут так, что головы не поднять. Но помалу остыл и приказывает: «Сбить пулеметы! Даю двадцать минут!» Мы устанавливаем пушки, и тут выясняется: нет снарядов. Чтобы они были всегда под руками, мы обычно выкладывали снаряды на станины. Но, когда гнали коней через поле, растеряли все до одного.
Пулеметы режут очередями – аж ветки сыпятся. Комбат кричит: «Быков, огонь!» А чем стрелять? Это было ужасно, и я хотел, чтоб меня поскорее убило. Но все же решил: надо действовать. И послал солдат с передком на поле, через которое мы мчались. Нашли они в чернобыльнике немного снарядов, привезли на позицию, и мы открыли огонь. Не знаю, много ли потеряли немцы от него, а вот они исколошматили нашу пехоту основательно. Под вечер сами отошли.
Как я уже говорил, вторая пушка во взводе была без прицела. А без него какая уж стрельба? Таким образом, кроме бесполезной сорокапятки, я имел небольшой резерв: шестеро солдат и пара лошадей. Держал их в тылу – что им делать на передовой? А из исправной пушки стреляли опытные хлопцы Синцов и Пронин, командир и хороший наводчик. Старший сержант Закиров, спец по лошадям, был у нас кем-то вроде интенданта. Пока мы, мерзнущие и голодные, сидим под огнем или таскаем с позиции на позицию свое единственное орудие, он в ближайшем селе разворачивается вовсю. А когда бой к вечеру утихает и чуть темнеет, смотрим, Закиров с солдатом ползут к нам, притаскивают в ведерке говядину или курятину, в вещмешке – хлеб, а в термосе или канистре – вино. Вот тогда и начинается у нас пир горой – между станинами, за орудийным щитом.
Мой рысак на другом берегу. Но хваткий Закиров и здесь расстарался – достал молодую кобылку, которая дважды спасла мне жизнь. Как-то раз, когда наступление несколько приостановилось, вызывает меня комбат. Еду. Вечер, туман, мелкий дождик сеется. Место незнакомое – мы только в конце дня оказались там. Но я почему-то считал, что КП совсем близко, где-то за пригорком. Вокруг тихо: никто не стреляет. Ехал я, ехал, а КП всё нет. Остановил кобылку. Вдруг слышу какие-то голоса, повернул на них – глядь, на краю виноградника кто-то землю роет. Подъехал поближе, прислушался – немцы! Повернул в другую сторону, пустил кобылку шагом и в конце концов увидел впереди дорогу. Присмотрелся: по ней едут немецкие машины…
Автомата у меня не было, только пистолет. ППШ с его неудобным круглым диском мне надоел еще в пехоте. Хотелось иметь оружие получше и полегче. Немецкий «шмайсер», к примеру. Да к нему нужны патроны, а их не всегда достанешь. Но в этом случае и ППШ бы пригодился: ведь я вместо командного пункта заехал прямо к немцам. Как тут быть? Чувствую, кобылка моя упрямо тянет куда-то в сторону, и я решил: может, сама вывезет?
Отпустил поводья, она и пошла. Резво так пошла. Через холмик перевалила, после – подлеском и – в лощинку. Смотрю: там пасутся кони нашего комендантского взвода. А неподалеку и КП, и командир батальона.
Во второй раз я тоже остался жив благодаря ей. Пехота наша взяла большое мадьярское село, может, даже городок. Мы спешим на окраину, где идет бой, а тут появляются два майора и командуют: «Срочно направо! Там танки! Надо остановить!» Скачу направо. А танки уже на улице. И на повороте (улица изгибалась буквой «Г») пулеметная очередь из танка стебанула по моей кобылке. Только клочья полетели и забрызгали меня кровью. Но, падая, она сбросила меня в огород. Когда через день солдаты сняли седло, оно во многих местах было пробито пулями. А я выполз через огород и был рад, что расчет с пушкой свернул на другую улицу и не поспел за мною… Больше на конях я не ездил. Наступление наше замедлилось, огонь противника стал плотнее, и передвигались мы теперь в основном по-пластунски. На полях, куда ни кинь, каналы, канавы, а бои жесточайшие, круглые сутки. В них выматывались так, что даже есть не хотелось: только бы упасть и полежать хоть немного. А как упадешь? Нужно окапываться. Но сделать этого нет никакой возможности: копнешь лопатой на штык – вода. Ложишься прямо в грязь и лежишь под огнем – нарываться на пулю никому ведь не хочется. Да тут еще непогодь сплошная – каждый день дождь, всё развезло. Да и холод пробирает. Разве что когда танки прут, горячо становится, прошибает пот.
В те дни ввалились мы как-то в барак, где жили батраки, работавшие в графском имении. Граф, понятно, сбежал, а эти мужики остались. Они, хорошо встретив нас, угощали вином, рассказывали о своей жизни. Наши внимательно слушали их, интересовались, сколько чего получали – денег, хлеба, вина. Ну, конечно, и те спросили: а как жизнь в ваших колхозах? И тогда кто-то из солдат, помолчав, начал брехать – и про деньги, и про хлеб. Старался, чтоб выходило побольше, чем у венгров. Остальные угрюмо молчали.
Помню, немцы контратаковали. Они вытеснили из фольварка, в котором мы находились, и пехоту, и нас. Но мои ребята сумели все-таки подбить один танк. Этот факт, как всегда в таких случаях, должен был письменно подтвердить командир стрелкового батальона. Вокруг по-прежнему рвались снаряды, шел бой, и я решил: доживем до вечера, тогда всё и оформим. Но под вечер налетели «мессершмитты» с включенными ревунами, стали пикировать, бомбить. И стрелки не выдержали. Мы драпанули вслед за ними вместе со своей сорокапяткой. Но вскоре уперлись в канал. Канал был не очень широкий, пехота довольно легко перебралась через него, заняла оборону на лесной опушке. А мы перебраться не смогли. Поставили орудие на бровку: лежим, ждем. Если танки двинут сюда – нам хана. Не двинули… Лишь один из них ударил болванкой в бровку, да так, что всего меня окатило грязью. Ночью танки куда-то исчезли. Пехота опять пересекла канал и вернулась на прежние позиции. Утром, получая от комбата очередную задачу, я между прочим сказал и о подбитом нами танке. Он рассмеялся: «Ха! Сегодня мне уже третий об этом докладывает. А я еще вчера своим минометчикам бумагу подписал». Во взводе остались недовольны мною – прозевал командир, награды другим достанутся, тем, у которых начальство половчее и поразворотливее. Что ж, правильно! Я понял: надо уметь не только подбивать танки, но и вовремя подписывать документы. Последнее, может быть, даже важнее. И не только на войне.
Тем временем погода резко изменилась – за ночь подморозило. Воспользовавшись этим, пехота все-таки отбила фольварк и продолжала движение по обе стороны проселка, обсаженного деревьями и кустами. Откуда ни возьмись, снова танки. Пулеметными очередями они заставили стрелков залечь прямо в поле. Надо было немедленно окапываться. Но как это сделаешь? Лопатки не берут мерзлую землю. Так и лежали под огнем, даже не стреляя. (Это в кино эффектно показывают, как солдаты с гранатами в руках ползут под танки, взрывают их. В действительности так не бывает.) В том бою, к примеру, танки приблизились метров на 400 и остановились. Цепь перед ними – как на ладони. Вот они и начали: снаряд за снарядом – чуть ни в каждого бойца. Выбивают батальон. Я приказал развернуть сорокапятку у обочины. Хоть мы и в боевых порядках стрелков, даже на полсотни метров впереди (просто не успели отойти вместе с пехотой), но стрелять все равно далековато. А надо! Из танков нас пока не видно: придорожные кусты маскируют. Мой наводчик открывает огонь. Я лежу немного в стороне от сорокапятки. Это нужно для того, чтобы лучше корректировать стрельбу. После каждого выстрела поднимается туча дыма, и тогда не разглядишь, куда попал снаряд. Со стороны видней. Смотрю, выстрел – и мимо. Еще один – тоже мимо. Третий… Попадание!
Бронебойный снаряд, трассу которого можно было проследить, ударился о броню и рикошетом ушел в небо. Ударить бы в борт или в гусеницу! Но дистанция почти полкилометра. Тут бы хоть в танк попасть! Не помню, сколько мы сделали выстрелов (где в такой горячке сосчитаешь), но нас заметили. Когда я в очередной раз махнул рукой, командуя «огонь!», неподалеку разорвался первый снаряд, выпущенный из танка. И мне в руку – осколок, узкий и острый. Он застрял между фалангами пальцев, полилась кровь. (Даже в санчасти врачу не удалось выдернуть его, это сделали лишь в госпитале.)
Я стал перевязывать рану и несколько ослабил внимание к танкам. А они между тем пришли в движение. Необходимо было довернуть орудие, нацелив его на танк, который нас обстрелял. Довернули. Но теперь стрелять мешал большой куст. Кто-то должен был его срубить, выдвинувшись на открытое место без всякого прикрытия. Кого послать? Решение нужно было принимать быстро, и я его принял. Оно, может быть, до сих пор на моей совести. Потому что послал я того, кто совершил проступок, из-за которого незадолго перед этим чуть не застрелил его. Ночью этот солдат то ли по небрежности, то ли из озорства пальнул в немецкую колонну и обнаружил нашу позицию, всех нас. К счастью, тогда все обошлось, немцев не привлек случайный выстрел. А ведь могло быть совсем иначе…
Словом, я без колебаний скомандовал: «Лазук (фамилия изменена) – вперед! Руби куст!» Он не сразу и не очень торопясь пополз за топором, а затем – к кусту. Едва сделал несколько ударов, лежа на боку, как разорвался еще один снаряд, и Лазук был убит. Немцы, видно, пристрелялись и следующий снаряд всадили под самый ствол.
Я уже путаю… Их было двое, молоденьких, очень похожих друг на друга, – Синцов и Пронин. Оба младшие сержанты. Забыл уже, кто командовал орудием, кто наводил. Наводчика сразу – насмерть, командира ранило в плечо и еще куда-то. Не задело лишь заряжающего. А сорокапятка наша перевернулась и свалилась в воронку. Все мы, раненые, поползли по канаве и, стараясь держаться за кустами, рванули к своему передку с лошадьми. А после – в тыл, в санчасть. На следующий день нас на машине отвезли в госпиталь в Сексарде, городок в 60 километрах от передовой, который мы брали месяц назад.
Госпиталь размещался в тамошней гостинице, в самом центре городка. Кажется, это было двух- или трехэтажное здание.
Номера, как обычно в таких гостиницах, – маленькие и тесные. Здесь снова, как и в первом моем госпитале, на каждой кровати лежало по два-три человека. И в солдатских палатах, и в офицерских. На этот раз моим напарником оказался командир стрелковой роты, раненный в лицо. На белый свет смотрел он только одним глазом, кормили его с ложечки, осторожно раздвигая губы.
Нужно сказать, что здесь было иное госпитальное житье, чем на Украине. Главное, что ноги у меня были целы, и я мог выходить в город. В городе привлекала интересная, непривычная для нас жизнь. По вечерам работал ресторанчик, где расторопные, цыганского вида официанты приносили вино – за деньги и просто так, за обещание заплатить завтра. Повсюду на стенах висели отпечатанные на розовой бумаге призывы вступать в венгерскую компартию. За городской окраиной, в виноградниках, можно было без труда найти винные погреба, которые, конечно же, разграбили освободители. Оттуда по канавам несколько дней текла драгоценная жидкость, похожая на кровь. Мы, ходячие раненые, наливали ее в бутылки и канистры, несли в госпиталь, чтобы угостить тех, кто не мог двигаться. Но у входа стоял замполит, отбирал у нас переполненные емкости и отправлял их в столовую, где за обедом давали по стакану. Норма была смешной, и мы всегда находили возможность многократно перекрывать ее.
Хорошо жилось в госпитале! Но, как всё хорошее, такая жизнь скоро кончилась. Под новый год немцы прорвали фронт, и их танковый авангард вышел на окраину города. Нас, ходячих, отправили пешком на переправу.
Была завируха, густыми хлопьями валил снег. Я вместе с двумя лейтенантами и госпитальной сестричкой Галей отмахали за ночь немало километров и оказались на берегу Дуная, в городке Байя. Но на переправу нас не пустил заградотряд. Прежде всего потому, что мы были без оружия. Тамошние начальники решили, что перед ними или дезертиры, или те, кто собирается сдаться в плен. А откуда могло быть оружие? Свой штатный ТТ я после ранения оставил в полку, а добытый в боях вальтер отобрали в госпитале – с пистолетом находиться в нем не положено. От ареста нас избавила Галя, объявив, что сопровождает раненых. А через Дунай мы переправились несколько ниже – перешли по льду, стараясь не попасть в открывшиеся полыньи. Мокрые и бесконечно уставшие, мы рухнули на кровать в каком-то доме и так втроем проспали до утра. Утром уже были в госпитале. Там из моей раны извлекли, наконец, осколок, но остался крохотный кусочек. Ношу его до сих пор. Как память.
В этом тыловом госпитале в Сегеде я пробыл недолго – выписался уже в конце месяца. На попутных машинах добрался до отдела кадров армии, где получил направление в армейскую противотанковую бригаду (ИПТАБР). Это было для меня чем-то вроде повышения. После моих сорокапяток 76-миллиметровые пушки, поступившие на вооружение бригады, показались мне исполинами, против которых не устоит никакая броня. В Дунапатай, где формировалась бригада, я шел с двумя лейтенантами – Ивановым и Рыжковым. Окончив училище до войны, они должны были служить в корпусной артиллерии и очень огорчались, что попали в противотанковую, где «ствол длинный, а жизнь короткая».
Но моих спутников послали туда после штурмового батальона, в котором они отвоевали свой срок, так как были окруженцами и до освобождения кантовались в Одессе. Топая со мной, лейтенанты угрюмо молчали, а я радовался, потому что вырвался, наконец, из мученицы-пехоты.
В феврале наш полк (ИПТАП) своим ходом выехал на фронт и занял позиции позади стрелковых частей. То был противотанковый оборонительный район (ПТОР), находившийся на направлении вероятного прорыва немецких танков. Эту вероятность кто-то определил с дьявольской точностью, ибо вскоре немцы действительно нанесли удар и разгромили нас за одно утро. От полка ничего не осталось: ни пушек, ни тягачей-«студебекеров». За три месяца до окончания войны противник сумел собрать мощный бронированный кулак. Каким образом даже в то время у него еще было так много танков, можно прочесть в недавно переведенной книге воспоминаний Альберта Шпеера, рейхсминистра, занимавшегося в гитлеровской Германии вооружениями. В ней он рассказывает, как перестраивал немецкую промышленность на военный лад, в том числе на выпуск танков, самолетов, других видов техники и вооружения, в которых вермахт не испытывал недостатка вплоть до последних дней войны.
Что касается обстановки, сложившейся в Венгрии, то немцы всю зиму громили там два Украинских фронта – Малиновского и Толбухина. О поражениях и потерях, которые понесли они, в Союзе никто не знал, их замалчивали в сводках и в средствах массовой информации. Только из опубликованных впоследствии мемуаров маршала Малиновского стало известно, в каком катастрофическом положении очутились наши войска в Венгрии. Немцы разгромили несколько армий (особенно досталось 3-му Украинскому фронту маршала Толбухина), вышли к Дунаю. Судя по всему, Сталин не знал, как изменить создавшееся положение, и, по свидетельству Малиновского, дал право ему и Толбухину решить самим: оставлять ли фронт (точнее – оба фронта) на правом берегу или отвести на левый. В последнем случае возникала необходимость переправить огромное количество войск, техники, тыловых частей и подразделений. А воспользоваться для этого можно было лишь двумя понтонными переправами. И все-таки оба командующих приняли решение отводить фронты за Дунай, чтобы сохранить значительную часть живой силы и техники. Но в это время на Дунае пошел лед и снес обе переправы. Таким образом, войска должны были спасать самих себя. Много там полегло народу… Среди других погибла и почти вся моя прежняя дивизия. На встречах фронтовиков я всякий раз допытывался: есть ли кто-нибудь из 924-го полка? Из рот и батарей – никого. Только несколько тыловиков, военврач, да те, кто, как я, выбыл в декабре по ранению.
Воюя в истребительном противотанковом полку, я скоро узнал, что наши 76-миллиметровые пушки не очень пригодны для борьбы с танками. Назначение у этих орудий другое. Их просто использовали в ИПТАПах, ибо других не было. Дистанция прямого выстрела у 76-миллиметровки невелика, как и пробивная сила снаряда. А прицел даже хуже, чем у сорокапятки. Вообще разговор о качестве оружия возникал среди фронтовиков довольно часто – и в госпиталях, и в минуты недолгого затишья. Злободневная тема! Все сводилось к одному: какая дрянь наши автоматы, пулеметы, орудия и танки. Но на политзанятиях сказать об этом не решался никто. Так как во всех газетах можно было прочесть: наше оружие, наша техника лучше немецких. У них там все искусственное, сплошные эрзацы – и хлеб, и мыло, и кофе. Да еще войска снабжают невыносимо вонючим порошком – дустом, которым пересыпают всё в блиндажах. Выходило, что куда удобнее по нашему примеру жарить вшей в бочках, чем пользоваться им. Иногда нам читали приказы, в которых объявлялись приговоры офицерам, позволившим себе похвалить немецкое оружие, тем более – тактику. Ибо она, как не раз слышали мы, была у нас тоже лучшей. Только некоторые при этом криво усмехались, но помалкивали.







