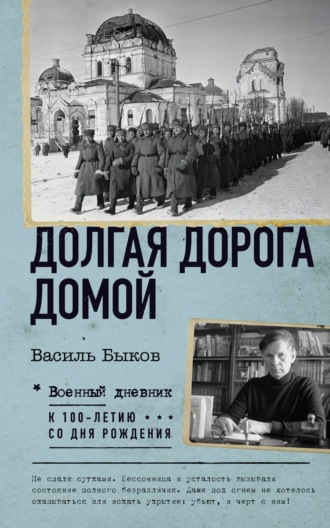
Василь Быков
Долгая дорога домой
Во втором классе я учился уже в другой деревне – в Двор-Слободке. Тамошняя школа была получше, в былой господской усадьбе. Под школу отвели половину господского дома с верандой, кафельной грубкой и большими окнами. Учил нас молодой учитель Степан Григорьевич Троцкий, а также его коллега Кротенок. Первый теперь на пенсии, долго работал в Браслове. Тогда, в Двор-Слободке, он был веселый человек, не злой, мы его любили.
Он преподавал, кажется, одну зиму. Затем явился другой – Сергей Степанович Новиков, уроженец нашей деревни. Этот был противоположность прежнему: довольно суровый человек, партиец, он организовывал колхозы в нашей округе, в годы войны погиб в партизанах, во время знаменитого разгрома партизан Витебщины, названного потом «героическим прорывом». У него была своя, партийная система преподавания: очень он напирал не на язык или арифметику, а на обществоведение, а также на историю. В комнате, в которой мы учились, было сразу два класса – младший сидел на одном ряду парт, старший – на соседнем. Если в одном классе шел устный урок, то в другом – письменный, самостоятельный. И бывало так, что я свои задачки быстренько решу и сижу, слушаю, о чем идет речь в старшем классе. И не раз бывало, когда там никто не мог ответить на какой-то вопрос учителя (один, помню, был о Парижской коммуне), я подымал руку, и Сергей Степанович меня вызывал, а потом стыдил старшеклассников, что они не знают. Вот так я поактивничал несколько раз, и учитель говорит: «Нечего тебе там сидеть, перебирайся сюда». Посреди учебного года он перевел меня в четвертый класс. Но это не пошло мне на пользу. Потому что окончил я четыре класса в десять лет, а что дальше? Средняя школа в Кубличах, за три километра, вот отец и говорит: «Куда тебе, малявке, так далеко ходить? Ступай снова в Слободку». И пошел я снова в четвертый класс, лишь бы учиться. Вот и вышло, что в третьем классе я проучился полгода, а в четвертом – два года. Позже стал ходить в Кубличи, в тамошней средней школе учились хлопцы и девчата всей округи.
Когда замерзало болото, в школу ходили напрямки – через олешник, пригорок и дальше болотом. На болоте надо было обойти островок олешника на трясине, заросший осокой, перебраться через заросшую аиром речушку и вскарабкаться на довольно крутой склон перед Кубличами. Путь был нелегкий, но интересный: на болоте попадались зайцы, можно было вспугнуть в осоке куропаток. Однажды в зимних сумерках мне повстречался волк, какое-то время мы с ним шли в одном направлении, я – по тропинке, а он – поодаль, по целине. Потом разошлись – каждый своей дорогой.
На болоте вблизи школы разлеглось небольшое озерцо, недоступное летом, зато захватывающе интересное осенью, когда покрывалось тонким прозрачным льдом. Ранним утром на нем можно было поскользить, исследовать илистое дно – глубина была небольшая. На дне, едва шевеля плавниками, дремали язи и щуки. Стоило тихонько продолбить маленькую лунку и направить на рыбину сделанную из толстой проволоки острогу, как язь или щука становились твоей волнующей добычей. Этим обычно занимались хлопцы постарше, ребятишкам разрешалось только смотреть.
Лето, летушко, летейко…
Его ждали, о нем мечтали, грезили. А оно все медлило, весна продолжалась. Весна тоже неплохо, но ведь – школа! Испытания – экзамены – каждый год, за каждый класс. А еще – бесхлебица, щавель да крапива. Травица, от которой больно во рту.
Но вот наконец школа позади, учебники – на полку. Лес уже нарядился в листву, вокруг зелено. В школу ходить не надо, но плохо то, что вне школы нет книг, нечего читать. Зато – воля. И – озеро. Снаряжаем удочки. Крючки раздобыли загодя, у некоторых есть ушко, а то теперь в магазине крючок с ушком не купишь – все только с плоскими кончиками. А такой крючок плохо держится на узелке самодельной «лески», плетенной из волосьев, выдернутых из хвоста белой кобылы. К сожалению, в колхозе только одна кобыла белая. Бригадир ругается. Хотя бригадир, Антон Стриженок, вовсе не злой дядька и бранит нас беззлобно.
На рыбалку я встаю на заре и сразу – на озеро. Конечно же, на Беляковское, как мы его называем. Чтобы не идти через Савчёнки, в которых мальчишки драчливые (могут поколотить), взбираюсь на горку возле Савчёнок-горних, оттуда по тропке через олешник к озеру. Червяки тут же, на берегу. Наступает великое бдение – кроме меня и поплавка ничего больше не существует. Первая поклевка, круги на воде. Но поклевка – еще не рыбина. Клев очень осторожный, пугливый. Солнце выкатывается над лесом, припекает плечи через рубашку, а у меня всего две плотвички. К обеду – штуки четыре. Меняю место, хожу туда-сюда по берегу. Рыбных мест тут, однако, не много – сплошь камыши, кувшинки. Беда, если оборвется крючок. Бывает, что он последний.
К полудню на берегу появляются какие-то люди из соседней деревни. Издали слышу разговор: «Кто это там удит?» – «Да Ладимера хлопец, из Бычков». Значит, знают меня. А я не знаю, хорошо это или плохо? Может, лучше бы не знали, потому что, говорят, удить рыбу запрещено, ловить ее могут только государственные рыбаки. Я же – негосударственный.
Штаны у меня намокли выше колен, и я выхожу из воды, закатываю мокрые штанины. Хочется есть. Улов мой – пять плотвичек и окунек. Отнесу маме, пусть зажарит.
Хорошо на озере, но завтра – на пастбище. Подошла моя очередь.
Пасти коров – самая постылая моя обязанность. А очередь подходит через каждые семь дней. Деревня небольшая, коров мало.
Обязанность эта донимает из года в год – с весны до поздней осени. Правда, во время школьных занятий только после уроков, летом же – весь день. От зари до зари. Очень не хотелось вставать на рассвете, мама будила меня по нескольку раз. Наконец вылезал из сена в повети, сонный, выгонял нашу коровенку. Это была рябенькая, черно-белая коровенка, глаза ее окаймлялись кругами, как будто она в очках, в окулярах, – мы и звали ее Окуляркой. Она кормила семью лет десять. Окончила свой век во время войны, если не забрали ее на прокорм партизаны…
Пасти скот было негде – вся земля была под посевами. Оставались кустарники, овражки, перелески. Приходилось все время быть на ногах, бегать и бегать за коровами, чтобы не разбрелись. Чуть полегче было, когда начиналась косовица и жатва – коровы паслись на стерне. Коровам что, а моим ногам доставалось – они были исколоты, изранены. По утрам (под осень особенно) донимали росы – студеные, едкие. От них на голенях появлялись болячки. Долго не заживали.
Летом скот в полдень гоняли на дойку. Это давало часа три передышки от полевого зноя. А затем – опять в поле, до захода солнца.
Родители в страду – оба в поле. Косьба, сушка, перевозка сена. Затем – жатва. Жали в основном серпами. Белые платочки баб – по всему полю. Снопы ставили в бабки, так досыхало жито. Возить сено на возах поручали парням постарше – это было интересно. Особенно сидеть высоко и смотреть на округу. Но дороги!.. Однажды и я поуправлял возом. Да на повороте с дороги на сельскую улицу круто повернул коня, и воз опрокинулся. Я очень испугался. Бригадир, правда, меня не бранил, только воз с сеном мне больше не поручал.
Летом – после пятого класса – я пас лошадей. Пасли вдвоем с Илюхой, моим двоюродным братом, – мы днем, а его отец, мой дядя Степан, ночью. Опять приходилось рано вставать и гнать лошадей на далекое поле – за Гаи или в Мамоны, где по ночам паслись колхозные кони. Лошади, конечно, не коровы – спокойнее, да и стреножены, однако каждая со своим норовом. Разбредутся – поищешь!.. А то, случалось, заедут на посевы, наделают потравы. Потрава – это хуже всего, бригадир грозит штрафом, который взыщут с отца. Так что следи за конями! Но днем, когда пригреет солнце, можно посидеть в тенечке и почитать книжку. На полдник ездим с Илюхой по очереди, верхом на какой-нибудь молодой лошадке. Утром лошадей разбирают колхозники – в плуг, в борону, телегу тащить или воз с сеном. Кони худые, потому что пастбище скудное, за ночь не наешься. Мужчины курят и бранятся. Дядька Степка выговаривает мне, что опоздал на смену – пока я разыскал его в кустарниках, солнце уже поднялось довольно высоко…
После седьмого класса сторожил сад в Островщине.
Островщина – некогда помещичий фольварк – деревушка из шести дворов. (Позже эти шесть хаток перевезли в Бычки, и Островщины не стало.) Сад там был большой, старый – груши, яблони, вишни. Мне дали ружье без патронов, и я ходил вокруг сада и по саду – сторожил. Вокруг тихо, никого нет, и я забираюсь в укромное местечко под кленом, где соорудил потом шалашик, и – читаю. В полдень, когда колхозники шли на обед, кто-нибудь из них забегал в сад поживиться яблоками. А я на то и сторож, чтобы не давать их срывать. А как не дашь? говорил: «Не рви, дядька, а то заявлю в контору!» А он отвечает: «Ну, если заявишь, то непременно нарву!» И рвал. Что мне было делать? Заявишь не заявишь – все равно яблокам не сдобровать. А иной обещал снять с меня штаны и обстрекать крапивой. Отвратное было дело – сторожить сад. Еле дождался конца лета.
Дома у нас тоже был сад – садочек, как мы его называли. Садочек я любил – и весенний, когда он был в цвету, и осенний, когда созревали яблоки и груши. Особенно восхищали груши – огромные фунтовки и спасовки (спасовки созревали аккурат к Спасу). Еще до того я примечал в кроне самую крупную, блестевшую на солнце синей кожурой, и, как только созреет, взбирался за ней на дерево. Вкусные были груши! Из яблок самыми вкусными были апорты (только одна яблоня была этого сорта), но апорты и прочие сорта созревали поздно. А самыми поздними были плоды одинокой дички, которая росла в уголке садочка. (Говорили, дичку эту посадил мой дед, хотел прищепить к ней какой-то сорт, да смерть помешала, дичка так и осталась без привоя.) Каждый год она была усыпана меленькими, очень кислыми яблочками. Поздней осенью мы их снимали и ссыпали на чердаке, зимой их прихватывало морозом, и подмороженные они давали обильный сок. Мы добавляли в него соду, и получался чудесный шипучий напиток, который любила мама. Та яблонька, кажется, и ныне одиноко стоит на месте былого садочка – старенькая, скрюченная, изувеченная временем. Но все еще родит, все еще дает горстку памятных мне крохотных яблочек. Остальных деревьев давно уже нет.
Без хозяев сад живет недолго.
…В одну из зим – посреди учебного года – я заболел.
Конечно же – простуда. Ноги в дырявых ботинках постоянно мокрые, на плечах поверх нижней рубашки домотканая свитка, которая тепла не держит. Пока добежишь до Кублич – околеешь. Но и в школе не очень согреешься, в классах холодновато.
Сильно кашлял, особенно по ночам. Отец мне выговаривал: «Сказано было, не бегай никуда, сиди дома! Так нет же, тебе надо на лёд, снежками забавляться с мальчишками. Теперь кашляй!»
Я совсем расхворался, неделю не вставал с постели, и отец привез из Кублич фельдшера Дашкевича. Тот прослушал мою грудь стетоскопом, велел лежать, во двор не выходить. Пролежал я не меньше месяца. Ничего не болело, но кашель был жуткий, в груди хрипело. И совсем не хотелось есть. Да и нечего было есть – как раз в ту зиму не стало припасов, обезмолочилась корова. Ни молока в доме, ни мяса. Только бульба да капуста. Помню, подслушал утром разговор отца с матерью: «Надо, видно, зарезать овечку, иначе Васька не поправится, не ест ничего». Я испугался, потому что любил ту овечку (да и было их всего две), и говорю: «Не надо резать, я и так поправлюсь».
Овечку не зарезали, но выздоравливал Васька очень медленно, еле-еле. Мама плакала, она ведь уже похоронила три года назад старшую дочку, Антонину, которая умерла от такой же, как у меня, простуды. Помню, как лежала шестнадцатилетняя девушка на столе, в подвенечном платье (в этом платье когда-то венчалась мама), и меня очень удивлял этот наряд. Все плакали. А я не плакал – был маленький и не понимал, что такое смерть.
Настоящий праздник воцарялся в школе, когда вдруг объявляли, что после третьего урока будут показывать кино.
К сожалению, случалось это редко, может раз за всю четверть, для всех классов. Как муравьи, веселые и дурашливые, мы высыпали во двор, строились в колонну и во главе с учителями радостно топали в ДСК (Дом социалистической культуры), усаживались на скамейки и нетерпеливо ожидали, когда застрекочет проектор. Какой фильм покажут, было известно заранее (разумеется, почти все фильмы были про войну). Кино еще было преимущественно «немое», речь заменяли титры, которых в немых фильмах было очень много, и надо было успевать схватывать титры и одновременно следить за событиями. Нравились все фильмы, «плохих» тогда не было. По дороге домой обсуждали фильм, спорили. Ночью какие-то эпизоды снились – кино продолжалось и во сне.
Я как раз болел, когда показывали картину «Чапаев», и ее пропустил, о чем жалел много лет, – это была, пожалуй, самая большая обида, которую я пережил в школьное годы. Но кто виноват? Просто не суждено мне было тогда увидеть «Чапаева»…
Изредка, насколько помню, еще до колхозов, кино показывали в деревне, в чьей-либо хате. На простенок между окнами вешали белое рядно, ставили лавки посреди хаты. Позади их устанавливали проектор с двумя колесами, прилаживали к последней лавке динамо, ручку которого по очереди крутили молодые хлопцы. Малышня усаживалась вплотную к экрану и впивалась в него глазенками. Лента часто рвалась, киномеханики ковырялись в проекторе, отрезали от ленты куски, затем склеивали их, отдельные обрезки бросали на пол, и детвора тотчас их расхватывала. Потом мы рассматривали эти кусочки ленты на свету, что было не менее интересным, чем целый фильм.
В пятом классе – поздней осенью – ездил в Ушачи на слет учеников-ударников. Ехали втроем – я и еще двое учеников, в сопровождении учителя Жирнова. Ехали на телеге. Было холодно, я весь продрог в своей свитке (не от того ли потом и заболел?). Учитель смотрел на меня с жалостью, утешал: «Я тоже когда-то ехал в город в такой же свитке». В Ушачах нас премировали – Меира Свердлова фотоаппаратом, а меня и еще одного мальчика – цветными карандашами в красивом пенале.
Это было первое мое путешествие за пределы деревни и Кублич. Второе состоялось летом – в пионерский лагерь в Стайках (это под Лепелем). Лагерь размещался в сельской школе. Мне сказали еще весной, что поеду в лагерь, и я с нетерпением ждал целый месяц. Из Кубличской школы в лагерь отобрали шесть учеников, среди которых был и мой знакомец, старшеклассник Меир Свердлов. До Ушачей нас везли на подводе, а оттуда до Лепеля на грузовике, в кузове. Дорога была очень красивая – лес, озера. И теплый ветер в лицо.
Лагерь не очень понравился – строгая дисциплина, линейки, физзарядки. Книг в лагере хватало, но читать их было некогда: сплошные мероприятия. Зато кормили хорошо. После сельской голодухи мы, деревенские, даже кашу ели с хлебом, над чем посмеивались «городские». И мне было стыдно.
Почему-то не запомнилось ничего радостного, связанного с лагерем, о котором я так мечтал. Разве что дорога туда. А обратной дороги не помню.
Постоянной тяжелой проблемой родителей (да и нашей, детей) были одежда и обувь. Особенно обувь. Зимой, бывало, ранним утром слышу сквозь сон, как отец возится с моими ботинками – зашивает, подбивает. Ремонтирует. Когда ботинки уже не поддавались ремонту, я надевал деревянные колодки или драные опорки, чего отец очень стыдился. Но другой обуви не было. То же и с одеждой. Сшить новую рубашку или штаны было не из чего – в магазине не купишь, нету, и своего домотканого полотна тоже нету, не из чего его соткать – весь лён забирало государство. Помню, как-то под осень мама сшила мне новую верхнюю рубашку из двух белых (в крапинку) женских головных платков с бахромой по краям. Бахрому она отрезала, но в одном месте полоска ее осталась и вылезла из-под шва, что заставляло меня мучительно конфузиться.
В седьмом классе мама справила мне пиджак, который пошила ее подруга из Кублич – Рива (Ривочка). Но сперва надо было остричь овец, расчесать шерсть (чесали в Кубличах мы с мамой, я крутил чесальную машину). Затем мама пряла, затем красила нитки, затем ткала сукно – кросны (ткацкий станок) у нас были свои, но давно уже стояли без дела у стены. В том пиджачке я ходил в школу два года, фотографировался в нем на паспорт. И снял только тогда, когда он стал совсем драным – прежде всего на локтях…
…Наш класс приняли в пионеры, вручили нам красные галстуки с красивыми металлическими застежками, которые очень нам нравились. Больше, чем галстуки. Но бабы в деревне над нами посмеивались, а некоторые и бранились: безбожники! Поэтому мы по дороге в школу, в Кубличи, прятали галстуки в карманах и надевали только у самой школы. После занятий тотчас снимали.
В Кубличах, как в каждом белорусском местечке, было много еврейских детей. В нашем классе половина учеников были евреи. Я дружил с братьями Свердловыми – Меиром и Лейбой. Меир был старше меня, опережал на два класса, а с Лейбой мы были одноклассники. Погиб мой Лейба-Лёва в 41-м году, расстрелян вместе со всеми кубличскими евреями в Ушачах, а Меир жил в Москве, работал в каком-то закрытом «ящике», на секретном производстве. Как-то он приезжал в Минск, и мы вместе съездили в местечко нашего детства, где и следа не осталось от хаты Свердловых. Вообще, почти ничего не осталось от прежних Кубличей – всё разбомбили, сожгли, уничтожили во время войны. А когда-то это было славное старинное местечко, обозначенное на географических картах еще в XVI веке, со старинной православной церковью (бывшей униатской), – в этой церкви меня крестили, в ней принял первое причастие. В Кубличах родился Верига-Даревский, известный литератор, участник восстания Кастуся Калиновского. Школа в Кубличах была с незапамятных времен, была синагога, аптека, кузница и даже пожарная каланча рядом с церковью. Главное место, однако, занимало примыкавшее к ярмарочной площади кирпичное здание пограничной комендатуры. Со временем его огородили высоким дощатым забором, вкопали на изгибе, в углу забора, деревянный столб, который служил турелью ручного пулемета. В 30-е годы была построена новая неплохая школа, но тогда же сорвали кресты с церковных куполов, чтобы их нельзя было разглядеть с сопредельной стороны границы – а как же! Ведь кресты – это ориентиры для «мировой буржуазии», которой неймется разрушить Кубличи. Но разрушать их стали сами. Все церковное имущество конфисковали или попросту разграбили воинствующие атеисты, которыми обязаны были быть все пионеры, комсомольцы, учителя, партийцы и беспартийные активисты. И мы – активисты-пионеры – таскали из церкви и рвали в клочки старинные фолианты, мастерили из церковных рукописных пергаментов воздушных змеев, запускали их в небо в ветреные дни. А районный быткомбинат пошил из церковных риз тюбетейки, в которых не один год ходили летом наши хлопцы.
В первый год войны все еврейское население оккупанты согнали в Ушачи и расстреляли возле кладбища. Перед самым освобождением Кубличи беспощадно разбомбили и сожгли. Теперь это захудалая деревня с несколькими зданиями из силикатного кирпича, которые стоят при въезде в деревню.
Как это забыть? Христианские традиции искоренялись, церкви и костелы были закрыты, священников сажали в тюрьмы. Но неискоренимыми оказались старинные праздники и обряды – Коляды, Деды, Купалье. Особенно любили Купалье. В ночь на 7 июля сельская молодежь, а молодежи тогда было куда больше, чем теперь, зажигала костер – огненный круг. Или зажигали смолистый корч, который привязывали к длинной жерди и втыкали ее в землю на пригорке за хатой Головачей. И тут же разбегались кто куда: из Кублич, увидев огонь, скакал конный пограничный наряд. Пограничники опрокидывали жердь, гасили факел, ругались – зажигать огонь в Купальскую ночь запрещалось. На вопрос – почему, следовал лаконичный ответ – потому!..
За лесом (зарослями кустарника) находилось местечко Селищи, католический центр региона с большим костелом и монастырем; крыша монастыря была из белой блестящей жести, – эта крыша была видна аж с нашего поля. На селищанском католическом кладбище стояли очень красивые мраморные памятники с латинскими буквами, шумели сосны. Посреди кладбища стояло белое мраморное изваяние девушки в образе ангела, скорбящего над могилой. Мы, дети, почему-то очень этого памятника боялись. Ныне Селищи тоже превратились в захудалую деревню с разрушенным костелом и заброшенным кладбищем.
До войны Кубличи были центром сельсовета, а Ушачи – района. Но для меня это был настоящий город, далекий и заманчивый – там клуб, столовые и даже книжная лавка. В лавке висела известная картина Зайцева, репродукция, разумеется, – «Чапаев на коне». Герой был изображен в бурке, с блестящей саблей в опущенной руке. Небо и облака на картине были как настоящие (тогда умели так писать). Изредка бывая в Ушачах, я всякий раз заходил в книжную лавку полюбоваться Чапаевым.
Кубличи!.. как я уже говорил, там была новая, из тёса, школа со светлыми классами и спортивной площадкой во дворе.
И учителя были новые. Русский язык и литературу преподавала Клавдия Яковлевна Патута, молоденькая девушка, только-только окончившая Полоцкий педтехникум. Мы любили ее просто за молодость, хотя и учительница она была неплохая. И все же белорусским детям русский язык давался с трудом, особенно диктанты и сочинения. Но я в ту пору пристрастился к чтению, причем мне было все равно, на каком языке книжка – на белорусском или русском, поэтому на уроках по русскому особых проблем у меня не было.
Белорусский язык преподавал Андрей Демьянович Курченко – мрачноватый человек, учитель довольно суровый.
Свой предмет он знал превосходно, и, поскольку был строг, мы учили белорусский основательно. Правда, мне он давался легко. Однако к урокам я готовился усердно, тоже побаивался Андрея Демьяновича, хотя вызывал он меня редко и никогда не давал ответить до конца. Только начну, как он говорит: «Садись!» И ставил пять. (Или – отлично? Я уже забыл, как тогда именовались оценки, система образования у нас перманентно меняется.) Как бы там ни было, белорусскую грамматику («наркомовку», конечно) я усвоил надолго и, кажется, только теперь начинаю ее забывать. Кроме Клавдии Яковлевны и Курченко, запомнились преподаватель физики Красинцев и учитель истории (он же преподавал географию) Жирнов. Оба славные были учителя, светлая им память.
Увлечение чтением стало для меня в те годы главным. Но где брать книги? Разумеется, в школьной библиотеке, которая была не очень богатой, однако классика в ней имелась, и белорусская, и русская, и кое-что из мировой. Прежде всего приключенческая литература – от Жюля Верна до нашего Янки Мавра, книги которого я очень любил. Большой популярностью пользовалась в те годы книга Николая Островского «Как закалялась сталь», ее читали по очереди всей школой.
Когда я заболел и долго не ходил на занятия, особенно много читал и перечитал все, что было в Слободской школе, а это преимущественно русская классика. Одолел за время болезни «Войну и мир», три тома «Тихого Дона», многое из Гончарова, Тургенева, из белорусских авторов прочел книги Зарецкого, Гартного, Головача. Долго нигде не мог достать «Дрыгву» («Трясину») Якуба Колоса, о которой узнал из учебника по белорусской грамматике – отрывок текста из «Дрыгвы» приводился в учебнике в качестве примера по синтаксису. Проследил, что «Дрыгва» появилась в заготовительном магазине в Селищах. Но где мне было взять деньги? Летом деревенские ребята драли лыко лозы и крушины, высушивали их на солнце и сдавали в заготовительные конторы-магазины. И настал день, когда я, сдав заготовителям очередную изрядную охапку лозового лыка, смог приобрести «Дрыгву».
Когда все, что имелось в школьной библиотеке, было прочитано, я стал добывать книги у друзей и знакомых. Как только прослышу, что у кого-то есть незнакомые мне книжки, – прошу дать почитать. На пару дней, на одну ночь. Помню, в нашей школе был ученик Бобровский, кажется, из деревни Чамеречино. Его то ли отец, то ли дед был учителем еще в царское время и оставил после себя целый сундук книг. Вот это было сокровище! Зимой Бобровский приносил мне книги в школу, а летом я сам бегал за ними к нему домой. Читал в основном издания XIX века – Мамина-Сибиряка, Короленко, Станюковича, Помяловского, прочел несколько романов Шеллер-Михайлова. В том же сундуке нашел редкую по тем временам книгу Жюля Верна «Из пушки на Луну», которая мне очень понравилась. Узнав, что на белорусском языке этой книги нет, я перевел ее полностью и отправил перевод в Минск, в газету «Піянер Беларусі», чтобы там напечатали и познакомили белорусских детей с этим произведением. Наивно, конечно, но это было глубокое движение души – книжный мир стал для меня не менее реальным, чем тот, в котором я жил, однако влияние на формирование души книги оказывали более важное, нежели реальность. Тогда, в детстве…
Поэзия, в том числе и русская классическая, трогала мало. Немного позже, в юности, стал нравиться Лермонтов. А почему – я понял, прочитав после войны у Бунина, что именно Лермонтов, а вовсе не Пушкин – первый поэт России.
Несколько лет подряд я сидел в школе за одной партой с Шуркой Андрейчиком. Это был тихий, задумчивый паренек, хорошо успевал по математике. Лучше меня. Но я лучше писал диктанты и сочинения. И вот мы договорились, образовали, так оказать, кооперацию: он мне помогал по математике, а я ему по грамматике и литературе. Со временем я совсем обнаглел и на уроках математики читал, положив книгу на колени. Продолжалось это долго, пока однажды директор школы Слимборский, который преподавал математику, не поймал меня с поличным и не поставил двойку. Пришлось исправляться. Стыдно стало, потому что по всем остальным предметам у меня были пятерки.
Не могу не сказать еще об одном моем увлечении в школьные годы – о рисовании. Рисовать стал рано, пожалуй, в третьем или четвертом классе, – карандашом или акварельными красками делал рисунки для стенгазеты, рисовал всякие наглядные пособия – карты, схемы, диаграммы… Учиться искусству рисования было не у кого и не на чем – какое изобразительное искусство в деревне? Да все же обнаружилось! В соседнем селе Островщина жил крестьянин по фамилии Бобрик, бедняк из бедняков. Этот Бобрик в годы Гражданской войны был в Сибири, служил в доме у какого-то богатого дворянина, говорили, у самого губернатора.
Я узнал, что Бобрик привез на родину несколько картин, написанных маслом, маленькие такие этюдики. Еще он привез годовые подшивки журналов «Нива» и «Огонек», в переплете, за несколько лет. «Огонек» – номера с начала XX века, вплоть до 1916 года. В журналах было много репродукций – черно-белых и цветных тоже. Я брал у него эти подшивки, читал, разглядывал репродукции. Ну и, конечно, сам рисовал. Посылал на какие-то конкурсы свои рисунки, переписывался с Витебским, кажется, или Минским, точно не помню, домом пионеров. Там были методические кабинеты, оттуда мне присылали задания. Что до книг, то, думаю, многие из них надо читать в свое время, в определенном возрасте. Теперь жалею, что слишком рано прочел самые значительные книги, поэтому, будучи несмышленым, взял из них далеко не всё, что в них было заложено. Но, возможно, я ошибаюсь. Может, именно потому, что я читал их в раннем возрасте, они и смогли что-то затронуть глубоко в душе, а потом уже было не то. Потом жизнь формировала, комкала душу, а влияние литературы ослабло.
Достаточно долго мой рассказ на этих страницах идет о детстве, память выбирает лучшее, что в нем было, или нейтральное. Но жизнь на самом деле была другой, и память сохранила немало уродливых гримас той жизни, событий, происходивших в мире взрослых.
Вспоминается 1932-й, кажется, год, весна. В стране шла коллективизация, по сути – насильственная ликвидация крестьянства как класса. В сплошь крестьянской стране крестьян ликвидировали как класс – классический геноцид, только по классовой принадлежности!.. Крестьян агитировали, что в колхозе будет лучше, а они, дурни, не верили и тем самым создали конфликт с государством. А как этот конфликт выглядел на практике?
Был мал, но хорошо помню, как в деревне шло собрание – несколько дней подряд, мужиков уламывали вступать в колхоз. Те упирались, думали, будто что-то зависит от их согласия. Напрасно!
Помню, проснулся однажды рано утром от маминого плача. Я в детстве очень чутко улавливал мамино настроение и сразу сочувственно на него отзывался.
Но я никогда не видел, чтобы мама плакала. А тут просто причитает, как по покойнику. Рядом в углу, понурившись, сидит отец. Я подбежал к матери, спросил: «Ты чего?» А отец говорит: «Не трогай ее – организовался колхоз». Ну организовался, и пусть, но почему плачет мама? Оказывается, потому, что на рассвете приехала бригада и выгребла всё из кубышек, из мешков и сусеков. Вот с тех пор и началось. Известно, как в колхозах было – голод, подневольный труд, репрессии… Железной поступью шло раскулачивание. Раскулачили мужика, у которого была корова с телушкой. У всех по одной корове, а у этого – с телушкой. Другого раскулачили за то, что летом племянница помогала ему жать жито. А это – использование наемной силы. Третьего раскулачили как саботажника. Не хотел вступать в колхоз, упирался. Вывозили семьями. Помню хлопчика, с которым учился. Раскулачивали осенью, не помню, до организации колхоза или позже. И вот хлопчик этот не пришел в школу, и я побежал к нему узнать, что случилось. Вижу, возле его хаты уже грузят скарб на подводы, а мой одноклассник хвалится: «А мы в поезде поедем, ага!» И мне стало завидно – почему моего отца не раскулачили, и я бы в поезде поехал… Я ведь поезда даже не видел.
Создали колхоз, пришла весна, доели бульбочку, которая осталась после обобществления. Есть стало нечего. Ели мякину с травой, крапиву. И так продолжалось много лет, потому что в колхозе ничего не получали. Урожаи ежегодно были плохие, всё, что вырастет, шло на государственные хлебозаготовки и в семенной фонд. Помню такие моменты. Отец пойдет осенью за окончательным расчетом и принесет годовой заработок – полторбы жита. И это всё, что мы заработали за год, работая в колхозе всей семьей. А ведь с нас еще и поставки: мясо, шерсть, яйца, молоко, а еще денежный налог, страховка, государственный заём – всё и не перечислить. Где взять деньги? Что продать, чтобы расплатиться? Когда были единоличниками, выручал лён, сами его обрабатывали, перерабатывали, в самотканое льняное полотно одевались. А теперь со льном стало очень строго – тоже обложили налогом. Взимали беспощадно.







