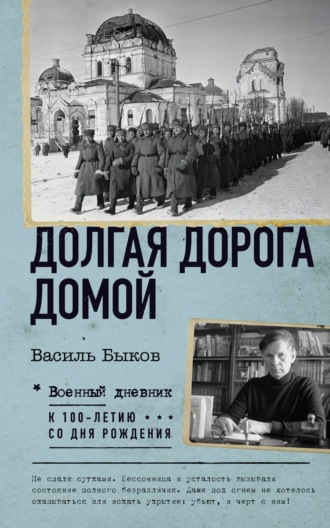
Василь Быков
Долгая дорога домой
То время запомнилось мне непривычной подавленностью отца. Стало обычным, что он приходил с работы в колхозе угрюмый, молча съедал какую-нибудь похлебку, которую мать ему подавала, и выходил из хаты, садился на колоду у дровяного сарая. Молча курил. Мать его в такие минуты не трогала, мы, дети, тоже молчали. Мне казалось, что отец рассержен – может, на меня? И я тоже на него обижался, злился, дурачок. Много позже понял причину подавленности отца – ему, как и всем крестьянам, жить стало невмоготу.
Помню (это еще до колхозов было), отец сидит вечером, расплетает путы, которыми лошадей стреноживают, чтобы сдать эти расплетенные путы в счет льна – путы ведь из льняной пряжи сделаны. А по деревне ходят сельские активисты, обыскивают хаты, ищут припрятанную пряжу. Обыски были повальные – пришли и к нам. А у нас во дворе была старая истопка с дырой в крыше, и дыру эту отец заткнул пуком соломы. И вот стали активисты обыскивать хату, искали, искали – ничего не нашли и у меня спрашивают: «Мальчик, где отец прячет лён?» А я говорю: «В истопке». Ну эти: «Иванов, давай туда!» А я… Не знаю, почему я такое сказал. Должно быть, из неприязни. Спросили, я и ответил, имея в виду тот пук соломы, которым была заткнута дыра. Ввалился тот Иванов в истопку увидел, что его обманули, стал ругаться. А я убежал в овраг. Потом отец бранил меня: «Ну где ты видел там лён? Лён у нас в другом месте спрятан, век не найдут». Да, лён. Но ведь надо было сдавать еще и зерно. Чтобы мы его сами не мололи, а везли на мельницу, где его могли ополовинить, реквизировать, а то попросту украсть. Но у крестьян были свои мельницы – жернова. Почти у каждого они стояли в сенях или в истопке – эти нехитрые приспособления из двух плоских камней. Да и что там было везти на мельницу – какой-нибудь мешок жита? Отец молол сам. И вот однажды явились эти комбедовцы, сельские активисты, и сняли верхний жернов. На углу хаты из фундамента выпячивался большой камень, и активисты кокнули об него жернов, который развалился на три куска. Ну вот и живем мы с зерном, но без хлеба. А эти приходят регулярно, проверяют, лежат ли в крапиве осколки. Тут отец и схитрил, взял однажды ночью те куски и скрепил их деревянным обручем. Подбил, подравнял и как-то молол помаленьку. Ночью смелет, а потом снимет обруч и опять эти куски – в крапиву, словно к ним никто и не притрагивался.
А позже, уже при колхозах, никакого зерна не стало, не нужны стали и жернова. Голодуха с весны. Ждем бульбочку. А бульбочка… Это теперь скороспелка и прочие ранние сорта благодаря институту картофелеводства, а тогда бульба была только одного сорта – позднего, осеннего.
Первая бульбочка! Уж как ей радовались, наголодавшись за лето! Копать, помню, начинали после Спаса, в последние августовские дни. Отчетливо вспоминается один из таких дней. Мама заранее заприметила борозду, где бульбочка должна быть наилучшей. Ботва ей это подсказала, глаз у мамы на такие приметы верный. Мама несет лукошко, у меня в руках лопата. И вот выворачиваю из земли первый куст – на корнях с десяток не очень крупных, но и не мелких розоватых картофелин. Мама бережно кладет их в лукошко, а я еще раз переворачиваю лопатой рыхлую землю, затем шарю в ней пальцами и нахожу еще пяток бульбинок. Так же основательно обхожусь и с очередным кустом. Картофелин под ним оказалось немного, и я хотел выкопать еще пару кустов, но мама воспротивилась: «Пусть подрастут, пока нам и этого хватит». Пришли домой, моя сестра Валя сразу принялась чистить бульбочку, тут же, во дворе, скоблила ее ножиком бережно, чтобы не соскрести лишнее. Шестилетний Миколка принялся готовить костерок, принес хворосту и пару поленьев дров. Костерок развели на траве, у плетня, подальше от хлева, – там, у плетня, травка была чистая. Хворост и поленья положили на три плоских камня, вдвоем с Миколкой стали раздувать огонь. Когда пламя осело и образовались жаркие угли, мама поставила на них небольшой чугунок, полный бульбочки, накрыла крышкой. Варись, бульбочка!
Время от времени Миколка подкладывал в костерок сухие палочки, перестарался и чуть было не опрокинул чугунок. Мама испугалась: «Не трожь, я сама прослежу!..»
Сидели, ждали, когда закипит. И вот закипело, вода стала переливаться через края чугунка, зашипела на углях. Теперь надо было подкладывать поменьше.
Миколка нетерпеливо ерзал, то и дело спрашивал: «Уже сварилась?» Мама объяснила, что свежая, только что из земли бульбочка на костре варится долго – это ж не в печке!.. Бульбочка, и правда, долго варилась, а когда сварилась, мама не спешила ее сцеживать – ждала отца. Он был в поле, должен был вот-вот прийти к ужину. Кроме бульбочки был на ужин кувшин кислого молока. Не было только хлеба. Но ведь на то и бульбочка, чтоб его заменить!..
– Папа идет! – обрадованно крикнула Валя.
Отец был очень усталый, невеселый. Увидев костерок и свое семейство вокруг него, грустно улыбнулся: «Ты смотри, уже мы с бульбой! Я сейчас, только руки помою».
А у нас текли слюнки – так хотелось поскорей отведать пахучей, с дымком, долгожданной бульбочки.
– Ну, теперь не помрем, – сказал отец, садясь у костерка на табуреточку. – Коль уж бульбочки дождались…
И тяжело вздохнул.
Конечно, пока не было бульбочки, спасало молоко, но ведь подросткам и мужчинам хотелось и хлеба.
Вечной проблемой были одежда и обувь. Особенно обувь, она на мне просто «горела» – по грязи, по снегу каждый день за три километра в школу. Три туда, три обратно. А башмаки единственные. То же и с одеждой – ходил в обносках. В магазине же ничего не купишь. Помню, когда в сельпо завозили мануфактуру, за ней была черт знает какая давка. Керосин отпускали по литру, а то и по пол-литра на месяц и только по книжке пайщика. Придешь домой из школы зимним вечером – в хате темно, лучина горит на припечке, и при ней надо готовить уроки. Правда, среди этой беспросветной нужды выпадали изредка и светлые минуты. Как-то осенью вызвал меня к себе директор, посмотрел на мои рваные, заляпанные грязью башмаки и говорит: «Сходи в сельмаг, примерь гамаши. Скажи, директор велел примерить». Сходил я, примерил, а потом директор мне эти гамаши купил. Все-таки я был отличник, и, очевидно, это что-то значило. Уж как я берег-лелеял те гамашики!..
Как раз в это время отец взялся за строительство новой хаты, старая сгнила, жить в ней стало невозможно. Зимой отец сходил в сельсовет за разрешением спилить деляночку сосен, затем бревна надо было как-то привезти, просить у колхоза подводу. Уже в теплую пору отец закладывал фундамент, затем ставил сруб. И всё сам, один, а ведь от полевых работ в колхозе его никто не освобождал, работать приходилось и там и тут. Придет, бывало, на полдник и сразу к срубу – тюк, тюк топором. Осенью перебрались в новую, еще недостроенную хату, без пола. Приятно пахли свежей древесиной стены, но не было печки – ее ставили уже в предзимье. Намерзлись, пока поставили.
Все мои друзья в деревне были старше меня, разве что Василь Паршенок был на год или на два младше. Все, конечно же, были разные, каждый со своим характером – у кого-то он был покладистый, отзывчивый, у кого-то не очень. Володя Головач хоть и был старше на три года, относился ко мне как к ровеснику, был настоящим товарищем, помогал, если была в том надобность. Это не удивительно – у него мать была очень хороший человек. Моя мама, помню, опекала ее, когда та осталась одна, без мужа. А Володя помогал мне рубить дрова, когда мой отец заболел тифом и лежал в больнице в Ушачах. Хорошим хлопцем был сын репрессированного Каля (мы жили через хату). Этот хлопец после войны на родину не вернулся, осел в Латвии. С его братом Мишей Змитраковым я подружился меньше, о нем говорили: задавака! После войны он был директором школы в Кубличах, которую отстроили под его руководством. С Василем Паршенком, будущим киномехаником, мы, помню, катались зимой на лыжах; Василь лучше меня съезжал с самых крутых пригорков. Еще один из моих друзей той поры, мой двоюродный брат Микола, не вернулся с войны – вероятно, был убит при штурме рейхстага (по свидетельству командира батальона, в котором служил брат, Неустроева). А родной брат Миколы, Илья, был в партизанах, после войны где-то долго скитался, но под старость вернулся на родину и похоронен рядом с отцовскими могилами.
Вот я вспоминаю о друзьях детства и думаю, что дети всё же – жестокий народ. В чем-то даже по-звериному жестокий. Ну, естественно, это зависит от социальной среды, от воспитания, это само собой. Как у взрослых. Но у взрослого человека есть какое-то право на собственное достоинство. А у мальчишки? У него нет никаких прав, а то и представления о них. Он привык думать, что все решает сила – сила взрослых, сила тех ребят, которые старше, сила власти… И всегда найдется среди тех, кто взрослее и сильнее, а то и с садистскими наклонностями, некто, диктующий свои законы. И часто младший не понимает, что это неправильно, несправедливо, что должно быть иначе. И не пожалуешься, потому что знаешь – никто тебя не защитит. И еще знаешь, что жаловаться – нехорошо, это внушено средой, а то и родителями. И учителями тоже.
Ростом я был не мал, но худенький и слабый, поэтому в разных стачках и потасовках никак не мог одержать победу. Побеждали другие – более сильные, а главное – более наглые. У меня не было наглости. Вот тут я и вспоминал мягкий мамин характер, который унаследовал от нее и который мне немало вредил. А еще в детстве я был очень чуток, остро переживал не только свои, но и чужие несчастья, и, когда участились репрессии, когда сталинский «хапун» пришел в деревню, я стал дружить с теми ребятами, которые остались без родителей, – другие от этих ребят отворачивались или презирали их: враги народа!.. В нашей деревне тогда было дворов двенадцать (потом к ним подселили хутора), и вот из этих двенадцати дворов шестерых хозяев взяли. Темных колхозников, бывших бедняков. Взяли и Бобрика. Наверное, ему та «Нива» с портретами царей да графинь вылезла боком. А еще был такой Демьян Азевич, инвалид Первой мировой войны, рука у него была парализована и высохла – рука эта всегда была в черной перчатке. Зарабатывал он на хлеб ремонтом часов, их несли к нему со всей округи. И одной здоровой рукой он все эти часы ремонтировал – настенные, карманные, будильники. Любые. И даже стеклышки в них вставлял. А стеклышки где взять? Смекалка подсказала: Азевич покупал стекла для керосиновых ламп, из выпуклой части вырезал нужное ему по диаметру стеклышко и вставлял в наручные или карманные часики. Я, когда учился в школе, несколько лет приносил Азевичу требующие ремонта часы учителей. Спрячу в спичечный коробок и несу. Он починит, стеклышко вставит, и я назавтра отдаю часы владельцу. По дороге из школы несу Азевичу рубль за работу. Отдам, а мне в благодарность от Азевича – 20 копеек. И вот этого инвалида тоже взяли. А его сын, Демьян по имени, как и отец, служил в это время на Дальнем Востоке. Отслужив, вернулся домой, во время войны ушел в партизаны, потом был на фронте, воевал до самой Победы. Воевал за советскую власть, которая уничтожила его отца. Но он на нее не обиделся, за что, как известно, детей репрессированных хвалили большевики: «Молодец, не озлобился!» Как будто и впрямь можно было не озлобиться!..
Летом бабы на лугу у речки сгребали сено. Под вечер возле мостика остановилась райкомовская «эмка», из которой вылез какой-то чиж в пиджаке и приказал бригадиру дядьке Антону собрать баб в кучу. Быстренько все собрались на пологом пригорке, стояли, устало опершись на грабли. Райкомовец развернул газету и стал читать вслух: «В Красной армии орудовала группа вредителей и шпионов во главе с маршалом Тухачевским. Они подсыпали в еду красноармейцев отраву, битое стекло, выдавали иностранцам военные тайны. Верховная коллегия Военного трибунала приговорила их всех к расстрелу, и вчера приговор был приведен в исполнение. Славные советские чекисты не подвели и в этот раз!»
Бабы плакали – это ж надо, какие подлюги! «Хорошо, что их раскрыли, а то моему младшему осенью призываться – отравили бы, загубили бы моего сыночка!» – плакала от радости одна баба из Слободки. «Ага, ага! – соглашалась другая. – Разве ж им жалко наших хлопцев! Зверюги этакие!»
Бригадир дядька Антон упорно молчал. Кто знает, о чем он думал. Но он был умный мужик, и мы, дети, его уважали. Только знать, о чем он молчит, мы тогда не могли…
Деревня наша в основном была православная, но из хуторов подселили несколько католиков. Помню фамилии: Левицкий, Блажевич, Корсак. Вот их и взяли в первую очередь. Взяли также нашего соседа Бориса. Арестовывал обычно районный оперуполномоченный НКВД Перетятькин. (Он и после войны приезжал в нашу деревню, – потянуло, должно быть, на место преступления.) Ну и пограничники старались – не столько охраняли границу, сколько хватали ночью сонных мужиков на своей стороне. Что пограничники, что НКВД – одна система. Никто из репрессированных не вернулся – все реабилитированы посмертно… Взяли тогда и нескольких учителей, в том числе и нашего директора школы Карчевского, который когда-то купил мне гамаши. Но и самих пограничников, включая командиров, тоже арестовывали. Так, был арестован капитан Акулов, муж одной из наших учительниц. Любопытно, что в роли сексотов – стукачей – использовали учеников старших классов. Когда судили директора, одна из наших учениц была на суде свидетелем обвинения. Это в 15 лет!
И в каждой деревне были у них сексоты, где получше, где похуже, активные и не слишком. Нам в этом смысле не повезло. В сельскую общину влез чужак, пришлый человек, – после Гражданской войны примостился к местной женщине. Не знаю, откуда он был родом, знаю только, что НКВД установило с ним очень тесный контакт. И он даже не скрывал этого, напротив, хвалился, что помогает чекистам. Где-то в 50-е годы, когда я приезжал к отцу, тот приблуда без приглашения наведывался к нам в гости и за чаркой признавался, что хотел посадить отца, была причина, да пожалел. И отец был ему благодарен. Не знаю, что имелось в виду под «причиной». Может, мамин «контрабандный» переход границы?
Не могу не рассказать об этом «уголовно-политическом» мамином преступлении. Как я уже говорил, мама была родом из деревни, находившейся по ту сторону границы, и долгие годы ничего не знала о своем брате. Не знала даже, жив ли он. В тридцать девятом году, после воссоединения Западной Беларуси с БССР, появилась надежда получить от брата весточку. Но хотя новая граница была теперь аж за Белостоком, старую не ликвидировали. Охраняли по-прежнему бдительно, чтоб никто – ни туда, ни оттуда. И однажды, когда в доме было особенно голодно, мама решилась перейти границу тайком. Собралась и пошла – через лес, через болото, берегом озера. Уж дорогу-то она помнила с детства! И – прошла. И вернулась. И принесла голодным гостинцы: немного муки в мешочке и баранью голень. Оказалось, что мамин брат под панским гнетом жил все же лучше, чем сестра, у которой месяцами не было на столе даже хлеба. И теперь – всё еще! – жил лучше.
Мама долго боялась, что кто-нибудь на нее донесет и ее посадят. Слава богу, не посадили, и мы решили, что никто ничего не знает. Оказывается, кое-кто дознался…
Летом я отправил документы в Витебск, в художественное училище.
Теперь, по прошествии лет, не думаю, что это мое решение было внезапным, по всей вероятности, это было требование судьбы. Жизнь в колхозе стала невыносимой, голод и репрессии гнали людей прочь. Но взрослым бежать из колхоза было некуда, только молодежь и подростки могли найти какой-то выход.
Как раз в это время в школе появился новый пионервожатый, Виктор Кондрацкий, совсем молодой парень, который женился на нашей «русице» Клавдии Яковлевне. Проработал он в школе недолго и неожиданно исчез. Оказалось, поступил в Витебское художественное училище. Однажды летом я встретил Виктора в Кубличах, и он рассказал мне об училище, показал свои студенческие рисунки. Сказал, что студентам предоставляют общежитие и даже платят стипендию целых 60 рублей! Я рассказал об этом дома, и отец мне говорит: «Езжай и ты туда, потому что тут с голоду умрешь. А там тебе стипендию будут платить. 60 рублей – это ж ого какие деньги!» Правда, отцу не очень нравилось, что я буду учиться на художника, у него был практический крестьянский ум, и отец все время вздыхал: «Лучше бы ты стал учителем да вступил в партию, как наш Новиков. В начальство выбился!..» К разочарованию отца, стать учителем и партийцем мне было не суждено. Как, впрочем, и стать художником.
На вступительные экзамены ехал поездом (это был мой первый выход в большой мир), с пересадкой в Полоцке, в котором раньше не бывал. К поезду на станцию выехали ранним утром, на телеге, по дороге нас прихватил дождь, вымокли до нитки. Обсыхал, гуляя по Полоцку. Деревенский паренек, который настоящего города никогда не видел, я был потрясен Полоцком, все в нем было для меня необыкновенным. Узкие, кривые, мощеные улички, магазины… Витебск поразил многолюдьем и… трамваями. С некоторым страхом ехал в трамвае от вокзала в центр. На площади висели огромные цветные рекламы кинотеатров, неподалеку возвышались громадный собор и башня ратуши.
Училище находилось в добротном старом небольшом здании – вид у него был буржуазный. Удивил мозаичный пол в вестибюле, я такого никогда не видел. (Кажется, теперь там музыкальная школа – здание уцелело во время войны.)
Основным экзаменом был, разумеется, экзамен по живописи – мы писали акварелью натюрморт, какие-то горшки. Затем были экзамены по другим дисциплинам, которые я сдал успешно, и, вернувшись домой, вскоре получил уведомление, что принят в училище.
В общежитии училища на койках были голые матрасы, набитые ватой, которая свалялась в твердые комки – спать на этих матрасах было неудобно, как на камнях. Одеяло надо было иметь свое, и я привез из дому пестрое одеяльце, которое мама достала из сундука, где хранила самые ценные вещи. Одеяльце было выткано крестиками – черное с белым, и мои недоброжелательные друзья по общежитию увидели в нем подобие поповской ризы. От их насмешек мне было стыдно, и я укрывался одеяльцем только в самые холода, сверху набрасывал тужурку. Тужурка эта принадлежала когда-то первому маминому мужу. Перед революцией он был на заработках где-то в Курляндии, во время революции приехал, привез с собой необычный для деревни гардероб – тужурку, позолоченные запонки, целлулоидные воротнички и манжеты для рубашки. Сложил все это в сундук и уехал в Петербург. Где и сгинул. Мама ждала его чуть ли не пять лет, а затем, сходив пешком в Полоцк поклониться святой Евфросинье Полоцкой, вышла замуж за своего соседа – вдовца Владимира Быкова.
Осенью начались занятия: живопись и рисунок, которые преподавал старый художник Лейтман (впрочем, это тогда он казался мне старым). Остальные предметы были те же, что и в обычной школе. Жил я поначалу в общежитии на Могилевской площади, теперь этого названия нет – Могилевскую переименовали в Советскую. Или в Центральную, точно не помню. Потом (почему – тоже не помню) меня и еще троих студентов поселили в частном доме на площади Смоленская ярмарка. Кажется, прежде эта площадь называлась Красной.
Некоторое время спустя в училище было создано скульптурное отделение, и я вместе с несколькими ребятами перешел туда. Скульптурные классы находились не в здании училища, а в другом, которое стояло в переулке неподалеку от бывшей ратуши и художественного музея. Преподавателем нашим была скульптор Анна Ивановна Беляева, кажется родом из Киева. (После войны ничего о ней не слыхал. Может, погибла.) Директором училища был Иван Осипович Ахремчик. Его мастерская находилась в здании училища на первом этаже, окна мастерской выходили на улицу. Окна были громадные, как должно быть в мастерской художника. Иван Осипович вечером зажигал в мастерской яркий свет, но шторы не задергивал, и мы с улицы смотрели, как он работает. Помню огромный, во всю стену, холст, на котором неоконченные, полуэскизные фигуры Ленина и Сталина в зале какого-то партсъезда. (Тогда эта тема была обязательной.)
Скульптура, в общем, давалась мне легко, но нравилась меньше, чем живопись. Лепке мы учились на копировании фрагментов античных скульптур, микеланджеловского Давида, что входило в уроки постижения анатомии человеческого тела – мы лепили носы, уши, торсы. Это было нетрудно. Более сложно было с композициями – однофигурными и двухфигурными. Моей курсовой работой была фигура пограничника в шинели, с винтовкой и биноклем, прижатым к глазам. Преподавательница похвалила.
Глину для лепки в скульптурные классы откуда-то привозили, а краски для занятий по живописи надо было покупать. Мы пользовались дешевыми акварельными красками, масляные, о которых все мечтали, стоили дорого, и купить их могли немногие. Маслом, помню, писал парень из Азербайджана, и мы с завистью смотрели, как щедро, лихо он «кладет мазок». Мы же бережливо размазюкивали свою акварель на небольших плотных листах ватманской бумаги. А когда отменили стипендии, и акварель стала недоступна.
Город по-прежнему восхищал, манил, удивлял громадными зданиями и витринами. Иногда я заходил в собор, в котором уже не было икон и прочего церковного убранства. Под куполом качался знаменитый маятник Фуко – как доказательство, что Бога нет и Земля вертится. Остальные соборы к тому времени уже были взорваны.
Вечно голодных студентов, однако, больше всего манили столовые. Но, чтобы зайти в столовую, требовалась смелость. Нас сковывала, даже как-то пугала непривычная обстановка, чистые белые скатерти, официантки в белых накрахмаленных передничках. Официантки смотрели на нас, застенчивых деревенских подростков, с усмешкой, особенно когда принимали наш стыдливый «заказ».
Питались в основном хлебом с кипятком – буханка хлеба в день. Стоило это 1 рубль. Однажды мы подделали пару рублей: нарисовали акварелью, потом хорошенько измяли бумажки, чтобы они выглядели как старые потертые купюры. И продавщица ничего не заметила. Но больше мы на это не отважились…
Витебск в ту пору еще сохранял славу города художников, каким слыл издавна. Кроме художественного музея, на улице Гоголя был музей знаменитого Пэна. Музей этот был открыт после трагической гибели художника – он был убит при загадочных обстоятельствах. В небольшой комнате и на стенах вдоль деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, в мастерскую Пэна, висели его работы, выполненные в манере добротного реализма: портреты старых евреев-ремесленников, изображения лошадей, виды старинных кварталов Витебска. О прославленном ученике Пэна Марке Шагале, который жил в эмиграции в Париже, в родном городе художника ничего не знали. Но времена меняются, и через много лет я был в числе тех, кто открывал на Покровской улице памятник знаменитому земляку.
Учился я в Витебске недолго. Осенью 1940 года объявили «радостную» новость: постановлением правительства стипендии отменяются, за все подручные материалы и учебники надо платить… Денег мне из дому не присылали, да я и не просил. Лишь однажды отец, собираясь в Витебск, чтобы повидаться со мной, заехал по дороге к дядьке Степану и взял у него взаймы три червонца. Червонцы эти я растягивал как мог. Тратил главным образом на хлеб – основное мое питание. Встанешь утречком, часов в шесть, и бегом к хлебному магазину – занимать очередь. А очередь громадная. Хлебные карточки в то время уже отменили, поэтому за хлебом в город ринулись колхозники всех окрестных деревень, и не только окрестных. И когда в восемь часов открывался магазин, очередь превращалась в толпу, начиналась дикая давка.
На хлеб я тратил рубль в день, но ведь надо было покупать и краски. Да и обувка моя совсем прохудилась – из брезентовых гамашей вылезали пальцы. Попытался я с хлопцами найти какой-нибудь заработок – на погрузочной станции, на щеточной фабрике. Какие-то гроши зарабатывали, кое-как перебивались.
В Витебске, как ни странно, до самой войны сохранился мелкий частный сектор. И однажды на какой-то улице мы приметили маленький магазинчик-мастерскую с неумелой надписью над входной дверью – «Головные уборы шью». Хозяин магазинчика, старый Абрам, сам шил и продавал шапки. И вот, помню, я и Шевчёнок, хлопец из полесской деревни, зашли в магазинчик. (Шевчёнок потом тоже, как и я, бросил учебу – не мог учиться дальше. Ботинок у него не было, в осеннюю распутицу ходил в рваных войлочных бурках.) Договорились с хозяином сделать ему красивую вывеску, он пообещал заплатить нам за работу 15 рублей. Нашли мы кусок хорошей фанеры, загрунтовали, покрасили, написали по-белорусски «Галаўныя уборы». На одном конце доски намалевали кепку, на другом – шляпу. Приносим заказ. Хозяин смотрел, смотрел и говорит: «А почему шляпа? Что, я шляпы делаю для буржуев?» И не взял вывеску, отказался. Видно, еще со времен нэпа был напуган.
Так накрылся наш заработок. Еще какое-то время пошатавшись по городу в поисках хоть какого-нибудь заработка и ничего не найдя, я понял, что в училище мне не удержаться, с искусством придется кончать. Пошел в канцелярию за документами. Там был наш преподаватель литературы, кажется Леванёнок по фамилии, который сочувственно сказал: «Жаль, Быков, мог бы учиться – у тебя способности…» Мне тоже было жаль, но как я могу учиться? Отнес в комиссионку последнюю рубашку, на полученные деньги купил билет до Полоцка и две булки, которые сразу и съел, присев на скамейку в скверике, в котором ныне стоит памятник Пушкину.
Приехал в свою деревню, вернулся в школу, в десятый класс. Оказалось, что в учебе здорово отстал. А еще новые порядки – учебники платные, надо покупать. Но и купить негде, не хватает учебников. Дома прежняя нужда, в колхозе работа через пень-колоду, за трудодни не платят. Ни хлеба, ни дров.
Как раз в это время начался набор в новоорганизованные школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), и я вскоре вновь оказался в Витебске, стал фэзэушником. Что в Витебске – меня радовало. Знакомый уже город, любимые музеи. И воспоминания. Невеселые, однако, воспоминания. В школе ФЗО готовили каменщиков, бетонщиков, арматурщиков – все очень далекое от искусства. Оно стало далеким и недоступным. Основная учеба фэзэушников – это работа под открытым небом, в любую погоду, на какой-нибудь стройке: класть кирпичи, замешивать раствор. Но тут кормили, давали койку в общежитии, позже стали одевать, выдавали фэзэушную форму. В художественное училище я не заходил, разве что вечером стоял иногда под окнами, смотрел поверх занавесок на прикрытые тряпками скульптуры. Было тягостно и больно…
Зима 1940/41 года была очень холодная, с ветрами и жгучими морозами. А мы учились, как я уже сказал, под открытым небом. Помню, шло строительство дома на Суражском шоссе, я выкладывал угол, для чего требуется сноровка, а главное – точный глазомер, чтобы не искривить кладку. Бегали греться в цех черепичной фабрики, которая находилась рядом со стройкой, – там был затишек. Мой угол не совсем мне удался, чуточку покосился, дал крен, и наш наставник Андрей Иванович был недоволен. Какое-то время я переживал по этому поводу. (Зря, впрочем, переживал. Скоро от того дома останется груда щебня. А после войны не останется и следа – все здесь зарастет бурьяном и крапивой.)
В начале июня – выпуск. Нам объявили, что поедем работать на Украину, в город Шостка. До отъезда я попросил разрешения наведаться домой, в деревню. На то была особая причина.
Дело в том, что в Шостке жил мой дядя. Это тоже истоки – история судьбы. Дядя когда-то был активистом, вступил в партию и даже сделал карьеру, работал редактором газеты где-то на Полесье. Но пока он служил там советской власти, дома эта власть раскулачила его родителей и брата, сослала их в Сибирь. Должно быть, худо пришлось моему дядьке, что он сбежал на Украину, в эту самую Шостку подальше от родных мест, где все знают, что он сын репрессированного.
Приехал я домой, пошел к директору школы Слимборскому, рассказал о своем положении. Директор посочувствовал мне, огорчился, что у меня, отличника, все так неудачно сложилось, и выдал мне табель моей успеваемости за 10-й класс (аттестат он не мог выдать), проставил в табеле надлежащие оценки. Табель мне был нужен, чтобы осуществить свой план: в Шостке я сдам экстерном экзамены за среднюю школу (то, что я десятиклассник, подтвердит табель) и поступлю в тамошний индустриальный институт, к которому мой дядя имеет какое-то отношение. Пригодится и то, что он и Слимборский были знакомы…
Погожим июньским утром мы приехали на Украину…
Белые мазанки, тополя, непривычный для уха язык на станциях, гоголевские ассоциации – все это перенесло в другой мир, романтичный и сказочный. Не думал тогда, что так много драматического и трагического будет связано у меня с этой страной.
Не успел осмотреться, узнать по-настоящему город и даже найти своего дядьку, как грянула война. Поначалу это, признаться, не очень испугало нас, молодых: были же совсем недавно финская война, перед нею – освободительный поход в Западную Белоруссию, все окончилось триумфальными победами. Победим и теперь. Тем более, что нами руководит непобедимый товарищ Сталин. Но очень скоро стало тревожно, а затем и страшновато. Захотелось домой, в родные места. Да вот дороги туда уже не было. Когда германский вермахт занял Минск и Гомель, подступил к Киеву, военкомат мобилизовал нас. Сперва – на оборонные работы. Месяц, наверное, копали мы глубокий и далеко растянувшийся противотанковый ров, кажется, под Пироговкой, который так и оставили, не закончив, потому что немцы уже замыкали кольцо вокруг Киевского «котла».
Тысячные колонны 17–18-летних юнцов потянулись по пыльным дорогам на восток. Стояла невыносимая жара. В селах и городках, которые мы проходили, нас провожали женщины и девушки, выносили еду, угощали фруктами, махали платками. Некоторые плакали. А мы бодрились, шутили. Кучку белорусов никто не оплакивал, наши плакальщицы были не здесь. Но и украинки жалели нас. На окраине древнего Глухова девушка с черной косой подбежала ко мне и поцеловала – то был первый в моей жизни волнующий девичий поцелуй. Ночевали обычно в гумнах, коровниках, опустевших уже школах. Хлопцы-украинцы очень хорошо пели. Как ни уставали они за день, все равно в темноте звездной летней ночи где-нибудь на краю села долго звучала их самая любимая песня: «Распрагайтэ, хлопцi, коней та лягайтэ спачываць, а я пiйду у сад зэлэнiй, та крынычэньку копать!» Чуть рассветет – подъем и снова в путь, жарким и пыльным шляхом, пока не появятся в небе немецкие коршуны.







