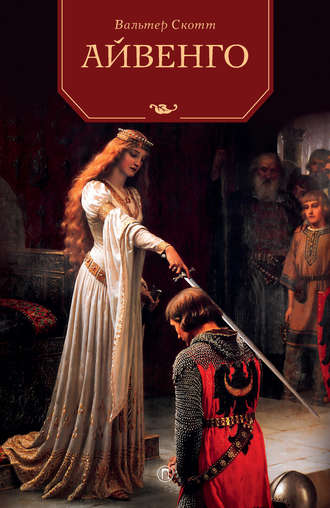
Вальтер Скотт
Айвенго
Глава XXXVII
Трибунал, перед которым должна была предстать несчастная и ни в чем не повинная Ревекка, помещался на помосте огромного зала, который мы уже описывали как почетное место, занимаемое хозяевами и самыми уважаемыми гостями, и был обычною принадлежностью каждого старинного дома.
На этом помосте, на высоком кресле, прямо перед подсудимой, восседал гроссмейстер ордена храмовников в пышном белом одеянии; в руке он держал посох, символ священной власти, увенчанный крестом ордена. У ног его стоял стол, за которым сидели два капеллана, в обязанности которых лежало вести протокол процесса. Их черные одеяния, бритые макушки и смиренный вид составляли прямую противоположность воинственному виду присутствовавших рыцарей – как постоянных обитателей прецептории, так и приехавших приветствовать своего гроссмейстера. Четверо прецепторов занимали места позади кресла гроссмейстера и на некотором от него расстоянии; еще дальше, на таком же расстоянии от прецепторов, на простых скамьях, сидели рядовые члены ордена, а за ними на том же возвышении стояли оруженосцы в белоснежных одеяниях.
Картина была чрезвычайно торжественной; в присутствии гроссмейстера рыцари старались изобразить на своих лицах, обычно выражавших воинскую отвагу, важность, которая подобает людям духовного звания.
По всему залу стояла стража, вооруженная бердышами, и толпилось множество народа, собравшегося поглазеть на гроссмейстера и на колдунью-еврейку. Впрочем, большинство зрителей принадлежало к обитателям Темплстоу и потому носило черные одежды.
Заседание открылось пением псалма, в котором принял участие Бомануар, присоединив свой глубокий, звучный голос, не потерявший силы, несмотря на преклонный возраст.
Когда пение смолкло, гроссмейстер медленно обвел глазами все собрание и, возвысив голос, и обратился ко всему собранию:
– Преподобные и храбрые мужи, рыцари, прецепторы, друзья нашего святого ордена, братья и дети мои! И вы также, родовитые и благочестивые наши братья во Христе, люди всякого звания! Не по недостатку личной нашей власти созвали мы настоящее собрание, ибо я, смиренный раб Божий, силою сего врученного мне жезла облечен правом чинить суд и расправу во всем, касающемся блага нашего святого ордена. А посему призвали мы сюда еврейскую женщину по имени Ревекка, дочь Исаака из Йорка, – женщину, известную своим колдовством и гнусными волхвованиями. Этим колдовством возмутила она кровь и повредила рассудок не простого человека, а рыцаря. Не мирянина, а рыцаря, посвятившего себя служению святого Храма, и не рядового рыцаря, а прецептора нашего ордена, старшего по значению и почету. Собрат наш Бриан де Буагильбер известен не только нам, но и всем здесь присутствующим как храбрый и усердный защитник креста. И вот, вопреки произнесенным обетам, невзирая на товарищей, презрев открывающуюся ему будущность, он связался с еврейской девицей, рисковал ради нее собственной жизнью и, наконец, привез ее и водворил в одну из прецепторий нашего ордена, – чему мы могли приписать все это, как не дьявольскому наваждению или волшебным чарам? Если бы мы могли думать иначе, ни высокий сан его, ни личная доблесть, ни его слава не помешали бы нам подвергнуть его строгому наказанию, дабы искоренить зло. Но если же с помощью колдовства и волхвований рыцарь подпал под власть Сатаны лишь потому, что легкомысленно взглянул на девичью красу, то мы вправе скорее скорбеть о его грехах, нежели карать за них; нам подобает, наложив на него наказание, которое поможет ему очиститься от беззакония, всю тяжесть нашего гнева обратить на суд дьявольский, едва не послуживший к его окончательной гибели. А потому выступайте вперед все, кто был свидетелями этих деяний, дабы мы могли выяснить, может ли правосудие наше удовлетвориться наказанием нечестивой женщины, или же нам надлежит с сокрушенным сердцем покарать также и нашего брата.
Вызвано было несколько человек, которые показали, что они сами видели, как Буагильбер рисковал своей жизнью, спасая Ревекку из пылающего здания, и каким подвергал себя опасностям, заботясь единственно только о ней. Благодаря этим рассказам опасности, которым в действительности подвергался Буагильбер, приобрели в их рассказах чудовищные размеры. Пылкая отвага, проявленная рыцарем ради спасения Ревекки, выходила, судя по этим показаниям, за пределы не только благоразумия, но и величайших подвигов рыцарской преданности.
Потом слово снова взял гроссмейстер.
– Теперь, братья, – сказал он, – будет уместно углубиться в прошлое этой женщины и проверить, способна ли она колдовать и наводить порчу на людей. Судя по всему, что мы здесь слышали, приходится думать, что заблудший брат наш действовал под влиянием бесовского наваждения и волшебных чар.
Герман Гудольрик, один из четверых прецепторов, присутствовавших на суде, встал и поклонился гроссмейстеру, который тотчас дозволил ему говорить.
– Я желал бы узнать, высокопреподобный отец, из уст брата нашего, доблестного Бриана де Буагильбера, что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице.
– Бриан де Буагильбер, – сказал гроссмейстер, – ты слышал вопрос нашего брата Гудольрика? Повелеваю тебе ответить ему!
Буагильбер повернул голову в сторону гроссмейстера, но продолжал безмолвствовать.
– Он одержим бесом молчания, – сказал гроссмейстер. – Сгинь, Сатана! Говори, Бриан де Буагильбер, заклинаю тебя крестом, этим символом нашего святого ордена!
Буагильбер с величайшим усилием подавил возрастающее негодование и презрение, зная, что, обнаружив их, он ничего не выиграет.
– Бриан де Буагильбер, – сказал он, – не может отвечать, высокопреподобный отец, на дикие и нелепые обвинения. Но если затронут его честь, он будет защищать ее своим телом и вот этим мечом, который нередко сражался за пользу христианства.
– Мы тебе прощаем, брат Бриан, – сказал гроссмейстер, – хоть ты и согрешил перед нами, похваляясь своими боевыми подвигами, ибо восхваление собственных заслуг идет от дьявола. Но мы даруем тебе прощение, видя, что ты говоришь не сам от себя, а по наущению того, кого мы, с Божьей помощью, изгоним из среды нашей.
Презрение и злоба сверкнули в черных глазах Буагильбера, но он ничего не ответил.
– Ну вот, – продолжал гроссмейстер, – хотя на вопрос нашего брата Гудольрика и не было дано прямого ответа, но мы будем продолжать наше расследование, братья.
В дальнем конце зала послышались какой-то шум и суматоха; на вопрос гроссмейстера, что там происходит, ему отвечали, что в толпе есть калека, которому подсудимая возвратила возможность двигаться, излечив его чудодейственным бальзамом.
Из толпы вытолкнули вперед бедного крестьянина, саксонца родом. Он был в смертельном страхе, ожидая наказания за то, что его вылечила от паралича еврейка. Однако это излечение не было полным: бедняга до сих пор мог передвигаться только на костылях.
Крайне неохотно, с горькими слезами рассказал он, что два года тому назад, когда он проживал в Йорке и работал столяром у богатого еврея Исаака, он внезапно заболел и слег в постель; тогда Ревекка стала лечить его каким-то бальзамом, пахнувшим пряностями, который вернул ему способность двигаться. А когда он немного поправился, она дала ему с собой баночку этой драгоценной мази и денег на возвращение домой, к отцу, живущему вблизи обители Темплстоу.
– И дозвольте доложить вашей преподобной милости, – закончил свидетель, – не может того быть, чтобы эта девица имела на меня злой умысел, хотя и правда, на ее беду, она еврейка. Однако, когда я мазался ее зельем, я всякий раз читал про себя «Отче наш» и «Верую», а снадобье от того действовало не хуже.
– Молчи, раб, – сказал гроссмейстер, – и ступай прочь! У тебя еще осталась та мазь, о которой ты говоришь?
Крестьянин дрожащей рукой полез себе за пазуху и вытащил оттуда маленькую баночку с крышкой.
– Как тебя зовут?
– Хигг, сын Снелля, – отвечал крестьянин.
– Так слушай же, Хигг, сын Снелля, – сказал Бомануар, – лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться, принимая снадобья нечестивых еретиков и начать ходить.
В эту минуту гроссмейстер приказал Ревекке снять с лица покрывало. Она впервые нарушила свое молчание и сказала со смиренным достоинством, что для дочерей ее племени непривычно открывать лицо, если они находятся перед собранием незнакомцев. Ее нежный голос и кроткий ответ пробудили в присутствующих чувство жалости. Но Бомануар, считавший особой заслугой подавить в себе всякие чувства, когда речь шла об исполнении того, что он считал своим долгом, повторил свое требование. Стража бросилась вперед, намереваясь сорвать с нее покрывало, но она встала и сказала:
– Нет, заклинаю вас любовью к вашим дочерям. Увы, я позабыла, что у вас не может быть дочерей! Хотя бы в память ваших матерей, из любви к вашим сестрам, ради соблюдения благопристойности, не дозволяйте так обращаться со мною в вашем присутствии! Но я повинуюсь вам, – прибавила она с такой печальной покорностью в голосе, что сердце самого Бомануара дрогнуло.
Она откинула покрывало и взглянула на них. Лицо ее отражало и застенчивость, и чувство собственного достоинства. Ее удивительная красота вызвала общее изумление, и рыцари помоложе молча переглянулись между собой. Эти взгляды, казалось, говорили, что необычайная красота Ревекки гораздо лучше объясняет безумную страсть Буагильбера, чем ее мнимое колдовство.
Вот тогда-то и вызвали двух наемников, которых Альберт Мальвуазен заранее научил, что им говорить. Хотя они оба были бессердечными негодяями, однако даже их поразила дивная красота пленницы. В первую минуту оба как будто растерялись; однако Мальвуазен бросил на них такой выразительный взгляд, что они опомнились и снова приняли уверенный вид. С точностью, которая могла бы показаться подозрительной менее пристрастным судьям, они дали целый ряд показаний.
Так, например, свидетели говорили о том, что иногда Ревекка что-то бормочет про себя на непонятном языке, а поет так сладко, что у слушателей начинает звенеть в ушах и бьется сердце; что по временам она разговаривает сама с собою и поднимает глаза кверху, словно в ожидании ответа; что покрой ее одежды странен и удивителен – не такой, как у обыкновенной честной женщины; что у нее на перстнях есть таинственные знаки, а покрывало вышито какими-то диковинными узорами.
Все эти россказни были выслушаны с глубочайшей серьезностью и зачислены в разряд если не прямых доказательств, то косвенных улик, подтверждающих сношения Ревекки с нечистой силой.
Но были и другие показания, более важные, хотя и явно вымышленные; тем не менее невежественные слушатели отнеслись к ним с полным доверием. Один из солдат видел, как Ревекка излечила раненого человека, вместе с ними прибывшего в Торкилстон. По его словам, она начертила какие-то знаки на его ране, произнося при этом таинственные слова, и умиравший человек спустя четверть часа сам вышел на крепостную стену и стал помогать свидетелю устанавливать машину для метания камней в неприятеля. В заключение свидетель подтвердил свое показание, вытащив из сумки тот самый наконечник, который, по его уверению, так чудесно вышел из раны.
Товарищ его с ближайшей зубчатой стены укреплений видел, как Ревекка во время разговора с Буагильбером вскочила на парапет и собиралась броситься с башни. Чтобы не отстать от собрата, этот молодец рассказал, что, став на край парапета, Ревекка обернулась белоснежным лебедем, трижды облетела вокруг замка Торкилстон, потом снова опустилась на башню и приняла вид женщины.
И половины этих показаний было бы достаточно, чтобы уличить девушку в колдовстве, тем более что обвиняемая была еврейкой.
Гроссмейстер собрал мнения своих советчиков и торжественно спросил Ревекку, что она может сказать против смертного приговора, который он намерен сейчас произнести.
– Взывать к вашему состраданию, – сказала прекрасная еврейка голосом, дрогнувшим от волнения, – было бы, как я вижу, напрасно и унизительно. Объяснять вам, что лечение больных и раненых не может быть неугодно Богу, в которого все мы верим, было бы тщетно. Доказывать, что многие поступки, в которых обвиняют меня эти люди, совершенно невозможны, бесполезно: по-видимому, вы верите в их возможность. Точно так же бессмысленно оправдываться в том, что моя одежда, мой язык и мои привычки чужды вам, ибо свойственны моему народу – я чуть не сказала: моей родине, но, увы, у нас нет отечества. В свое оправдание я не стану даже разоблачать моего притеснителя, который стоит здесь и слышит, как на меня возводят ложное обвинение, а его из тирана превращают в жертву. Стало быть, бесполезно было бы пытаться обратить против него возведенные на меня обвинения. Но я спрашиваю его – да, Бриан де Буагильбер, я обращаюсь к тебе самому – скажи, разве все эти обвинения не ложны? Разве все это не самая чудовищная клевета, столь же нелепая, как и смертоносная?
Наступило молчание. Взоры всех устремились на Бриана де Буагильбера. Он молчал.
– Говори же, – продолжала она, – если ты мужчина, если ты христианин! Говори! Заклинаю тебя одеянием, которое ты носишь, именем, доставшимся тебе в наследие от предков, рыцарством, которым ты похваляешься. Честью твоей матери, могилой и прахом твоего отца! Молю тебя, скажи: правда ли все, что здесь было сказано?
– Отвечай ей, брат, – сказал гроссмейстер, – если только враг рода человеческого, с которым ты борешься, не одолел тебя.
Буагильбера, казалось, обуревали противоречивые страсти, которые исказили лицо его судорогой. Наконец он смог только с величайшим усилием выговорить, глядя на Ревекку:
– Письмена, письмена…
– Вот, – молвил Бомануар, – вот это поистине неоспоримое свидетельство. Жертва ее колдовства только и могла сослаться на роковые письмена, начертанные заклинания, которые вынуждают его молчать.
Но Ревекка иначе истолковала эти слова. Мельком взглянув на обрывок пергамента, который она продолжала держать в руке, она прочла написанные там по-арабски слова: «Проси защитника».
Гул, прошедший по всему собранию после странного ответа Буагильбера, дал время Ревекке собраться с мыслями.
Когда шепот замолк, гроссмейстер возвысил голос.
– Ревекка, – сказал он, – никакой пользы не принесло тебе свидетельство этого несчастного рыцаря, который, видимо, все еще находится во власти Сатаны. Что ты можешь еще сказать?
– Согласно вашим жестоким законам, мне остается только одно средство к спасению, – сказала Ревекка. – Правда, жизнь была очень тяжела для меня, по крайней мере в последнее время, но я не хочу отказываться от Божьего дара, раз Господь дарует мне хоть слабую надежду на спасение. Я отрицаю все ваши обвинения, объявляю себя невиновной, а ваши показания ложными. Требую назначения Божьего суда, и пусть мой защитник подтвердит мою правоту.
– Но кто же, Ревекка, – сказал гроссмейстер, – согласится выступить защитником еврейки, да еще колдуньи?
– Бог даст мне защитника, – ответила Ревекка. – Не может быть, чтобы во всей славной Англии, стране гостеприимства, великодушия и свободы, где так много людей всегда готово рисковать жизнью во имя чести, не нашлось человека, который захотел бы выступить во имя справедливости. Я требую назначения поединка. Вот мой вызов.
Она сняла со своей руки вышитую перчатку и бросила ее к ногам гроссмейстера с такой простотой и с таким чувством собственного достоинства, которые вызвали общее изумление и восхищение.
Глава XXXVIII
Красота и выражение лица Ревекки произвели глубокое впечатление даже на самого Луку Бомануара. Он дважды осенил себя крестным знамением, как бы недоумевая, откуда явилась такая необычайная мягкость в его душе, в таких случаях всегда сохранявшей твердость несокрушимой стали. Наконец он заговорил.
– Девица, – сказал он, – если та жалость, которую я чувствую к тебе, есть порождение злых чар, наведенных на меня твоим лукавством, то велик твой грех перед Богом. Но думаю, что чувства мои скорее можно приписать естественной скорби сердца, сетующего, что столь прекрасный сосуд заключает в себе гибельную отраву. Покайся, дочь моя, сознайся, что ты колдунья, отрекись от своей неправой веры, облобызай эту святую эмблему спасения, и все будет хорошо для тебя – и в этой жизни, и в будущей. Поступи в одну из женских обителей строжайшего ордена, и там будет тебе время замолить свои грехи и подвергнуться достойному покаянию. Сделай это – и живи. Чем тебе так дорог закон Моисеев, что ты готова умереть за него?
– Это закон отцов моих, – отвечала Ревекка, – он снизошел на землю при громе и молнии на вершине горы Синай из огненной тучи. Если вы христиане, то и вы этому верите. Но, по-вашему, этот закон сменился новым, а мои наставники учили меня не так.
– Пусть наш капеллан выступит вперед, – сказал Бомануар, – и внушит этой нечестивой упрямице…
– Простите, – кротко промолвила Ревекка, – но я не умею вести религиозные споры. Однако я сумею умереть за свою веру, если на то будет воля Божия. Прошу вас ответить на мою просьбу о назначении суда Божьего.
– Подайте мне ее перчатку, – сказал Бомануар. – Вот поистине слабый и малый залог столь важного дела, – продолжал он, глядя на тонкую ткань маленькой перчатки. – Видишь, Ревекка, как непрочна и мала твоя перчатка по сравнению с нашими тяжелыми стальными рукавицами, – таково и твое дело по сравнению с делом Сионского Храма, ибо вызов брошен всему нашему ордену.
– Положите на ту же чашу весов мою невиновность, – отвечала Ревекка, – и шелковая перчатка перетянет железную рукавицу.
– Стало быть, ты отказываешься признать свою вину и все-таки повторяешь свой смелый вызов?
– Повторяю, – отвечала Ревекка.
– Ну, да будет так, во имя Божие, – сказал гроссмейстер, – и пускай Господь обнаружит истину!
– Аминь! – произнесли все прецепторы, а за ними и все собрание хором повторило то же слово.
– Братья, – сказал Бомануар, – вам известно, что мы имели полное право отказать этой женщине в испытании Божьим судом, но хоть она и еврейка и некрещеная, все-таки она существо одинокое и беззащитное. Она прибегла к покровительству наших мягких законов, и мы не можем ответить ей отказом. Кроме того, мы не только духовные лица, но рыцари и воины, а потому для нас было бы позорно уклоняться от поединка. Следовательно, дело обстоит так: Ревекка, дочь Исаака из Йорка, на основании многочисленных веских улик обвиняется в том, что околдовала одного из благородных рыцарей нашего ордена, а в оправдание свое вызвала нас на бой – по суду Божию. Как, по-вашему, преподобные братья, кому следует вручить этот залог, назначив его в то же время защитником нашей стороны в предстоящей битве?
– Бриану де Буагильберу, – сказал прецептор Гудольрик, – тем более что ему лучше всех известно, на чьей стороне правда.
– Ты рассудил правильно, брат, – согласился гроссмейстер. – Альберт Мальвуазен, вручи этот залог Бриану де Буагильберу. Тебе, брат Бриан, поручаем мы это дело, дабы ты мужественно вступил в бой, не сомневаясь в том, что победа достанется правому. А тебе, Ревекка, чтобы найти себе защитника, мы даем два дня сроку.
– Да будет воля Божья, – молвила Ревекка. – Возлагаю на него все мое упование – у Господа одно мгновение имеет такую же силу, как целый век.
– Это ты хорошо сказала, девица, – заметил гроссмейстер, – но нам отлично известно, кто умеет принимать на себя ангельский образ. Значит, остается лишь назначить место, приличное для битвы, а также, если понадобится, и для казни. Где прецептор обители?
Альберт Мальвуазен, все еще державший в руке перчатку Ревекки, стоял возле Буагильбера и что-то горячо ему доказывал вполголоса.
– Как, – вскричал гроссмейстер, – он не хочет принимать залог?
– Нет, он хочет, хочет, он принял вызов, высокопреподобный отец, – отвечал Мальвуазен, проворно сунув перчатку под свою мантию. – Что же касается места для поединка, то, по моему мнению, для этой цели всего пригоднее ристалище святого Георгия, близ нашей прецептории.
– Хорошо, – сказал гроссмейстер. – Ревекка, на это ристалище ты должна представить своего защитника. Если же ты не исполнишь этого или если твой защитник будет побежден на суде Божьем, ты умрешь как колдунья, согласно приговору. Пусть наш суд и решение будут записаны и это решение прочитано во всеуслышание, дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления.
Один из капелланов встал и громко прочитал приговор гроссмейстера:
– «Ревекка, еврейка, дочь Исаака из Йорка, будучи обличаема в колдовстве, обольщении и иных пагубных деяниях против одного из рыцарей святейшего ордена Сионского Храма, не признала себя виновною; утверждает, что свидетельские показания, в сей день данные против нее, лживы, злостны и недобросовестны. Посредством законного отвода собственной особы, как непригодной для ратного дела, она предлагает выставить себе защитника, дабы решить дело Божьим судом, и ручается, что оный ее защитник сразится за нее по всем правилам истинных рыцарских законов и обычаев, в чем представила свой залог, приняв на себя ответственность за все расходы и убытки. Оный залог ее вручен благородному рыцарю Бриану де Буагильберу, члену святого ордена Храма, и рыцарь этот должен биться в помянутом поединке от имени своего ордена и ради собственной защиты, так как лично пострадал от порчи и вредоносных волхвований. А посему высокопреподобный отец и могущественный господин Лука, маркиз Бомануар, изволил удовлетворить означенное прошение и согласиться на замещение ее личности посредством полномочного заступника и назначил поединок на третий день от сего дня, а местом оного избрал ристалище в ограде святого Георгия, близ прецептории Темплстоу. Сверх того, гроссмейстер повелевает упомянутой Ревекке явиться на поединок в лице своего заступника, в противном же случае она подвергнется казни, установленной законом за колдовство и волхвования. Равно повелевает он явиться в назначенный срок на ристалище и защитнику ордена, угрожая провозгласить его в противном случае подлым предателем. При сем оный благородный лорд и высокопреподобный отец назначил помянутой битве состояться в его личном присутствии, с соблюдением всех правил и обычаев, пристойных для настоящего случая. И да поможет Бог правому делу».
– Аминь! – произнес гроссмейстер, а за ним повторили все присутствующие.
Ревекка ничего не сказала, но, сложив руки, устремила глаза к небу. Потом скромно напомнила гроссмейстеру, что следует дозволить ей снестись со своими друзьями, чтобы известить их о том положении, в котором она находится, и просить их отыскать защитника, который может за нее сразиться.
– Это законно и справедливо, – сказал гроссмейстер. – Избери сама посыльного, которому могла бы довериться, и мы дозволим ему свободный доступ в ту келью, где ты содержишься.
– Нет ли здесь кого-нибудь, – сказала Ревекка, – кто из любви к справедливости или за щедрое вознаграждение согласился бы исполнить поручение несчастной девушки?
Все молчали. В присутствии гроссмейстера никто не решался выказать участие к оклеветанной пленнице из опасения, что его могут заподозрить в сочувствии к евреям. Этот страх был так силен, что пересиливал даже охоту получить обещанную награду, а о чувстве сострадания нечего было и говорить. Несколько минут Ревекка в невыразимой тревоге ждала ответа и наконец воскликнула:
– Да неужели в такой стране, как Англия, я буду лишена последнего, жалкого способа спасти свою жизнь из-за того, что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников!
Наконец раздался голос:
– Хотя я калека, но все же кое-как могу двигаться благодаря твоей милосердной помощи, Ревекка. Я исполню твое поручение, – продолжал уже известный нам (а это был именно он) бывший работник Исаака, – я постараюсь поспешить, насколько могу при моем убожестве.
– Все в руках Божьих, – сказала Ревекка, дописывая послание, которое было разрешено ей. – Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев. А для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола. Отыщи Исаака из Йорка. Вот тебе деньги, тут их довольно для уплаты за лошадь. Не знаю, быть может, само небо внушает мне это чувство, а только я убеждена, что не этой смертью мне суждено умереть. Прощай. Жизнь и смерть моя зависят от твоего проворства.
Калека принял из ее рук письмо на еврейском языке. Многие в толпе уговаривали его не прикасаться к нечестивой записке. Но тот твердо решил оказать услугу своей благодетельнице. Она, по его словам, спасла ему тело, и он был уверен, что она не захочет погубить его душу.
– Я достану себе, – сказал он, – добрую лошадь и поскачу в Йорк.
Но, по счастью, ему не пришлось далеко ехать: за четверть мили от ворот прецептории навстречу гонцу попались два всадника, которых он по их одежде и высоким желтым шапкам тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, он с радостью увидел, что один из них был его прежний хозяин Исаак из Йорка, а другой – раввин Бен-Самуэль.
Он остановился и, не зная еще, что сказать, протянул письмо Ревекки.
– Друг мой, – заявил раввин, – я не откажу тебе во врачебной помощи, но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Ступай прочь. Что это? У тебя, кажется, ноги больны? Но ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылки ты не годишься… но, брат, что с тобой? – воскликнул он, повернувшись к Исааку, который, уже успел развернуть письмо, поданное Хиггом, пробежал его глазами, вследствие чего испустил глубокий стон и упал со своего мула на землю.
В великом смятении раввин сполз с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови, как вдруг Исаак ожил, сорвал с себя шапку и, схватив горсть дорожной пыли, осыпал ею голову. Сначала врач подумал, что столь внезапное и резкое проявление чувств есть признак умопомешательства, и еще раз взялся за ланцет, но вскоре убедился в противном.
– Дитя моей печали! – воскликнул Исаак. – Зачем, кому это нужно, чтобы твоя смерть свела меня в могилу и чтобы я в отчаянии скорбящего сердца, умирая, проклинал Бога?
– Брат, – сказал потрясенный раввин, – ты ли произносишь такие слова, будучи отцом во Израиле? Ведь дочь твоя, надеюсь, еще жива?
– Жива, – ответил Исаак, – но она в плену у этих дьяволов, и они обрекли ее на жестокую казнь, не пощадив ни юности ее, ни дивной красоты! А она ли не была венцом пальмовым, украшавшим свежей зеленью мою седую голову… И она должна увянуть?! Дитя любви моей! Дитя моих преклонных лет! О Ревекка, дочь Рахили! Смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью!
Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски:
– «Исааку, сыну Адоникама, называемому Исааком из Йорка, привет, да будет с тобой мир и благословение, обетование да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, чего не ведала душа моя, – за колдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем, по обычаю назареян, на ристалище близ Темплстоу на третий день от сего дня. Быть может, Бог отцов наших даст ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно, пусть девушки нашего племени оплачут меня как умершую, ибо я погибну, как олень, пораженный рукою охотника, и как цветок, срезанный косой земледельца. А потому подумай, что можно сделать и есть ли возможность меня спасти. Есть один такой воин из назареян, который мог бы взяться за оружие в мою защиту. Это Уилфред, сын Седрика, именуемый Айвенго. Но он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее дай ему знать об этом, ибо он пользуется любовью и почетом среди могучих сынов своего племени, а потому сможет найти мне защитника среди своих товарищей. И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревекка в живых или умрет, она неповинна в том грехе, в котором ее обвиняют. И если такова будет воля Божия, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролитий и жестокостей, но отправляйся в Кордову, ибо жестокость мавританского народа к сынам Иакова далеко не столь ужасна, как жестокость назареян».
Как только Бен-Самуэль окончил чтение, Исаак снова начал, раздирая на себе одежды, посыпать голову пылью и восклицать:
– О, дочь моя, дочь моя! Плоть от плоти моей! Кость от костей моих!
– Ободрись, – сказал раввин, – криками не поможешь, ступай, ищи этого Уилфреда, сына Седрика. Может быть, он окажет тебе помощь если не личной доблестью, то хоть советом, ибо этот юноша, я слышал, весьма угоден Ричарду, прозванному Львиным Сердцем, а по стране все упорнее распространяются слухи, что он воротился. Может быть, юноша выпросит у него грамоту за его подписью и печатью с повелением остановить злодеяние кровожадных людей, которые осмелились присвоить святое имя Храма своему ордену.
– Я отыщу его, – сказал Исаак, – отыщу, ибо он хороший юноша и питает сострадание к гонимым сынам Иакова. Но он еще не в силах владеть оружием, а какой же другой христианин захочет сразиться за угнетенную дочь Сиона?
– Ах, – сказал раввин, – ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан! Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфреда Айвенго. Я же отправлюсь в Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужи, и, без сомнения, найду среди них охотника сразиться за твою дочь. Ибо золото – их божество, и они готовы из-за денег во всякое время прозакладывать свою жизнь. Скажи, брат мой, ведь ты не отступишься от обещаний, какие мне придется, быть может, предложить им от твоего имени?
– О, конечно, брат! – отвечал Исаак. – И благодарю Создателя, давшего мне утешителя в моей скорби. Однако ты не соглашайся сразу на всякое их требование, потому что таково свойство этих людей, что они запрашивают фунты, а потом согласны принять и унции. Впрочем, поступай как тебе угодно, ибо я совсем потерял голову, и к чему мне будет все мое золото, если погибнет дитя любви моей?
– Прощай, – сказал лекарь, – и да сбудется все, как того желает твое сердце.







