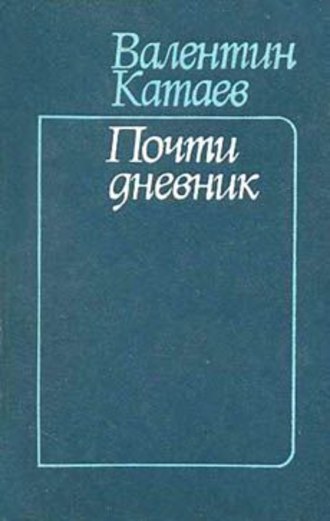
Валентин Катаев
Почти дневник
Я затаив дыхание слушал эту простую и поразительную историю.
На прощание я крепко пожал руку Михаилу Туганову – замечательному мастеру цирка, замечательному командиру Красной Армии, человеку большой души, патриоту, гвардии капитану и кавалеру двух орденов.
Я ехал домой по грязной лесной дороге. Лошадь с трудом вытаскивала из грязи копыта. Копыта хлопали, как пробки. Шел дождь. Бурка намокла. Вода текла по коленям. За мной ехал коневод. Но вот он поравнялся со мной и сказал:
– Вам не рассказывал капитан Туганов, как его спасла профессия циркача во время одной из наших операций?
– Нет, не рассказывал.
– Ну да, он очень скромный человек. Он никогда не говорит о своих боевых подвигах. Но вы должны знать, как писатель. Вы непременно должны знать. Я вам сейчас расскажу.
– Расскажите.
И он мне рассказал замечательный случай из боевой практики бывшего циркового артиста, ныне конногвардейца Михаила Туганова:
– Однажды во время операции на Западном фронте, во время сильных боев, когда дислокация наших и вражеских частей была неясна, капитан Туганов один, на коне, по ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. Капитан Туганов доехал до середины села и только тогда заметил, что попал в расположение немцев. Он был в бурке, в красном башлыке. Немцы открыли по нему страшный огонь из автоматов. Туганов повернул коня и помчался карьером назад. Пули свистели вокруг, пробивая бурку. Тогда Туганов сделал вид, что его убили. Он свалился с седла и повис на стременах под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки. Немцы, уверенные в том, что казак убит, прекратили стрельбу и погнались за лошадью. Но лошадь хорошо была дрессирована. Она, не снижая аллюра, вынесла капитана Туганова из села. Тогда капитан вскочил на седло и умчался, как вихрь, в развевающейся бурке и в развевающемся алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно. Пули не долетали. Так мастерство циркача спасло ему жизнь.
Пятый день шел дождь. Небо было темного, порохового цвета. На его фоне очень мокрая зелень лугов, полей и лесов казалась особенно яркой. Она почти резала глаза. Мимо нас проезжали всадники, закутанные в мокрые бурки или плащ-палатки. От мокрых лошадей шел пар. Все это, вместе со звуками гремящего вдалеке боя, вызывало необычайно сильное и острое впечатление весны и войны. Ядовито желтые лютики пылали в мокрых лугах.
Я ехал и думал:
«Да, таков гвардии капитан Туганов!»
1942 г.
Во ржи
Сначала мы шли пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую рожь. Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение. Несколько бойцов лежали в маленьких уютных гнездах, устланных свежей соломой. Бронебойщик-казак, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового оружья – тонкий и неестественно длинный с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх шлемов на них были надеты широкие соломенные «абажуры», а на некоторых – сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на рыбаков со старинных рисунков.
Вчера здесь были немцы. Ночью их выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронебойщиков. К ним-то мы и попали.
Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они снова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли. Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции. Отсюда до немцев было не более полукилометра «ничьей земли».
– А где же наша пехота? – спросил я.
– Она сейчас подойдет, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля.
Гвардии генерал был в простом, защитном комбинезоне, из штанов выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал подозвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках. Генерал и артиллерийский офицер стали в два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы. По мнению генерала, там была батарея, по мнению артиллерийского офицера, – две засеченные еще вчера пушки.
– Карту! – сказал генерал и не оборачиваясь протянул назад руку.
В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потертая, вся меченая-перемеченная карта, сложенная, как салфетка. Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями, разгладил ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.
– Прикажите кинуть туда штучки четыре осколочных, – сказал он. – Может быть, они ответят.
– Есть четыре осколочных!
Артиллерийский офицер пополз к своей рации. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста, с тремя длинными треугольными зелеными листками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.
В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.
– Мина! – негромко крикнул кто-то.
И в тот же миг раздался злой, отрывистый, крякнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле, ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и горелым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.
– Живы? – сказал генерал.
– Живы! – ответило несколько голосов.
– Плохо маскируетесь, – сказал сердито генерал. – Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать. Понятно? Ройте щель, только как следует, на полный профиль.
Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.
– Ищет, – сказал кто-то.
– Только не находит.
– Формалист, – сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. – Формально стали воевать фрицы. Дайте перископ.
И тотчас в его руке очутился небольшой перископ. Генерал пополз далеко вперед, – мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, – лег там и высунул изо ржи вверх зеленую палочку перископа.
Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко и далеко, и справа и слева. Но на них уже больше никто не обращал особенного внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное уже дело случая.
Закончив работу с картой, генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления. Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, уже занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.
Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой стороны велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме. Стреляли все виды оружия. Далеко, в тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь где-то в самом центре этой разнообразной канонады, люди привычным ухом и совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть даже смертелен, а какой нет. Все «безопасные» звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимание, существовали где-то как бы на втором плане. Все звуки «опасные» в свою очередь делились на просто опасные и смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место. Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на наши соседние дороги с большой высоты и очень неточно, – он почти не привлекал внимания, так как непосредственно нам не угрожал, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов. Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал наше внимание, хотя был назойлив и громок. Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или спрыгнуть в щель. Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бреющем полете «мессершмитта», – что-то черное, желтое, как оса, с крестами. Он проносился над нашим полем, паля из всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли. Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца. Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:
– Наши.
И непременно какой-нибудь пессимист отвечал:
– Немецкие.
Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором – он это знал лучше всех – через пять минут будет твориться нечто невероятное, генерал велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром.
– Ну, как самочувствие?
Командиры двух батальонов подошли к телефону тотчас же. Третий не подошел. Вместо него подошел его заместитель.
– Я просил не заместителя, а самого командира, – строго сказал генерал.
«– Товарищ седьмой, двадцать пятый лично подойти не может.
– Почему?
– Он намыленный!
– Чем?
– Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет закончено полностью через три минуты. Прикажете прекратить или разрешите добриться?.
– Хорошо. Пусть добреется, – улыбаясь, сказал генерал.
После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощины на гору. Гвардейцы шли во весь рост, широкой цепью по пестрому – малиновому, лиловому, зеленому – клеверному полю. В стальных касках с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах кто пулемет, кто трубу миномета, кто ящик с патронами или минами, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.
– Ложитесь, черти! – крикнул молоденький смуглый офицер связи с пыльным лицом и детскими каплями пота на подбородке.
Они не слышали.
– Ложитесь! Ползите!
Несколько мин разорвалось между ними и нами. Они переглянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шагу. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на склоне цветущего холма, на громадном фоне знойного, пыльно-голубого орловского неба, заваленного грудами движущихся перламутровых облаков.
– Орлы! Гвардейцы, – сказал генерал с восхищением.
Рота побежала мимо нас, вернее – через нас, в сторону неприятеля, и шагах в сорока залегла.
– Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют мерзавцев из их узла сопротивления. У нас сейчас такая тактика. Артиллерия, авиация и танки врываются в брешь и развивают успех… Чем, между прочим, и объясняется, – прибавил он не без ехидства, – что вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь, и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади.
Я ничего не успел ответить, так как стрелка больших генеральских часов, по-видимому, коснулась заветной Цифры.
Описать следующие десять минут я не имею ни надлежащих красок, ни таланта. Это был великолепный, молниеносный артиллерийский шквал. Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволокло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало. И как завершение этой десятиминутной симфонии вспыхнул огонь гвардейских минометов. Это был мощный аккорд. Тогда поднялась пехотная цепь.
– За Родину, за партию! – крикнул чей-то хриплый голос.
И мы услышали протяжное, раскатистое «ура». Грянули пулеметы, автоматы…
– Пошли, орлы, – сказал генерал и вскочил на бруствер.
А через полчаса телефонист закричал снизу, из своего окопчика, осипшим счастливым голосом:
– Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.
– Вижу, вижу, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля. – Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают фрицы? Могу вам доставить это удовольствие.
И он протянул мне свой бинокль. На среднем и дальнем плане катилась пыль. Это, очевидно, неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища!
– Первое отделение нашей программы закончено, – сказал генерал, вытирая со лба и с носа черный пот. – А теперь надо поскорее ехать на правый фланг, в район железной дороги. Адъютант, машину!
Мы покинули наше чудесное ржаное поле и стали спускаться в лощину. Теперь мы шли по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на плотную, рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнились «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».
1943 г.
Труба зовет
Ночь. Пустынные лестницы. Гулкие коридоры. Следы недавно законченного ремонта. Запах краски, извести. Скупой свет дежурных лампочек. Последняя ночь перед началом занятий. Завтра ровно в шесть часов тридцать минут прозвучит труба. Ее повелительный и раскатистый звук возвестит новый день – не только первый день упорной учебы и настойчивого труда, а день новой жизни. Новую жизнь начинают четыреста восемьдесят мальчиков, воспитанников Калининского суворовского военного училища. Синяя заря позднего зимнего утра будет для них зарей новой жизни. А пока они крепко и сладко спят.
Обходим спальни.
Здесь все новое. Новые кровати. Новые одеяла. Новые тумбочки, пахнущие свежей краской. Разметавшись во сне, спят остриженные под машинку чудесные мальчишки исконных, коренных областей русских – Калининской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, Московской, – цвет будущего нашего кадрового офицерства.
На тумбочках и табуретках строго по инструкции сложены их новенькая форменная одежда, белье, обувь.
Печи жарко натоплены. Некоторые мальчики скинули с себя одеяла. При слабом свете зашторенной лампочки шелковисто и смугло блестит чье-нибудь еще не вполне сформировавшееся, детское плечо. Здесь оно вырастет, разовьется, окрепнет, станет могучим плечом офицера.
Но вот раннее утро. Шесть тридцать. Резкие звуки трубы летят по лестницам, по коридорам, забираются в самые отдаленные уголки здания.
Мгновенно, с волшебной быстротой, ночная тишина превращается в бодрый гул утра. Слышатся смутные голоса, шум, звуки быстрой беготни по лестницам. Ровно через десять минут роты одна за другой, твердо отбивая шаг, выходят со своими офицерами во двор.
Во дворе еще темно. Еще совсем ночь. Смутно сияет снег. Деревья стоят, как седые облака.
Звонкие голоса офицеров выкрикивают команду утренней зарядки. Воспитанники вышли во двор в одних гимнастерках, без поясов. Но им ничуть не холодно. Бодрой утренней свежестью веет от их смуглых и темных лиц. Они быстро приседают, выбрасывают руки, поднимаются на носки. Воспитанники четвертой роты делают зарядку четко и точно, с настоящим военным щегольством. Это «старики». Им уже по тринадцать лет. Возраст почтенный! Но зато ужасно суетятся и мельтешат воспитанники приготовительного и младшего приготовительного классов. Эти восьмилетние малыши в своих длинных черных брюках с узкими лампасами, гимнастерках, черных каракулевых ушанках и красных погонах необыкновенно оживляют картину утренней зарядки.
Через десять минут зарядка окончена. Труба. Роты беглым шагом возвращаются в свои помещения.
Начинается туалет. Голые по пояс, с полотенцами на шеях, толпятся воспитанники возле умывальников, моются, вытираются, чистят зубы. Потом быстро одеваются, заправляют друг другу сзади гимнастерки, чистят друг друга. Все стараются быть особенно аккуратными и подтянутыми.
Ритм суворовского училища – четкий, быстрый, военный ритм – уже всецело овладел ими и несет их по графику от трубы к трубе, от команды к команде.
– Направо равняйсь!… Смирно!… Направо! – голос офицера-воспитателя звучит строго, отрывисто, резко. – Шагом марш!
В строю, твердо печатая шаг, роты спускаются по лестнице в столовую, к первому завтраку. Чтобы рота не наскакивала на роту где-нибудь на повороте, воспитанники дают шаг на месте. Шарканье шага на месте наполняет этажи, коридоры и лестницы здания.
В столовой воспитанники едят, заложив за воротники белоснежные салфетки. Все очень чисто, прилично, пристойно. Никакой суеты, никаких лишних разговоров. Завтрак хорош: молоко, чай, хлеб, масло.
Снова труба. Начальник училища генерал-майор Визжилин входит в зал, где собрались воспитанники училища.
– Встать, смирно!
Четыреста восемьдесят мальчиков в черных форменных костюмах с золотыми пуговицами и красными погонами вскакивают с новеньких желтых клубных стульев. Дежурный по училищу рапортует:
– Товарищ генерал-майор, вверенное вам училище в составе четырех рот и двух приготовительных классов собрано на митинг по вашему приказанию. Капитан Пименов.
– Здравствуйте, товарищи воспитанники!
– Здравия желаем, товарищ генерал! – в четыре счета отрывисто и лихо чеканят воспитанники.
Я смотрю на них – на маленьких, больших, коренастых, тоненьких, озорных, спокойных, всяких, таких разных и таких одинаковых в своей новенькой форме, подхваченных одной волной воинской дисциплины, и думаю: вот оно, будущее нашей армии, а значит, и нашей Родины.
Среди этих мальчиков, которые стоят с книжками и тетрадками в руках, я вижу двух внуков Чапаева, сына легендарного капитана Гастелло, племянника Орджоникидзе, сына Героя Советского Союза Кошубы. Среди этих мальчиков немало участников Великой Отечественной войны. Иные из них награждены медалями.
Одиннадцатилетий воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли фашисты в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл. Это можно было сделать только в одном месте, где через болото шла тайная тропа. Знакомым путем юный партизан благополучно провел в тыл врага своих старших боевых товарищей. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». Узнав об этом подвиге, командир дивизии генерал-майор Мищенко усыновил Колю. Теперь юный герой попал в суворовское училище.
…Генерал-майор Визжилин объявляет о начале занятий и провозглашает суворовское «ура» в честь Советского правительства.
Бурная овация. Гремит оркестр. Под звуки марша роты расходятся по светлым, просторным классам. Здесь воспитанники будут заниматься математикой, географией, русским языком, иностранными языками, военной подготовкой.
Минутная тишина. И опять труба, возвещающая начало уроков. Новая жизнь началась,
1943 г.
В Молдавии
(Путевые заметки)
Летим на Второй Украинский. Много рек уже перелетел наш самолет. Северный Донец. Днепр. Ингул…
Погода сомнительная. То ясно, то вдруг туман, дождь, снег…
После Умани неожиданно сильный снежный буран. Сквозь белые газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся, вокруг уже ничего не видно – метет, крутит, слепит, валит с ног…
Приходится ждать погоды.
Идем по Умани. Идти трудно. Мешает брошенная немецкая техника. Ею буквально забиты все улицы, площади, скверы, переулки. Трудно себе вообразить, сколько вокруг всех этих «тигров», «пантер», «фердинандов», тягачей, транспортеров, пушек, легковых и грузовых автомобилей. Это был настоящий погром.
Здесь фашистские дивизии, разбитые наголову войсками Второго Украинского фронта, бросили все. Отсюда гитлеровцы бежали на запад, оставляя в грязи чемоданы, шинели, сапоги. Фрицы бежали босиком. Я думаю, ни одна армия в мире еще не драпала так позорно, как гитлеровская армия зимой и весной этого года.
Сразу видно, какая здесь была суета, паника.
Вот тяжелый немецкий танк, наскочивший на уличный трансформатор. Трансформатор рухнул и загорелся. Загорелся и «тигр». Так они и стоят, страшные, обгорелые, как немые свидетели фашистского драпа.
Но все это уже позади. Фашистские танки, нацистские штаны, немецкие сапоги и гитлеровская «слава» остались на беспредельных украинских шляхах.
И через советскую Умань все идут и идут на запад, подтягиваясь к передовой, тылы славного Второго Украинского фронта маршала Конева.
И опять летим. И опять под нами широко расходятся туманно зеленеющие украинские поля, черные шляхи, усеянные брошенной немецкой техникой.
А вот и Днестр.
Стиснутый высокими, крутыми берегами, он быстро, извилисто течет, вздувшийся свинцовой весенней водой.
Здесь гораздо теплее, суше. Чувствуется юг.
Самолет идет на посадку, но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх. Мы опять делаем круг над селом. Внизу поворачивается маленькая быстрая речка. По ее мутной поверхности бегут лиловые водоворотики. Поворачивается зеленый луг. Поворачивается высокий, палевый, прошлогодний камыш. Каруселью несется небо, полное круглых пасхальных облаков.
Мы низко пролетаем над белым кубом новой мельницы. Возле нее видны волы и подводы с мешками. Мелькают соломенные и цинковые сады, церковь, длинный железнодорожный мост, по которому ползут наши танки.
Большой термометр, прикрепленный к стойке крыльев, показывает десять градусов выше нуля. Тепло. Самолет опять идет на посадку.
Самолет окружают дети – чудные молдаванские парнишки в высоких бараньих шапках, коричневых домотканых свитках и штанах, босые, с карими веселыми глазами и зубками, белыми и крепкими, как молодая кукуруза. Эти мальчишки смотрят на наш самолет как на величайшее чудо. Радостно приветствуют прибывших. Так они встречали своих освободителей, воинов Красной Армии, в 1940 году.
С 1941 года захватчики держали трудолюбивый, умный и талантливый молдавский народ, вновь попавший в кабалу, на положении рабов. Цветущую страну они превратили в колонию. Румынская «метрополия» у молдавского народа умела только брать. А сама ничего не давала.
Трудно поверить, что в Европе, в середине XX века, в цветущем и богатом селе, вы не найдете пары сапог, носового платка, десяти метров ситца, – я уж не говорю о патефоне, велосипеде, швейной машине, радио, газете – то есть о всем том, что прочно вошло в быт народов Советского Союза.
Впрочем, и сами «господа» румынские бароны, эти маленькие хищники, в свою очередь являлись аграрным придатком еще более сильного хищника – немецкого империализма. Так что молдавский народ изнемогал под двойным прессом. Из молдавского народа выдавливали все его жизненные соки с двух сторон. С одной стороны его жали румынские помещики, с другой стороны – немецкие фашисты.
Единственная мельница, которую мы заметили с воздуха, принадлежала немцу. Немец был монополист. Он держал в своих руках всю округу, этот кулак и живодер. Он опутал своими сетями всех. От него зависел каждый местный земледелец. Все были у него в долгу. Все снимали шапки и низко ему кланялись.
Теперь Красная Армия освободила село. Немец-мельник сбежал. Он даже не успел разрушить мельницу – так стремительно наступала Красная Армия! Немец бежал, теряя штаны и высунув язык. Он оставил свой дом, лучший дом в селе, выстроенный с покушением на «стиль» – с террасой, со столбиками и стенами, выкрашенными масляной краской под мрамор. Он оставил свою контору со столами и стульями «модерн», свой несгораемый шкаф, свои бухгалтерские книги, списки своих должников.
Теперь в его доме остановился командир подразделения штурмовиков гвардии подполковник Шундриков.
На полу разостлана громадная карта. Подполковник Шундриков входит в комнату с большой вешалкой. Он накладывает ее на карту. Она служит линейкой. Он проводит по линейке красным карандашом черту. Это новый курс на Кишинев, на Яссы.
– Не угонишься за пехотой. Скоро и карты не хватит, – говорит Шундриков, – надо новые листы подклеивать.
Сквозь открытое окно врывается шум моторов. Подполковник мельком смотрит на небо:
– Наша пара возвращается с разведки. Садятся.
Через пять минут в комнату входит пилот в шлеме, в комбинезоне, в унтах, с большим целлулоидным планшетом у колена.
– Товарищ гвардии подполковник, с разведки вернулся лейтенант такой-то. Разрешите доложить?
– Докладывайте. Где были? Что заметили?
– Пересек Прут, Жижию, дошел до Ясс, прошелся на запад вдоль железки.
– Ну, что там видать?
– На станции стоят пять составов.
– Вчера ж было семь?
– Два состава ушли.
– Зенитная артиллерия бьет?
– Бьет, но слабо.
– А что на дорогах?
– Маленькое движение.
– Туда или оттуда?
– Главным образом оттуда.
– Понятно. Балочки хорошо просмотрели?
– Балочки просмотрел хорошо. В квадрате девятнадцать – сорок восемь обнаружил обоз и обстрелял. Ну и паника там поднялась! Кто куда… Разбежались во все стороны.
– Правильно, – сказал Шундриков. – Это им не сорок первый год, когда у них было превосходство в воздухе.
Глаза подполковника Шундрикова весело сверкают.
Не завидую я фрицам, которые встретятся с Шундриковым на земле или в воздухе. Это прирожденный воздушный боец. Штурмовик до могза костей. Человек железного мужества, стремительных решений, он беззаветно храбр, грозен в бою, беспощаден к врагам и доброжелателен, даже нежен, к своим товарищам.
Он выглядит очень молодо. В нем есть что-то мальчишеское, задорное, почти детское. Он худощав, строен, быстр в движениях. Его руки, привыкшие к штурвалу, постоянно работают. Если он рассказывает что-нибудь, особенно какой-нибудь боевой эпизод, его узкие, гибкие ладони ловко и быстро изображают все то, о чем он говорит.
Он командует подразделением штурмовиков. Шундриков идет на самые ответственные, самые опасные задания.
…Немцы сильно бомбили с воздуха одну из наших переправ на Днестре. Над Днестром стоял туман. Но для Шундрикова не существует нелетной погоды. Он сел на свой ИЛ и с группой штурмовиков пошел громить гитлеровцев. Он обрушился на «юнкерсы», повисшие над переправой. Он разогнал их и барражировал до тех пор, пока наша пехота не переправилась на западный берег.
Тем временем гитлеровцы вызвали свою истребительную авиацию, и только на одного Шундрикова ринулось четыре «мессера». Шундриков и его группа в этом бою показали высокий класс летного искусства. Шундриков обманул «мессеров». Он ушел от них на бреющем полете, по балкам, по лощинам, делая зигзаги, петляя, и в конце концов замел свои следы и скрылся.
В тот день, когда я познакомился с подполковником Шундриковым, он сидел за столом на командном пункте и занимался подготовкой перевода своего подразделения на новую точку, на запад. Позвонил телефон. Шундриков взял трубку:
– Алло! «Незабудка» у телефона… Здравия желаю!… Как?… Газету? За девятое апреля?… Нет, еще не читал! Никак нет. Все время в движении… Так точно… Сводку по радио? Никак нет. Не принимал.
Шундриков некоторое время внимательно слушал, прижав трубку к уху, и вдруг побледнел, встал, вытянулся.
– Служу Советскому Союзу, – сказал он, отчетливо произнося каждое слово, и глаза его странно блеснули.
Он снова стал слушать и через некоторое время снова повторил:
– Служу Советскому Союзу. Так точно. Понимаю.
Он еще немного послушал и потом аккуратно положил трубку на стол, на карту, рядом с кожаным ящиком аппарата. Он сел, вытер со лба пот и вдруг улыбнулся счастливой, озорной, мальчишеской улыбкой.
Все офицеры, которые были в это время в хате, впились глазами в бледное, счастливое лицо своего командира.
– Что? Что такое? Награжден орденом?
– Нет, – сказал Шундриков.
Офицеры вопросительно переглянулись.
– Приказ Верховного Командования Маршалу Советского Союза Коневу, – сказал Шундриков, – и там написано: в боях за прорыв обороны противника и за форсирование реки Прут отличились войска таких-то и таких-то и в том числе летчики подполковника Шундрикова.
Шундриков встал:
– Поздравляю вас, боевые друзья! Поздравляю вас с наградой!
И все офицеры, летчики подполковника Шундрикова, вытянулись и четко произнесли:
– Служим Советскому Союзу!
Я остановился в чистой и прохладной молдаванской хате с глиняным мазаным полом, на котором были разостланы домотканые дорожки.
Перед вечером в комнату вошел хозяин. Это был крупный старый человек с коротко остриженной круглой головой и плохо выбритым твердым подбородком. И голова и подбородок его полуседые, черно-серого цвета. Усы и густые брови черные. Большими, грубыми руками он постелил на стол чистое серое холщовое полотенце с зелеными каемками, поставил на него миску с оранжевой дымящейся мамалыгой, миску с брынзой, кувшин и две кружки.
– Не угодно ли будет попробовать нашей молдаванской мамалыги и выпить нашего бессарабского вина собственного виноградника? – сказал он, старательно подбирая русские слова.
Как видно, он когда-то хорошо говорил по-русски, но забыл этот язык и напрягает память, чтобы вспомнить его.
Я поблагодарил и пригласил хозяина поужинать вместе со мной. Он, видимо, только этого и ждал. Ему хотелось поговорить.
Мы взяли, как это полагается по молдаванскому обычаю, руками по куску мамалыги, обмакнули ее в соленую брынзу и съели, запив розовым, кисленьким, душистым винцом.
Потом я вынул коробочку и предложил своему хозяину табаку. Он скрутил цигарку и с наслаждением затянулся.
– Давно не курил такого табачку, – сказал он.
– Вот тебе раз. Да ведь у вас в Молдавии родится отличный табак.
– Где там табак! Боже сохрани сеять табак! Строго запрещено. За каждый корень табака румынские правители накладывали штраф и сажали в тюрьму. У них монополия. Табак можно только покупать в лавочке. А самому сеять – боже сохрани! Но разве же в лавочке купишь?
– А что?
– Денег нет. Налоги задавили. Ничего у нас нет. Соли нет. Спичек нет. Материала никакого нет. Что своими руками можем сделать, то и есть. Видите?
И он показал на себя своей большой, как лопата, черной рукой землепашца.
И точно. Все на нем было самодельное: на ногах самодельные постолы из сыромятной кожи, сшитые кожаными нитками, домотканые шаровары, домотканая свитка.







