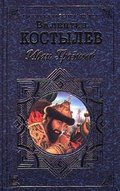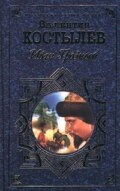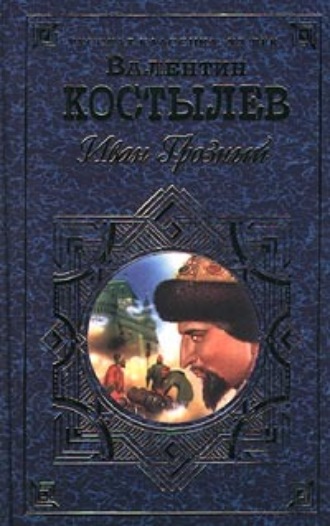
Валентин Костылев
Иван Грозный. Книга 2. Море
Мария Темрюковна помолилась на иконы:
– Помоги тебе Господь! – И добавила: – Завистливым они тебя обзывают, злобою великою пышут. Берегись, батюшка Иван Васильевич!
– Не все!
– Все, государь! Кому же в ум придет, чтоб землю свою отдавать? Кабы у отца моего кто землю посмел отнять, он убил бы того… проклял бы того навеки!..
Иван Васильевич задумался.
– Да, нелегко терять землю! Нелегко расставаться с родовыми уделами. Это надо понять!
– О том я и говорю, государь, – вздохнула царица.
– Но идти вспять не благословил меня Господь… До смерти буду идти тем путем… Бог поможет мне. Не отступлюсь!
II
В Москве, у Сивцева Вражка, городовой приказчик Семен Головня согнал толпу каменщиков, стенщиков и ломцов – тех, что восстанавливали разрушенные царскою осадою стены Казанской крепости. Тут же были резчики по камню из Новгорода и холмогорские работные люди. Царь Иван с особою любовью строил новые церкви и всячески поощрял мастеров-каменщиков. Еще в 1556 году писал он новгородским дьякам:
«Мы послали в Новгород мастера печатных книг Марушу Нефедьева, велели ему посмотреть камень, который приготовлен на помост в церковь к Пречистой и к Сретенью. Когда Маруша этот камень осмотрит, скажет вам, что он годится на помост церковный и лицо на него наложить можно, то вы бы этот камень осмотрели сами и мастеров добыли, кто б на нем лицо наложил, и для образца прислали бы к нам камня два или три. Маруша же нам сказывал, что есть в Новгороде, Васюком зовут, Никифоров, умеет резать резь всякую, и вы бы этого Васюка прислали к нам в Москву».
И теперь в толпе работных людей находились оба эти мастера: Маруша Нефедьев и Васюк Никифоров, а с ними и знаменитый колокольный мастер Иван Афанасьев из Новгорода.
У костра завязалась беседа.
Петька-новгородец, мускулистый, складно сложенный детина, жаловался: хлеба мало дают.
– Ты и без того што скала и ревешь почище быка… Без хлеба полгода проживешь… – пошутил над ним его товарищ Семейка, дрожа от сырости и холодного ветра.
Посмеялись, побалагурили.
– Где работано, там и густо, а в бездельном дому пусто, – проворчал, почесав затылок, резчик по камню дядя Федор. – Чего ради нагнали сюды народищу!.. Э-эх, приказные мудрецы! О нас плохо думают.
– Верно, дедушка, ихово то дело… Нас вот из Холмогор пригнали, а мы испокон века на Студеном море плаваем… суда водим купецкие, – тяжело вздохнул расстрига-монах, широкоплечий, косматый детина, одетый в сапоги из тюленьей кожи. Имя его – Кирилл Беспрозванный.
– То-то, братцы… Какие мы стройщики! Мы – мореходцы, – поддержал своего товарища холмогорский мужик Ерофей Окунь.
– Прижали нас попусту. И мзда не помогла.
– Што уж! Слыхали, чай: дерет коза лозу, а волк – козу, мужик – волка, приказный – мужика, а приказного – черт!
Расхохотались ребята. Понравилось.
– У нас так… – сказал, притоптывая лаптями по размякшему от весеннего солнца косогорью, похожий на ежа псковитянин Ермилка – малого роста, в тулупе наизнанку. – Службу служить, так значит: перво-наперво – себе, на-вторых – приятелям удружить… Добро прилипчиво… Воевода в городе, как мышь в коробе. Ежели им быть, так уже без меда не жить… Дудки! Одним словом, спаси, Господи, народ, – смеясь, перекрестился Ермил, – накорми господ!
Семен Головня, городовой приказчик, прислушавшись к разговору работных людей, насупился:
– Полно вам!.. Чего шумите?
И пошел.
– Ладно, новгородцы! Будем, как пучина морская… Молчите! – проговорил Кирилл Беспрозванный. – Я вот побил игумена, и за то расстригли… Пьяный был я… Во хмелю несговорчив. Да и вольный я человек, морской… Простор люблю… В келье скушно стало мне…
В хмурой задумчивости еще теснее столпились вокруг костра.
– Ишь, земля-то за зиму как промерзла, – покачал головою Окунь. – Словно у нас в Холмогорах.
– Земля не промерзнет, то и соку в ней не будет!.. – оглянувшись в сторону городового приказчика, громко сказал дядя Федор и тихо добавил: – Прорва, сукин сын!
– А сколько их, Господи! – заохал скорбно Ермилка.
– И что держат народ? Не понять, не разгадать!
– В том оно и дело: гнали – мол, батюшка-царь приказал торопиться, не мешкать… А пригнали – и ни туды и ни сюды… Топчемся по вся дни на Сивцевом Вражке. А для ча – неведомо.
Подошедший к костру Нефедьев, сделав страшные глаза, сказал тихо:
– Будто боярина какого-то ждут… А вот, вишь, он и не едет. Э-эх, Москва, Москва! Вот и вспомнишь батюшку Новгород.
– Истинно! – отрезали новгородцы. – Вспомянешь.
– А мы Студеное наше морюшко все с Кириллом поминаем… Э-эх, душа истосковалась по родным местам!.. – вздохнул Окунь.
– По окияну ходили и так не робели, как тут в Москве, – произнес расстрига. – Окиян нас кормил и поил без отказа, без упреков. Што хошь делай – раздолье!
Пошел хлопьями мокрый снег; ветер, пробегая по лужам, завивал снежок, разрывая огни костров. Кустарники и деревья, почерневшие от сырости, наполнились глухим рокотом.
– Зима ворчит, не хочет уступать весне! – засмеялся Окунь.
На площадь перед небольшой церковью прибыло множество бревновозов. Лошади астраханские, малого роста, узкобрюхие, с тяжелой головой, с короткой шеей, но крепкие и сильные. Увязая в грязи, они приволокли на телегах не только бревна, но и громадные куски белого камня и кирпича.
Неожиданно на паре лошадей, в закрытой повозке примчался Малюта Скуратов. Выйдя из возка, он неодобрительно осмотрел толпу мужиков. Одет в черный, подбитый мехом охабень с золочеными круглыми пуговицами на груди. Меховая шапка с красным бархатным верхом надвинута на лоб; у пояса изогнутая турецкая сабля.
Поманил пальцем городовых приказчиков.
– Пошто народ без дела толчется? – строго спросил он.
– Боярин Фуников уже второй день гоняет их сюда.
– Чьи они?
– Новгородские каменщики, стенщики, ломцы холмогорские тоже.
– Чего ради держат их без дела?
– Не ведаем, батюшко Григорий Лукьяныч.
– Боярин Фуников бывал ли?
– Третьи сутки ожидаем… Так и не привелось нам видеть его светлость.
– Недосуг, почитай, боярину Никите… Немало ему заботушки!.. Как мыслишь? – с хмурой улыбкой, как бы про себя проговорил Малюта. – Ну? Што народ говорит? Слыхал ли?
Головня развел руками, в одной из них держа шапку.
– Как сказать… – замялся он. – Мало ль што брешут черные люди. Мужичья душа темнее омута… Болтают они тут всяко.
– Не спрашивают ли: чего для пригнали их и што делать будут?
– Спрашивали…
– Ну?
– То мы ответим, кой раз и сами не ведаем ничего?..
– Бревен маловато.
– Дьяк Ямского приказа Ямскую слободу не тревожит. Хмельной он вчерась был… Дрался дубьем.
– А копачи прибыли?
– Нетути. В Земском приказе отказали: «Недосуг, мол, обождите!» Целую неделю, почитай, толку не добьемся. Посохом гонят.
– Боярину Фуникову жаловался?
– Жалобился, Григорий Лукьяныч, ходил в хорому его, жалобился.
– Ну, што ж он?
– Едва собаками не затравил. Гнушается нами. Обидно, Григорий Лукьяныч! С тобою, с ближним слугою царским, говорю честно, без лукавства. Лют тот боярин, лют. Коли был бы такой, как ты, дело бы скорее пошло… Боимся мы его… Боимся!..
Малюта глядел на Головню со спокойною, даже, как показалось приказчику, ласковой улыбкой.
– Ну, видать, сиротинушка, такова твоя доля. Ничего! Бог на небе, царь на земле. Уладится!
И пошел в ту сторону, где толпились мужики.
Подойдя к ним, поздоровался. Косматые шапки были быстро сдернуты с таких же косматых голов. В тихой покорности ребята склонились перед Малютою.
– Надевай шапки! Не икона! – добродушно рассмеялся он. – Ну, как, братцы, житье-бытье? Сказывайте без боязни.
– Бог спасет! Живем, докедова Господня воля. По привычке.
– Добро! Вишь, дело-то у нас не идет. Застоялось. Государь послал проведать вас.
– Хозяев нет, добрый человек, в этим вся суть. Никаким способом смекнуть не могим, пошто согнали нас. Студобит, да и голодно… Хлебом обижены. Обделяют.
– А мы и в толк взять не можем, пошто нас, мореходцев, пригнали сюды, – сказал Кирилл.
Малюта расспросил Беспрозванного и Окуня об их плавании по морям.
Холмогорцы с горечью жаловались Малюте на то, что их заставляют делать незнакомое им дело.
– Ладно. Обождите, – сказал им Малюта. Он стоял, задумавшись.
К месту беседы приближался Головня. Малюта кивнул ему головой, громко сказав: «Отойди!» Головня нехотя побрел прочь.
– Кто же вас хлебом обидел? – обратился Малюта к новгородцам.
– Не ведаем, добрый человек. Черные мы люди и не здешние. Токмо голодно нам тут, на Москве, опосля Новгорода… Не то уж! Далеко не то.
– Што же приказчик?.. Говорили вы ему?
– Много раз, Бог с ним! Говорили.
– А он што же?
– Буде, мол, роптать, не велено… Сколь царем положено, то и получайте!..
– Сколь положено? Много ль он дал?
– Полкаравая малого на душу.
Малюта вскинул удивленно брови. Поморщился. Промолчал. Мужики, уловив на его лице неудовольствие, осмелели. Дядя Федор выступил вперед, низко поклонился:
– До Бога высоко, до царя далеко! Где теперича нашему брату искать правды? В наше времечко у всякого Павла своя правда. Вот и ищи ее. У нас так: ни праведнику венца, ни грешнику конца. Мыкаемся-мыкаемся, а дальше плетей никак не уйдешь! Всяк норовит обидеть, обездолить. А как чуть што – на царя кажут… Так, мол, царь приказал. И наша душа ведь, родимый, не погана… христианская же… А главное – што ворам с рук сходит, за то воришек бьют! Вот оно в чем дело. Тут вся суть.
– Счищали вы плесень с камней?
– Какую, батюшка, плесень? Что-то не слыхали…
– Да и чем ее счищать, – рассмеялся дядя Федор. – Чудно што-то.
– Мы и камня-то не видим, – загалдели многие голоса. – Давно бы надо его навозить.
Спокойно выслушал Малюта мужиков, вида не показывая, что его трогают слова дяди Федора. Затем распрощался со всеми и быстро, не глядя ни на кого, пошел к возку.
После того как Малюта уехал, к новгородским работным людям подошел Семен Головня и стал с усмешечкой расспрашивать их, о чем беседовал с ними слуга царев Малюта Скуратович.
Ему ответил дядя Федор. Он сказал:
– Слушай:
В одном болоте жила-была лягушка,
По имени по отчеству – квакушка;
Вздумала лягушка вспрыгнуть раз на мост,
Присела да и завязила в тину хвост.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула хвост, да завязила нос.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула нос, да завязила хвост.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула хвост, да завязила нос.
Дергала, дергала…
Земляки дяди Федора дружно расхохотались. Головня не на шутку обозлился, сжал кулаки, чтобы ударить насмешника. А дядя Федор с улыбкой сказал:
– Полно, родимый!.. Это, чай, я про нас, а не про вас!
Головня замахнулся. В это время между дядей Федором и Головней стал великан-расстрига.
– Стой! – грозно надвинулся он на Головню. – Худчее будет, коли осерчаю! (Ругнулся крепко.)
Головня струхнул, отступил.
– Ишь ты!.. Водяной… Лешай… – бессмысленно проворчал он. – Обождите! Боярину на вас докажу. Мятежники…
Боярин Челяднин Иван Петрович, он же и Федоров, немалая сила в русском царстве. Он горд, и не столько знатностью и древностью своего рода, сколько своей начитанностью и умом. Сам Иван Васильевич не раз ставил его по уму выше всех бояр. И доверие царь, невзирая на многие несогласия с ним, оказывал ему большее, чем другим боярам.
И вот однажды, в воскресный вечер, сидя у себя в хоромах со своим другом и помощником, боярином Никитой Фуниковым-Курцовым, и предаваясь без устали потреблению хмельного заморского, Иван Петрович говорил медленно, с передышкой:
– Что есть власть?! Нетрудно с помощью происков и коварства достигнуть наивысшей силы, ибо нет сильнее страсти, нежели честолюбие. Самые великие мужи встарь добивались могучества в своем отечестве не внушением добра и совести, но наиболее – честолюбием.
Фуников, сонный, с отекшими от пьянства щеками и усталыми, бесцветными глазами, приложив ладонь к своей впалой груди, украшенной золотым крестом на цепочке, проговорил со вздохом:
– Истинно, батюшка Иван Петрович, истинно. Мудрый ты! Опять «царь приговорил с бояры». Ну, как я то услыхал, так меня ровно огнем охватило! Ровно паром обдало. «Царь приговорил с бояры…» Хе-хе-хе! Дескать, бояре захотели, штоб вотчины князей Ярославских – десять родов, да князей Суздальских – четыре на десять родов, да Стародубских – шесть родов, да Ростовских – два на десять родов, Тверских, Оболенских – четыре на десять родов, и иных служилых князей, штоб не мочны были их хозяева ни продать, ни заложить, ни променять, ни отдать за дочерьми и сестрами в приданое своих вотчин… Умрешь – и государю все!.. Вот уж истинно: ждала сова галку, а выждала палку!.. Шестьдесят родов! И все оное «царь приговорил с бояры». Хитро.
Челяднин и Фуников, прикрыв рот ладонью, с горечью захихикали.
– Ну и царек! Поутру резвился – к вечеру взбесился!.. Э-эх, кабы вина еще не было – и жить бы тогда не для чего, – промолвил Фуников. – Говорил я… дождемся, што всех нас истребят… Не послушали!
– Да это как будто и не ты говорил, а Миша Репнин.
– Помнится, быдто я… Надо бы тогда его успокоить. Случай был. А теперича жди, когда он на войну поедет.
Опорожнили свои кубки, запихнули в рот руками большие куски вареного мяса, пожевали, покраснев, вытаращив от напряжения глаза.
– Как ни верти, а придется нам наказать строптивого владыку. Кто не желал бы добра сыну покойного великого князя Василия Ивановича? Но сам он отвращает от себя. Сомнителен, жесток – вот в чем наша беда! Мудрый человек всякое дело ведет к своему благополучию. Иван Васильевич всякое дело свое ведет себе в ущерб, к своей гибели.
– Каждый день про то говорим, а все ни с места! – махнул рукой боярин Никита. – Нет уже тех из нас, кои дерзали… Один остался смельчак – Андрей Михайлович – и тот укрылся в Юрьеве подале от двора.
– Обожди, потерпи. Не теряй надежды! Бояре и князья свое возьмут… Князь Курбский притих не от страха… Нет! Он свое дело крепко знает. Не торопись. Мы свое возьмем. Владимира на престол посадим. Увидишь!
Иван Петрович побледнел, помотал головою, как будто что-то застряло у него в горле, и снова налил кубки себе и Фуникову.
Горница, в которой Челяднин принимал своего гостя, была под глубоким куполом, украшенным византийскими с позолотой узорами; стол, за которым сидели они, – круглый, граненый и тоже узорчатый. Все яркое, богатое, сделанное руками лучших суздальских мастеров.
В последнее время бояре избегали больших пиршеств. Прежде пиры были людные, тянулись с полудня до утра следующего дня. Множество яств и кувшинов с напитками не умещалось на столах. Хозяин величался тем, что у него всего много на пиру. Гостьба почиталась лишь та, что была «толстотрапезна». Хозяину полагалось охаживать гостей, напаивая их «до положения риз». Кто мало ел и пил, тот считался обидчиком хозяев дома. Кто пил с охотою, значит, по-настоящему любит хозяина. Женщины обычно пировали с хозяйкой и угощались до того, что их без сознания увозили домой. На другой день, если хозяйка посылала к своей гостье узнавать об ее здоровье, она отвечала: «Мне вчера было так весело, что я не знаю, как и домой добрела!»
Теперь война, богомолье, посты, приемы в государевом дворце чужеземцев и невеселые для бояр пиры у царя, равносильные пытке. Легко ли сидеть за одним столом с худородными дьяками, купцами, казаками? Прости Господи, даже морские разбойники, душегубы, появились среди гостей Ивана Васильевича!
Нет, уж лучше вот так, в уединении, подальше от глаз, вдвоем с близким другом покалякать по душам. Легче как-то после того. Уж очень трудно стало молчать. Никак не приучишься к молчанию.
– Вспомни покойного боярина Колычева… Никиту!.. Чем не вельможа был? Ухлопали! Кто? Курбский говорил, будто по воле царя сие грешное дело. И будто оно рук Грязного… разбойника… сыроядца!.. – гневно сверкнул глазами Челяднин. – Я бы его самого вот этим ножом зарезал. – Челяднин с ожесточением схватил со стола нож и потряс им в воздухе. – И Малюту бы заколол! Прикидывается, Змей-Горыныч, ласковым, уважительным, а я не верю ему… Иуда.
Фуников никогда не слыхал таких злобных слов от спокойного обычно Челяднина. Он даже на месте привскочил от удовольствия.
– Любезный брат, Иван Петрович. Друг! Правильно! Донесли мои холопы. Побывал он вчера на Сивцевом Вражке, мужиков моих опрашивал. Извета ищет… Извета! О хлебах даже спрашивал.
Челяднин нахмурился.
– Берегись, боярин! Худое знамение. Не делай явно того, что должно быть тайно… Понял меня, Никита? Всего лучше тебе побывать самому на стройке.
Пошли разговоры совсем тихие.
– Слыхал? Неспроста царь задумал особый дворец строить. Из Кремля хочет уйти. Посуди, боярин, зачем задуманный дворец?
– И другие бояре против того… Великому князю место в Кремнике[24], а не на посаде с мирскими заобычными людьми… И душа у меня, Иван Петрович, батюшка, не лежит к тому устроению… И пошто государь, Бог ему судья, возложил на меня то устроение?! Господи, Господи!..
Слезы выступили у Фуникова.
– Коли душа не лежит, не усердствуй, царь бо не ведает, что творит… Срамота! Чтоб государь до посадских опустился не токмо сам, но и с чертогом своим… Делай вид усердия, и только. Гибнет Русь, гибнут дедовские устои. Вот бы посмотрел теперь на него дед его, Иван Васильевич Третий, – что бы он сказал теперь? Поехал ли бы он с племянницей византийского императора, своею супругой, за Неглинку-реку, к торжищам и свалочным ямам? Ведь этим царь и нас унижает.
Фуников стукнул кулаком по столу:
– Не будет по-ихнему!.. Не боюсь Малюты!
– Не горячись, друг. Не теряй разума, Никита, – строго произнес Челяднин. – Знай меру и час… Где скоком, где боком, а где и ползком… Государь так-то любит. Напрямик нонче не ходи. Все ныне изолгались, все ныне под страхом, а уж коли так, гляди и сам, как бы безопасну быти. Наивысшая мудрость нонче – из воды сухим вылезти.
Челяднин встал, помолился.
Поднялся и Фуников.
– Пойдем, Никита, в девичью. Одно утешение на старости лет. Боярыня моя к Троице уехала. Что-то скушно!.. Погрешить захотелось… Ливонскую немку одну купил я тут… Пойдем покажу.
Фуников оживился.
– Погрешить и мне охота. И понимаешь, Иван Петрович, делаюсь и я чем старее, тем к бабам прилипчивее. Бес смущает. Никуда от него, от окаянного, не денешься… Щекотаньем досаждает… Уж я и Богу молюсь, и святой водой окрапливаюсь… Седина в бороду, бес в ребро! Беда!
– В естестве греховны, Никита, не мы одни с тобой. Вон царь-батюшка… Прости Господи. Жену себе азиятку взял, ради ее красоты телесной… Говорить не умела по-нашему. Целые дни ее учат говорить. К телесам Иван Васильевич весьма охоч. А мы нешто хуже его?!
– Про Ваську Грязного слыхал?
– Не. Ничего не слыхал.
– Развода с женой добивается… В блуде якобы застал ее с немцем. Да врет, чай! Не такая она, как говорят. Царь на его стороне. Митрополит покойный будто бы согласие перед смертью на то дал…
– Митрополит Даниил, разведя великого князя Василия Ивановича с его супругой Соломонией, пример тому показал. И грех за многие разводы на Руси падет на покойных митрополитов иосифлян… Я никогда не допустил бы того. Согрешить заглазно не ижденув жены – куда меньший грех!
Беседуя о земных слабостях человечества, осуждая царя за похотливость, покрякивая, бояре взяли свои посохи и, тяжело покачиваясь из стороны в сторону, стали спускаться по скрипучей лестнице в девичью.
В темноте проходной горницы на шею боярина бросилась какая-то женщина…
– Эк ты? Эк тебя разбирает! – самодовольно проворчал Иван Петрович. – Фуников, трогай! Она… Немка… Бешеная… Страсть! Соблазнительница моя! Ну как? Хороша? Осязай!
Началась возня.
Немного понадобилось времени, чтобы бес опутал по ногам и рукам обоих бояр.
– Иконы, твари, не забыли ли завесить? – с трудом прошептал набожный Челяднин своей невидимой любовнице.
– С утра завешаны, – раздался женский голосок со стороны.
Иван Васильевич велел привести из Судного приказа боярского сына Антона Ситникова для допроса. В рабочей палате царя, кроме Малюты Скуратова, никого не было.
Ситников стал на колени, дрожа от страха. Рыжие волосы на голове всклокочены. Глаза, слезливо молящие о пощаде. Однако толстое с красным носом лицо и тучный живот явно говорили о том, что этот человек и попил, и погрешил против казны на своем веку немало.
– Ты ли Антошка Ситников из Судной избы?
– Яз – самый оный Антошка.
Опершись на посох, Иван Васильевич некоторое время пристально вглядывался в лицо боярского сына.
– Не тот ли, что усердствовал своему государю воровским обычаем, обирая невинных людей, безвинно бросая их в тюрьму и не наказывая виновных?
Ситников не в силах был ничего сказать. Его челюсти стучали, язык не ворочался.
– И не ты ли, собака, поперек государева приказа посулы требовал у новгородских каменщиков и жалобу их на приказчиков не принимал?..
– Я яз! Помилуй, батюшка государь! Век буду о тебе Господу Богу молиться, – взревел Ситников.
– Так-то ты крестное целование соблюдал, собака!
И, обратившись к Малюте, царь сказал:
– Срубите неверную голову.
Ситников кинулся лобызать царю ноги, моля о пощаде, но Иван Васильевич, оттолкнув его ногой, несколько раз ударил по спине посохом.
Вошли два стрельца и увели Ситникова из палаты.
– Бояре смеются над нами, – сказал Иван Васильевич Малюте. – Набрал-де новых себе слуг из боярских детей да из дворян, а они вор на воре. Не обидно ли слушать такое? Ино так и есть. Гляди.
– Новые слуги, батюшка великий государь, не повинны в воровстве явных злодеев, мздоимцев, клятвопреступников, обманувших твое царское доверие, – произнес с глубоким поклоном Малюта. – Но и Фуников боярин не без греха… брал из казны деньги попусту. Обманывал тебя.
– Веди другую собаку! – хмуро указал на дверь Иван Васильевич, как бы не слыша слов Малюты.
– Слушаю, батюшка государь.
Малюта втолкнул в палату дворянина, приказчика Семена Головню.
Иван Васильевич, слегка наклонив голову, впился гневным взглядом в лицо вошедшего:
– Не тот ли ты дворянин, коего мне нахваливал Васька Грязной?
– Точно, батюшка государь Иван Васильевич, точно: яз самый оный и есть. Для присмотру к боярину Фуникову яз приставлен… доносительства для.
Лицо царя побагровело, плечи передернулись.
– Смерд ты поганый, а не дворянин!
– Богу за тебя, батюшка государь, молился денно и нощно.
– Не причетники мне надобны, не славословы и не воры, а верные рабы. Пошто хапаешь хлеб и казну на государевом деле?.. Каменщиков, работную чернь объедаешь? Признавайся!
Ударив себя в грудь кулаком, Головня воскликнул:
– Государеву честь защищал! Доношения на врагов царя Василию Григорьевичу подавал.
Иван Васильевич стал бить Головню посохом.
– На себя, собака, зачем не донес? Хапал? Отвечай – хапал? Хапал? Вероломный! Вот тебе! Вот тебе!
– Винюсь, государь!.. – с рыданиями простонал Головня. – Хапал!
– Руби его голову и руки! Затем я вас набрал? Чтоб воровали?! – грозно крикнул царь.
Оставшись наедине с Малютой, Иван Васильевич сказал:
– Лихоимство распространилось и усилилось повсюду до высшей меры бесстрашия. Что же станет с царем, коли его именем будут прикрывать воровство? Известно ли тебе, Григорий Лукьяныч, что и в Поместном приказе хапают? Нечисто дело ведут. Путила Михайлов сам в петлю лезет… Давно я слежу за ним. А в Разряде? Жалуются воинские люди и на Ивана Григорьева, жалуются! Любит мзду. Приказные сторожа, и те вымогают… Кто дает деньги, того пускают в приказ, кто не дает – гонят от ворот прочь. А Ваську Грязного побей!.. Наломай ему бока.
– На примете у меня и Фуников, батюшка Иван Васильевич. Кое-кого из бояр и князей еще занес я в смотренные списки…
– Повремени трогать. Терплю. Покуда упреди. Поглядим. Стыдоба! Никоего дела доверить нельзя. Воровство! Расправы неправедные. Насильство и над крестьянством посошным, якобы государь так приказывает. Судебник наизнанку вывернули. Всякий закон писан с добрым намерением, но воры, крючкотворы изъясняют смысл оного по-своему, как то им на пользу, а государю во вред. Повинуясь жажде обогащения, воры забыли Бога и честь. И разбогатев, они все воруют, словно бы по бедности… Уж и не видят, что их окружает избыток. Слепнут, скареды! Им недосуг оглянуться на себя… Горе царству от таких людей. Губить их будем без пощады!
В тишине слышалось тяжелое, прерывистое дыхание царя да тихий благовест за окном, у Спаса на Бору.
– Под золотом кудрей и у моих юных слуг появилась порча, разум кое у кого помрачился, боярские повадки замечаю. Задрав нос, гордец незаметно для себя подходит к краю бездны и падает в нее. И никто не пожалеет такого. Сатана с ним! Следи за моими молодцами, Малюта. Шатание вижу, ой, вижу! О себе думают более того, что положено. Утром побил я Вешнякова… Пускай не думают: чем ближе к царю, тем дальше от закона! Не бывать сему.
Малюта улыбнулся:
– К немцу в кабак повадился Вешняков хаживать… Девок портят там молодцы.
Глаза царя застыли в злой неподвижности… Большие, страшные глаза.
– К немцу? А потом в мой дворец, в мои покои?! После поганого немца! Гони его в баню… собаку!
Иван Васильевич с отвращением плюнул.
– К немцу ходит! К поганому супостату. Не по нраву мне рожа сего нехристя. Червяк!
Успокоившись, царь спросил Малюту, разведал ли он о неправдах, творимых недельщиками[25].
– Подучивают иных лихих людей, якобы подсудный купец не хотел на суд идти, оговаривают напрасно в угоду другому купцу и за то деньги берут… Ходят к тому, коему и в суд идти не надобно, стращают его и тянут с него мзду. Брось в тюрьму одного-двух на выбор. Бичуй на площади! Что сказано в судебнике? «Суд царя и великого князя судить боярам, и окольничьим, и дворецким, и казначеям, и дьякам, а судом не дружить и не мстить никому, посулов в суде не брать. Точно так же и всякий судья на суде не должен брать посулов». А теперь оставь меня, Григорий Лукьяныч, пойду Богу молиться. А за немцем присматривай, не по душе он мне. Глаза у него зеленые, змеиные, и льстец он великий…
Малюта низко поклонился, вышел. Прямо из дворца направился в Пыточную избу, под гору, у Тайницкой башни. Хлопот сегодня немало. Двух дьяков да троих дворян надобно попытать, да и казнить пострашнее, чтоб другим неповадно было, а как казнить, надобно о том подумать, да и с государем обсудить.
Деловито, озабоченно шагал он по кремлевским улочкам. Перед соборами останавливался и усердно молился.
Казнь сама по себе мало его интересовала. Дело это казалось ему простым, не требующим ума. Пытки ему были более по душе. Сыск заставлял раскидывать умом, копаться в догадках, читать в стоне, плаче, причитании, в обезумевших глазах пытаемого недосказанное им, скрытое, но самое нужное. Правда, Малюта зачастую приходил домой усталый, раздраженный, ворчал на жену и дочь, не добившись толка от пытаемого или оттого, что тот во время пытки «умре». Не любил Малюта твердости пытаемого, никаких мучений не страшившегося и умиравшего с проклятиями на устах. Это вселяло не только досаду в душу Малюты, но и страх. Эти упрямцы даже во сне его донимали, не отступая от него, уже будучи мертвыми. Смеются стеклянными глазами… Издеваются. Только молитва и спасает.
Придя домой, Малюта усердно полоскался в воде, смывал копоть, кровь с лица, с рук, молился Богу, потом садился за стол. Ел молча, хмурый, задумчивый, теребил со злом куски вареного мяса своими крепкими зубами. Еще бы, нелегко возвращаться к царю, не добившись признания у преступника и выдачи сообщников. Царь не любит, когда пытаемый «зря умирает».
Другое дело, если тот, кого жгут огнем или за ребра цепляют, чистосердечно раскаивается во всем и открывает сообщников, – тогда он, Малюта, спокоен. Такой преступник заслуживает христианского погребения, и царю будет о чем доложить, не зря его «отделал». Совесть его, Малюты, спокойна. Служишь царю – угождаешь Богу!
Иван Васильевич после ухода Малюты сказал царице с грустью:
– Ищу я мира, дум святых, грудь моя открыта добру, но… э-эх, царица! – тяжело вздохнул он. – Не для покоя, не для дум святых, не для добра дана нам власть!.. Грешнее царей никого нет.
И он рассказал про Антошку Ситникова и Семена Головню.
– Можно ли их простить? Отвечай, царица!
Глаза Марии Темрюковны еще более потемнели.
– Я бы сама убила их! – сказала она сердито. – Зачем холопу обманывать тебя, государь? Кинжалом колоть их надобно.
– Приключились распри и тревоги в моем народе, и в какие дни? Война! Коли так будет, можно ли победить королей-нападателей? Забыли войну! А я помню. Долгая она, злая, и крови много, и глады лютые будут, и мор… Ко всему готовиться надо.
– Уедем из Москвы… Мне страшно! – тихо проговорила царица, взяв его большую холодную руку, прижав к губам.
– Неужто не смогу я справиться с заразою измены и воровства? Бог велит мне произвести бурные перемены в моем царстве. Думается, сил немало во мне. Смертный меч крепко держу в руке. Бог поможет нам одолеть неправду холопов. Москва крепнет и растет… Никто не должен тому мешать.
– Ты сильный… знаю, – прошептала Мария, прижавшись плечом к Ивану Васильевичу.
– Мои корабли в море плывут. Стрельцы и пушкари московские стрелять учнут в Западном море из наших пушек. Русские пушки на море! Мои люди будут корабли воровские зацеплять. Мария! Семь наших кораблей… И наши мореходы есть. Свои! То-то шум поднимется в чужих странах. Завоют, ровно волки, а наши будут русские песни петь на море… – И вдруг Иван Васильевич опустился на колени перед иконой, прошептав: – Охрани их, Господи, от племен нападающих, от бурь и гроз, от ветров студеных, от всякого зла!.. Не погуби, Господи, людей моих, веру Христову исповедующих! Царица, молись и ты.
Мария Темрюковна стала рядом с царем на колени, скрыв пышными ресницами улыбку удивления, мелькнувшую в ее глазах.
Малюта Скуратов был очень доволен пыткой, учиненной над Ситниковым и Семеном Головней: и тот и другой раскрыли своих сообщников по мздоимству и хищениям. Нить воровства восходила снизу до самого верха.
– Пошто нас одних мучают и на казнь обрекли? – при первом же прикосновении каленого железа к его телу вскричал Головня и назвал кладовщиков, старших приказчиков, подьячих и дьяков и самого боярина Фуникова.
– Все воруют и один другого покрывают.
Ситников выдал многих дьяков Судного приказа и назвал с дрожью во всем теле, с глазами, выражавшими крайний испуг и отчаянье, имя боярина Челяднина.
После этого Малюта приказал кату прекратить пытку. Его самого охватила дрожь: «Может ли то быть? Боярин Челяднин – один из богатейших вельмож, конюший, из древнего боярского рода. И царь его уважает больше всех бояр. Страшно даже довести этот донос до государя. Не верит многому Иван Васильевич и гневается зело, когда на высоких вельмож слово несешь! Да и не солгал ли со страху Ситников?»
Малюта никогда не забудет того, как однажды разгневался на него государь за донос на Курбского.