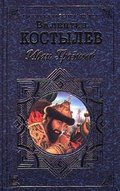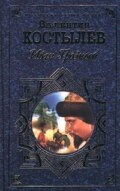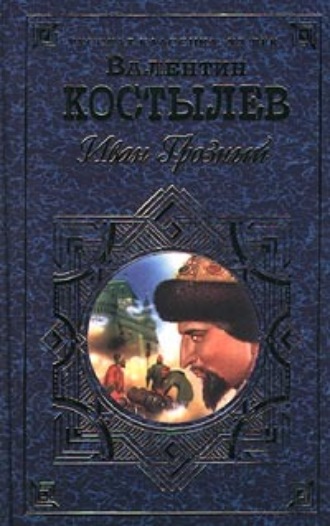
Валентин Костылев
Иван Грозный. Книга 2. Море
Владимир Андреевич молчал, не смея взглянуть на царя.
– А я остался жив, да еще и власть забрал себе в руки. Кое-кого из моих доброхотов убрал; их уже и на свете нет, и молятся не они об упокоении моей души, а монастыри по царскому синодику поминают их грешные души. Не так ли? Не легко и мне признаться тебе, брат, в этом. Грешен и я; не будь я царем, легче было бы мне бражничать с ними, нежели теперь молиться об их упокоении…
– Государь, – сказал, оправившись от смущения, Владимир Андреевич, – твоя воля казнить и миловать! Я готов! Все одно в таком страхе не жизнь.
– Знаю, князь… Увы мне! Лучше бы никого не казнить и не миловать, а украсить свой трон цветами мира и добродетели. Но… цветок любит солнце, благодетельную небесную влагу, а от стужи и ветров он засыхает. Подумай над этим. Да ответь мне без извития словес: чего же вы добиваетесь? Нет ли у вас какой тайны против меня?
– Не ведаю, государь, что требуешь. Помилосердствуй, не томи! Ни в чем я не виноват перед тобою.
Иван Васильевич поднялся с кресла. Лицо его стало строгим.
– Владимир! Дважды обманываешь ты меня: и как царя и как своего брата. Коли не ведаешь ты, я ведаю, чего вы добиваетесь. Да и то сказать! Плохо ли жилось удельному князю? Ведь он смотрел на свое княжество, словно бы торговый мужик на свою лавку. Прикажет дворецкому либо казначею обобрать своих поселян, и наместники его и волостели тащат ему великую казну. Мало того, они и себя не забывали кормом и постоянно своего прибытка добивались. А ныне все вы должны пещись единственно о пользе царству. Плохо ныне стало. А скажи-ка мне по-братски, без утайки: если бы тогда преставился я и стал бы ты великим князем на Руси, дал бы ты волю княжатам, вернул бы ты им старые порядки? А? Скажи, не лукавь.
– Государь, Иван Васильевич, ты знаешь – я делал бы то, что укажет Боярская дума. В разногласии не может быть крепким царство. Князья – не враги тебе. Клевещут на них тебе твои ласкатели. Не верь своим новым слугам. Ради своей пользы клевещут они.
– Не то говоришь, Владимир! Я не враг Боярской думы. Она и ныне здравствует, и государь одобряет ее приговоры. Иван Васильевич в дружбе с Боярской думой, но в несогласии с изменниками. Пора бы тебе то, князь, знать. А вот сия писулька, переданная одним из людей литовского посольства твоему другу. Кому? Ты должен знать. Знакома тебе?
Царь достал из кармана небольшой клочок бумаги и показал его князю Старицкому.
– Бывало ли это в твоих руках?
Владимир Андреевич неуверенно покачал головой:
– И не слыхивал о ней.
– И не слыхивал? А в ней писано, что-де незачем московскому царю бездельную войну вести. Все одно ему моря николи не видать. А чтоб война скорее кончилась, воеводы отъезжали бы в Литву к королю, не давали бы поблажек своему тирану. Ничего того ты не ведаешь?
– Нет, не ведаю!
– Ну, добро, князь! Будем думать, – ты мне преданный слуга и честный брат, – сказал царь и, достав из стола другой клочок бумаги, спросил: – А это знаешь, чье это писание?
– Не понимаю, что это, – прочитав бумагу, ответил князь.
– Ну, иди с Богом… Буде с меня. Бог спасет. Иди.
После ухода князя Старицкого Иван Васильевич спросил Малюту:
– Где тот немчин?
– Он тут, великий государь…
– Покличь!
Малюта удалился, а через несколько минут вернулся, таща за рукав Генриха Штадена.
– Вот он! А своровал то у хмельного стрелецкого десятника Невклюдова, когда он уснул у него в корчме. А Невклюдов получил ее от князя Владимира Андреевича для передачи князю Василию Темкину. В хмельном виде похвалялся он милостию к себе князя Старицкого, оный Невклюдов.
Генрих Штаден стал на колени:
– Истинно, ваше величество, было так… Клянусь!
Иван Васильевич долго ледяным взглядом рассматривал немца.
– Возьми с него поручную запись в том! – презрительно ткнул он жезлом в сторону продолжавшего стоять на коленях Генриха Штадена. – Собака!
Малюта поторопился поскорее вывести немца из царевой палаты, зная, как царь брезгует иноземными шинкарями. А тут еще и доносчик царю на его же двоюродного брата!
Оставшись один, царь помолился на икону:
– Проясни мой разум, Вседержитель! Не допусти бездельно до греха. Помоги мне побороть крамолу! Слаб аз без твоей, Боже, помощи. Спаси нас!
В той бумаге, что держал в своей руке царь, было писано неизвестно кем: «Курбский готов… Новоград… Псков… Дерзайте!»
Фрау Катерин совсем потеряла голову от подобных морской буре ласк Керстена Роде.
Сегодня у нее прощальное свидание с ним.
Свою дочь Гертруду она пилила с утра. Не так будто бы сварила уху, как любит Керстен Роде. Пришлось варить новую уху. После этого она стала укорять дочь за то, что та переняла у русских боярынь обычай краситься. Это было сочтено каким-то особенным оскорблением для немецкой нации. Да и смотреться в зеркало не следует так часто. А потом… Сколько раз говорено, чтобы не появляться в доме, когда у ее матери в гостях Керстен Роде!
– Ты не только лезешь ему на глаза – вчера ты даже подала ему шляпу. Неудобно молодой медхен так унижаться перед иностранцем. Он же намного старше тебя… Он старик в сравнении с тобой.
Гертруда уже давно потеряла наивность. Ей не надо было намекать на то, что мать ревнует ее к датчанину. И не случайно подала она ему шляпу. В той шляпе лежала ее очередная записочка к Керстену. Он ведь ей тоже очень нравится. И она охотно уступила бы мамаше отвратительного Генриха Штадена, который не дает ей прохода своими ухаживаниями.
Дочери не обидно было терпеливо сносить неустанное ворчание фрау Катерин: «Бог с ней! Датчанин все равно не любит ее, а ходит в дом ради меня».
В этот знаменательный день отъезда Керстена Роде в Нарву влюбленная немка начала суетиться с самого раннего утра. Хотелось доставить своему возлюбленному всевозможные удовольствия. Она сварила любимую им уху из судака, настряпала медовых лепешек, зажарила кур, свинину.
Вина, пива, браги, медов разных наставила в изобилии.
Ведь Керстен был в ее глазах вообще необыкновенным человеком – он все любил, но только чтобы было много. Человек, привыкший к морским просторам, человек, вся жизнь которого прошла в борьбе с небесными стихиями, с грозными силами природы, мог ли довольствоваться малым?.. Наивная Гертруда!
«Бог ей простит! – думала с улыбкой мать, когда ушла из дому ее дочь, „чтобы не мешать“. – Она думает, что ему нужна молодость, грация… Бедная девочка! Глупенькая».
В сумерках пожаловал долгожданный друг.
Облобызались многократно.
Как моряк, приведший благополучно свой корабль в тихую, уютную гавань, осмотрел Керстен празднично убранную комнату немки. Особое внимание уделил он столу с яствами и пышно убранной постели, у изголовья которой сегодня были прикреплены самодельные розовые цветы.
Сначала он подошел и потрогал их, затем улыбнулся, протянул руку к розе, сорвал лепесток, взглянул на фрау Катерин многозначительно. Она покраснела, сделала вид смущенный, укоризненно покачала головой, что вызвало у корсара громоподобный хохот, от которого, казалось, потрясло до основания весь дом.
Керстен с жадностью много ел, и это приводило в восхищение фрау Катерин. Она сама считала «вторым» удовольствием в жизни еду.
– Милый друг, как ты сегодня обворожителен… – тихо сказала фрау Катерин, прижавшись к его могучей груди.
– Тем не менее мы должны на некоторое время расстаться с тобой, моя сирена. Моя медуза-погубительница! Господь так создал моряка, что на суше его пребывание – случайность.
– Ради одной только мысли, что мы снова встретимся с тобою, я готова с христианским терпением принять на себя такое страшное испытание!.. До сих пор не было повода мне роптать на Бога. Напротив, каждое утро я возносила молитву благодарности за то, что Вседержитель создал Адама.
– Подари же Адаму что-нибудь на память об этом, какой-нибудь амулет, который бы спасал меня от бурь и вражеских клинков.
Фрау Катерин сняла с своего пальца перстень, отдала его датчанину, сказав:
– И от измены!
Керстен поцеловал ее руку.
– Эта вещица должна напоминать мне о нашей дружбе.
– И любви! – добавила она, жеманно улыбнувшись.
Керстен Роде продолжал жадно уничтожать питие и кушанья, как будто хотел насытиться на всю навигацию.
Фрау Катерин чувствовала приятную усталость от ухаживания за ним во время еды.
Вино быстро иссякало, затем пиво, затем брага… мед…
Керстен, расстегнув ремень на животе и отдуваясь, отвалился спиной к стенке, сказал хмуро:
– Об одном сожалею: не пристукнул я вашего Штадена! Обидно! Всю дорогу буду раскаиваться. Никогда ниоткуда я так не уезжал, без дела, коли кто мне не нравился!..
– Но ведь ты же вернешься?
– Вернусь. Дал слово государю московскому… Дивлюсь я сам на себя: за что полюбил я царя? Видел я разных королей, но такого не встречал… Клянусь!
– Я тоже, милый друг, благодарна ему. Лечила я его супругу… Скончалась она. Плакал, страдал он о ней, однако и после ее кончины остался милостив ко мне. И нынче помогает мне… и Гертруде.
– Подумай, Катерин! Единственный из владык земных поверил мне. Моему слову поверил! Дает мне деньги, корабли, людей, отпускает своих купцов со мной с богатыми товарами. Такие люди мне по душе, их мало… Царь Иван заслуживает того, чтобы я правдиво служил ему. Теперь я голову сверну любому, кто захочет блудить против царя!
Лицо его раскраснелось и от вина и от какого-то самому ему непонятного волнения. Да еще тут эта самая гурия… «Ну, прямо рай Магомета!»
Фрау вся на небесах. Глаза ее томно закрылись, она как бы замерла и лишь носочком башмака слегка щекотала ногу Керстена, будто давая какой-то условленный сигнал.
– Я хочу умереть… вместе с тобой… Мне так хорошо!.. Лучше не будет! – тихо, с дрожью в голосе промолвила она.
Керстен Роде, держа ее в объятиях, нет-нет да и взглянет на дверь, прислушается.
– Не говори так, мое мучение!.. На суше умереть позорно… Когда понадобится, милости прошу на корабль! Ты должна умереть на воде… После смерти стать морскою сиреной. Щекотать корабли, топить их…
– Что ты говоришь, милый… Мне страшно!.. – испуганно прошептала Катерин.
Керстен громко расхохотался.
– А Штадена я все-таки убью! Не люблю немцев. Завистливы! – не обращая внимания на ее слова, продолжал Керстен. – Наш род от Авеля, а немецкий от Каина. Не обижайся. Ты не похожа а немку.
Он воспылал в эту минуту гневом. Недавно пришлось видеть Штадена на берегу Москвы-реки вместе с Гертрудой. Он поклялся мстить и мстить кабатчику.
«Однако терять времени нечего. Пора сняться с якоря!«
Керстен с остервенением обнял фрау Катерин.
Вдруг в дверь постучали. Кто?
Керстен быстро выпустил немку из объятий. Отворил.
Гертруда!
Никого, вероятно, в течение всей своей жизни фрау Катерин не награждала таким полным ненависти взглядом, каким встретила она в это мгновение свою дочь.
– Где же ты, прелестное дитя, скрываешься? – воскликнул охмелевший Керстен Роде. – Смотри ты у меня!
Фрау делала глазами знак своему возлюбленному, чтобы он не пускался с Гертрудой в разговоры. Не вытерпела, сухо сказала:
– Почему ты не слушаешь мать?
Гертруда потупила взор.
– Я не знала…
Керстен подумал: «Ого, притворяется! Девка далеко пойдет. Вот если показать мамаше ее записочку, с мамашей родимчик сделается! А в записке той: „Я не могу с тобой не видеться сегодня, потому что ты уезжаешь. Целую!“
– Гертруда, сходи к соседям. Я забыла у них свой псаломник… Спроси у Марты Шульц… На полке я забыла…
– Мама, ты псалмы читать собираешься? Спать хочешь ложиться?
Терпение фрау иссякло. Она побледнела. Лицо ее, перекошенное злобою, стало таким страшным, что Керстен Роде не мог не пожалеть от всего сердца о том, зачем судьба завела его так далеко. Прости ему, Вседержитель, что он в тот гнусный зимний вечер «соблазнил» эту свирепую медведицу! Мороз, ледяная вьюга и вино были причиною тому.
– Мама, вы слишком строги к этому невинному существу, – сказал он, преодолев гнев.
– В первый раз я вижу такое непослушание. Гертруда, уйди, я тебе приказываю!
Девушка поклонилась и вышла. На глазах у нее блеснули слезы.
– В таком случае я поднимаю паруса и уплываю из вашей гавани, фрау Катерин, – окончательно рассердившись, раскланялся Керстен Роде.
Хлопнул дверью – и был таков!
Фрау Катерин завыла на всю Яузскую слободу и побежала вслед за ним…
Утром следующего дня фрау на коленях поклялась отомстить Керстену Роде, она раскаивалась в том, что спасла его от смерти, помешала немцам, своим друзьям, отравить его. Ей жаль стало и подаренного Керстену перстня.
– Подожди! – дрожащими губами бормотала она. – Мы рассчитаемся.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В царевом кремлевском дворце состоялся торжественный прием прибывших из Англии купцов и ученых.
Сводчатые, украшенные золотыми по синему узорами дворцовые переходы, убранные хвойной зеленью террасы и горницы наполнились для встречи англичан нарядно одетыми боярами, дворянами, боярскими детьми и военными служилыми людьми. Парчовые, сверкающие золотом, в собольих мехах опашни и охабни, драгоценные каменья, а главное, глубочайшая, почтительная тишина поразили заморских гостей. Они щурились, с удивлением осматривая с ног до головы бояр, величаво стоявших по бокам коридора.
Каждый из царедворцев хорошо знал, какое важное значение придает царь Иван приезду англичан, и поэтому стремился блеснуть перед иностранными гостями роскошью своих одежд, своею высокородною повадкою. В лицах вельмож бесстрастное, чинное спокойствие, хотя многим из них казались смешными и эти тонкие ноги, обтянутые цветным трико («будто нагие»), и эти кружева, и пышные жабо на шее, стеснявшие подбородок, и куцые плащи сверх узорчатых бараньих камзолов.
В приемных покоях англичане были еще более поражены великолепием палаты и ослепительным блеском тронного места. Царь в золотом кресле; перед ним на атласных подушках осыпанные самоцветами три короны.
Четверо юных рынд в белых, вытканных серебром кафтанах вытянулись по сторонам трона. В руках у них серебряные секиры с древками, обвитыми золотым шнуром. Солнечные лучи, сквозь окна ниспадая на тронное место, освещали крупное, мужественное лицо царя.
Князья, бояре, думные дворяне неподвижно, словно неживые, сидели полукругом перед царским троном.
Англичане, слегка наклонив голову, подошли к трону; государь поднялся с своего места. Поднялись, как один, и все московские вельможи, шурша шелком и парчой одежд.
Гости низко поклонились царю.
Старший из них, высокий, худощавый мужчина лет сорока, подал в руки царя Ивана письмо английской королевы.
Принимая письмо, царь снял свою обшитую соболем и осыпанную алмазами шапку и спросил англичан, как здоровье «сестры, королевы Елизаветы».
Ответом было взаимное приветствие от лица королевы и спрос ее о здоровье Ивана Васильевича.
Царь пригласил королевского посланника занять место рядом с ним на скамье, особо приготовленной для него, убранной дорогими красочными коврами.
Следующий вопрос царя английскому послу был о том, видел ли он в Вологде, какие большие суда и баржи построены его, царя, мастерами.
Англичанин ответил:
– Видел.
– Какой же это изменник показал их тебе? – улыбнувшись, cпросил Иван Васильевич. А затем приветливо кивнул головой: – Коли так, скажи, как то было?
– Молва о них пошла по городу, где мы стояли, – ответил англичанин. – Народ бегал в праздники смотреть на них. И я решил с моими товарищами идти и полюбоваться на их удивления достойную величину, красоту и странную обделку. Я – англичанин, сын морской державы… Мы любопытны!
Царь спросил, немного подумав над словами англичанина:
– Что означают те слова: «странная обделка»?
– Изображение львов, драконов, слонов, единорогов, так отчетливо сделанных и так богато украшенных золотом, серебром, яркою живописью, с таким искусством, которого я не видал у иностранцев.
– Добро! Ишь, как расхваливает… Гоже! А кажется, ты их зорко высмотрел? Сколько же их?
Царь слегка наклонил голову в сторону чужестранца, сощурив глаза, как бы в нетерпении.
– Ну, говори…
– Я видел не более двадцати, ваше величество, – спокойно, с достоинством ответил англичанин.
Царь внимательно посмотрел на него. Ему нравилась гордая, благородная осанка англичанина, его открытое, с крупными и мужественными чертами лицо, обрамленное коротко подстриженной русой бородкой.
– Ну что ж, добро!.. – сказал царь с приветливой улыбкой. – В недалеком будущем ты увидишь их сорок и не хуже этих. Я доволен тобою, верный слуга моей сестры-королевы! Бог с тобой!.. Однако ты более того удивился бы, кабы посмотрел, каковы сокровища внутри моих морских посудин… Особенно в тех, что стоят у нас в Нарве… Видишь – мы ничего не скрываем от вас. Так поведай же и ты нам: правда ли, что у твоей королевы, моей любезной сестры, лучший флот в мире?
– Правда, ваше величество, – с явным самодовольством ответил посол.
– Не скрой от нас, добрый человек: чем же он отличается от моего?
– Силою и величиною: наши корабли могут пробиться вразрез волнам через великий океан и бурные моря.
Иван Васильевич задумался, пасмурным взглядом обвел своих вельмож. Слушают ли они внимательно беседу с чужеземцем? Кое-кто дремлет, кое-кто, выпучив глаза, бессмысленно смотрит на царя, а иные сидят с «пустошным подобострастием». Он перевел взгляд на англичан.
– Как же они построены, те корабли?
– С великим искусством, ваше величество! У них острые, как ножи, кили. У них плотные и крепкие бока… Пушечное ядро едва может пробить их…
– Что еще?
Иван Васильевич вздохнул. В глазах его и в звуке голоса была заметна зависть.
– На каждом корабле нашем пушки и сорок медных орудий большого калибра. Немало боевых припасов. Есть мушкеты, цепные ядра, копья и другие орудия защиты.
– Пушки медные? – как бы про себя повторил Иван Васильевич и покосился на дьяка Василия Щелкалова, которому заранее приказал записывать все, о чем он будет спрашивать англичан и что те ему будут отвечать.
Дьяк Щелкалов усердно выполнял приказ и, по обычаю, стоя записывал на бумаге слова царя и англичанина.
– Ну, а какой народ?.. Смирен ли? Прилежен ли к королевской службе, украшен ли цветами благочестия?.. Есть ли у вас дружба меж начальниками?.. Не утесняют ли они во вред королеве, сестре моей, малых людей, не обижают ли их в корме?
Англичанин поднялся с места. Царь сделал жест, чтобы он снова сел.
– На английских кораблях народ хорошо обученный, послушный начальникам и каждый один другому брат. Может ли быть иначе, когда столько опасностей и горя в морях и океанах им приходится переносить всем вместе? Они ежедневно читают молитвы.
Царь опять медленно обвел хмурым взглядом своих князей и бояр. («Слава Богу, Фуников проснулся!»)
– На английских кораблях, – продолжал посол, – в изобилии хлеб, мясо, рыба, горох, масло, сыр, пиво, водка и всякая другая провизия, дрова и вода. Всего вдоволь. И никто не обижает малых людей, матросов и юнг. Таких, которые воровали бы у своих товарищей, – какой бы начальник ни был, – у нас казнят… Они оскорбляют всю нацию!
На щеках посла выступил густой румянец. Голос прозвучал негодующе:
– Таких следует убивать! Их нельзя называть англичанами. Они оскорбляют знамена с гербом и вымпелом королевы, перед которыми преклоняются корабли других королей.
Иван Васильевич одобрительно покачал головой.
– Вижу – честный ты слуга своего царства… А много ли таких кораблей у твоей королевы, что ты поведал нам?
– Сорок, ваше величество!
– Хорош королевский флот, как ты назвал его! Он, гляди, перевезет не меньше сорока тысяч солдат к союзнику? – произнес царь.
Англичанин сделал вид, что не слышит.
– Далеко ли плавают те слуги королевы на ее судах? Я слыхал, что плавают они в дивии, неведомые доселе страны?
– То верно, ваше величество, но в этих странах есть много золота, жемчуга, драгоценных каменьев. Наши мореходы легко побеждают черных эфиопов и иных дикарей и берут их в плен. Они доставляют королеве то богатство и привозят на кораблях много рабов, и земли те отдают во власть нашей пресветлой королевы.
– Я слыхал, – продолжал царь Иван, – что теми рабами на торжищах обогащаются ваши купцы и государственные люди. Так ли это?
– Чернокожие люди подобны зверям, они поклоняются огню и деревянным идолам.
Царь Иван задумался и после некоторого молчания тихо произнес:
– У нас на торжищах торгуют только скотом. Наш закон и вера не позволяют торговать на торжищах людьми. Мы почитали бы это великим грехом.
Англичанин промолчал.
– Ну, спасибо тебе, добрый слуга королевы, сестры моей! Побывай завтра у нас, в Посольском приказе… Дело до тебя есть.
…Разъезжаясь по домам, бояре ворчали: попусту, мол, государь с нехристями-иноземцами беседу ведет. Грешно русскому человеку со всяким чужестранцем дружить. Еретики они! Бесстыдники! Голоштанники!
Челяднин возвращался домой в одном возке с Фуниковым.
– Негоже, боярин, спать, когда сам говорит… – укоризненно сказал он Фуникову.
– Вздремнул я… скушно!..
– Смотрел он на тебя… приметил… поостерегись!
– Бог с ним! – зевнул Фуников. – Ближе горе – меньше слез. Ничего! За правого Бог и люди.
– Когда же царь поведет войско-то? Заждался Курбский. Заждались и новгородцы… Чего он медлит?
– Видать, сердце его чует беду, – нараспев зевнул Фуников и с усердием почесал под бородой. – А покудова вона што сотворяет в Нарве!.. Будто всяких языков народы набились в корабли, штоб в море плыть…
– Все нам наперекор… Все назло нам, прости Господи! Православные мы люди, душа не терпит того бесчестия.
– Все вверх дном, Петрович! Седни курица – и та фурится. Задор, сам знаешь, силы не спрашивает. Все перевернулось.
– Боярин Овчина Димитрий правильно его называет «англицким царем»… Далась ему Лизавета…
– Сестрою ее величает… Да Бог с ней! Как наши-то дела?
– Третьяк, брат Висковатого, упреждал Володимира Андреевича, штоб сидел тихо до поры до времени… Пущай Семен Ростовский не водит к нему тайно литовских людей и к нам бы не заезжал. Царевы уши везде… Князь Палецкий Митрий тоже не горазд в молчании. Слаб на язык. Поостерегаться его Третьяк упреждал…
– Ах, Висковатый! Сам себе тирана на шею посадил. Он и Воротынский… Помнишь их лютование против нас, когда Иван Васильевич на одре лежал. Што бы нам в те поры посадить на престол Володимира-то. Вот бы счастье! Висковатый и Воротынский помешали в те поры нам! Пущай теперь и не жалуются. Спихнули бы мы его тогда, лежащего на одре, с престола. И-их! Глупость человеческая! Уж, видать, мы не дотянем до конца этой песни. Нет. Не дотянем!
– С дацким королусом будто бы наш вздумал стакаться. Союза ищет против Литвы.
– Не против Литвы, а против нас! Все к тому, чтоб нас крепче прижать… Дацкий Фредерик свару завел со Свейским, так будто наш думает: корысть от того на море ему прилучится, силы больше заберет через то… А по-моему, по-стариковски: собакой залаешь, а петухом не запоешь!.. Иван Висковатый, и тот уже руками разводит… Следовало бы, говорит, отступиться от Ливонии. Давно бы пора. Побаловали, да и довольно! Дацкая страна, говорит, нам не поддержка.
– Ладно! Помалкивай до поры до времени… Там, в Посольской избе, знают, што делать… Есть наши люди… понимают пользу. Положимся пока на волю Господню. А то истинно… всяк понимает, чем крепче будет царева держава, тем худчее нам, боярам… Ливония, коли станет его вотчиной, – умножит его могучество… Великая радость его – наше горе.
В утро следующего дня царь Иван Васильевич снова беседовал с англичанами. Расспрашивал их не только об Англии, но и задавал им вопросы о богатстве, о военно-морской мощи, вере и обычаях франков, скандинавов, испанцев…
Рассказы англичан сильно интересовали его.
Здесь, в Посольской избе, занятой будничной повседневной работой, беседа с царем понравилась англичанам более вчерашней, происходившей в пышной обстановке царского дворца. И царь как будто чувствовал себя свободнее наедине с иноземцами, нежели в присутствии сонма надутых, чопорных бояр. Дьяки, почтительно стоявшие вдоль стен, также принимали участие в беседе, и некоторые из них выполняли обязанности толмачей. Здесь были: Висковатый, Андрей Васильев, Писемский, Совин, оба Щелкаловы, Колыметы, Алехин и многие другие.
От англичан не укрылось то, что царь Иван с некоторыми дьяками держится проще, чем с боярами, милостиво улыбается в ответ на их слова… И вообще царь показался англичанам совсем другим, чем во дворце. Он попросил английского посла письменно изложить ему то, что он знает о флоте английской королевы и о флоте иных стран. Посол ответил, что он рад исполнить это и будет счастлив представить государю завтра же свою докладную записку об этом, а теперь он просит его величество разрешить людям королевы поднести ему последний образец английского корабля, точно изображающий натуральный корабль.
Один из членов английского посольства вынул из чехла модель корабля и подал ее Ивану Васильевичу в собственные его руки.
Маленький корабль был хорошо выточен из букового дерева, разрисован красками, оборудован снастями, распущенными парусами, флагами, раззолоченными пушками и другими военными принадлежностями.
– Этот подарок поручили передать вашему величеству знатные королевские люди. Они благодарны вам за мудрую дружбу с Англией.
Иван Васильевич приподнялся и ответил англичанам также глубоким, «поясным» поклоном. Он долго, с любопытством рассматривал кораблик, расспрашивал о значении той или иной его части.
По окончании беседы царь Иван подозвал к себе дьяка Андрея Васильева.
– Одарите мехами и конями добрых рыцарей королевы Елизаветы… Опись покажи мне. – И добавил тихо: – Нерадивы стали дьяки у тебя к царской службе… Наказать надо! Живут праздно.
Васильев не осмелился ничего ответить в свое оправдание, боясь вызвать у царя гнев, но подумал: «Сукин сын, Вяземский, наболтал! Постоянно сует нос в посольские дела!»
Царь сказал, чтобы дьяки уделяли больше внимания иностранцам, побольше бы узнавали об их обычаях и делах.
– Мой отец, в бозе почивший великий государь Василий Иванович, запрещал чужеземцам бывать в нашем царстве и ездить далее на восток… Бог мне простит мою слабость. Не потехи ради пускаю в свою землю чужеземцев. Мои владения открыты им. Помните! Бог простит мне и то, что держу иных у себя силою. Судят меня бояре и прочие. Скажу им: не сокрушайтесь, за все ответит Богу грешный царь!
Васильев сказал, что немногие иноземцы, уехав за рубеж, пишут правду о Москве и государе.
Иван Васильевич рассмеялся:
– Беседовал со мной в субботу фрязин Ванька Тедальди[23]. И печаловался, будто много народу погубил я. Так-де пишут в западных странах… Стар он, неразумен. Губил я изменников, да и где им почет?! Вон Эрик Свейский с своею собакою, кровосмесителем Георгом Перссоном, сколько высокородных гордецов сгубил, да и брата своего Иоанна, коли он попал бы к нему, не пощадил бы… Эрик губит своих вельмож без толку, я перебираю людишек моих по делам. Следовало бы и еще кое-кого убрать, но я терпелив… жду, покудова исправятся… Царю все ведомо, и коли ты за собою вины никакой не видишь, то, будь покоен, царь ее видит!..
Краска смущения залила лицо дьяка. Он не ожидал такого оборота речи Ивана Васильевича.
– Убийца либо вор, присвоивший чужое добро, явственно видит свое преступление… Тот, кто грешит против государя и родной земли, не убивая и не воруя, почитает себя правым и всякое дело свое творит, гордясь тем, будто делает добро… будто в том нет греха… будто ошибается государь, – уходит по тому пути далеко… Так далеко, что уж ему и преступленье не кажется преступленьем. В те поры беру его и казню, а он, умирая, говорит: «Прости, Господи, царю и великому князю грех его – не ведает бо, что творит!» Так и умирает, не покаявшись. Ну и Господь с ним. Монастыри я заставил поминать их души.
Царь милостиво распрощался с англичанами.
Окруженный дьяками, сопровождаемый Малютою Скуратовым и стрелецкою стражею, опираясь на посох, он неторопливо пошел во дворец.
Вернувшись в свои покои, Иван Васильевич приказал постельничьему послать поклон матушке государыне.
Мария Темрюковна пришла, приветствовала царя, он ответил ей таким же приветствием. После этого подвел ее к столу и показал ей кораблик, подаренный английским послом.
Царица залюбовалась им; ей очень понравилась отделка корабля, но она сказала, что хорошо бы прикрепить к мачте московский греб – будто бы это наш корабль.
Царь был в восторге от этого совета супруги. Он велел слугам немедленно сыскать на митрополичьем дворе новгородского богомаза Марушу Нефедьева и привести его во дворец.
– Вот бы мне такое судно!.. Поехали бы мы с тобой на море… Любопытно мне посмотреть на ихнюю жизнь… Уж больно расхваливают они себя… Так ли это?
Мария Темрюковна уже не первый раз слышит о желании царя побывать в Англии. Он ведь знает, что ей не нравится это, и, словно бы нарочно, повторяет одно и то же. Царь по ее молчанию и скорбно опущенному взгляду угадал ее недовольство.
– Ну, не сердись, Бог с тобой, голубица моя! Можно ли царю отъезжать из своей земли? На един день мне из Москвы нельзя отлучиться.
Пришел иконописец Маруша Нефедьев, упал в ноги царю.
Иван Васильевич велел ему подняться и слушать его. Он приказал Маруше нарисовать маленькие вымпелы с двуглавым орлом.
– Поторопись! Живо!
Маруша бросился опрометью бежать и вскоре принес маленькие вымпелы с московским гербом.
Иван Васильевич осторожно прикрепил их к модели корабля.
Царь и царица глазами, полными восхищения, долго любовались кораблем.
– Закажу я такие же корабли в Англии… – И, немного подумав, громко сказал, взглянув на жену: – Нет. Будем делать у нас свои… на Студеном море. У церкви святого Архангела. Самим надо учиться… есть и у нас люди…
Мария Темрюковна сказала сердито:
– Не построим.
– Что так, государыня?
– Они не захотят!
Царь вспыхнул, глаза его заблестели гневом.
– Заставлю! – тихо, но грозно проговорил он. – И мореходцы у нас с древних времен и по сие время ведутся. Умножим их.
Мария Темрюковна недоверчиво покачала головою:
– По силам ли тебе то, батюшка государь?
Иван Васильевич, немного подумав, сказал:
– Сильны бояре, государыня, воистину сильны! Однако не теряй веры. Служилые помогут. У меня одна невзгода, у них другая… И царь, и малые служилые люди в обиде на вотчинных владык. Изобидели они нас. В приказах моих и в войске народ исхудал… ропщет… К делу охоту теряют. Добро бы невзгоды его были от скудости земельных угодий. Мало ли у нас земли? Княжата да бояре на земле распластались, служилым людям уж совсем тесно стало. В приказы ходят, приказами живут, нужду в них имут, а людей приказных ни во что ставят. Нужда охоту отбивает к работе. И малую толику не горазды вельможи уделить им. Сам Бог велит царю согреть щедротами своими малых сих. Кто же позаботится о них? Кто наложит руку на вотчины великие, опричь государя? Воинники тоже… Обороняют землю, а земли мало кто имеет.