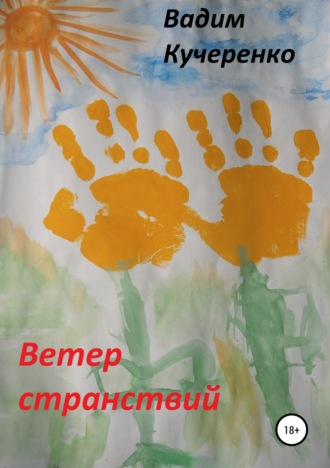
Вадим Иванович Кучеренко
Ветер странствий. Сборник рассказов
Однажды на рассвете один из спящих верблюдов вдруг пронзительно и жалобно закричал, вскочил на ноги и тут же беспомощно свалился на бок. Из его раскрытого рта потекла пена. Несколько судорог сотрясли его тело – и все было кончено, он умер.
– Что с ним? – спросила чужеземка у погонщика. Это было впервые, когда она обратилась к нему.
– Змея, – спокойно ответил юноша. – Его укусила курара.
Почти на сутки шакалы отстали от каравана. А светло-синие глаза чужеземки вдруг потемнели, словно она обдумывала какую-то мысль. И даже тень улыбки промелькнула на ее губах. Но эта перемена в настроении женщины почему-то не обрадовала погонщика верблюда. Наоборот, он счел это недобрым знаком. И обдумывал его весь день.
И он не удивился, когда той же ночью чужеземка обратилась к нему с просьбой.
– Мне нужна курара, – сказала она. – Ты сможешь поймать и принести мне ее, живую?
– Зачем? – спросил он, и густой румянец, неразличимый в темноте, обметал его смуглое лицо.
– Ты боишься? – спросила она, глаза ее блеснули презрением.
Юноша негодующе вскрикнул и убежал от костра в ночь.
Его не было долго. Перед рассветом, когда уже звезды исчезли с побледневшего неба, он пришел. В руке он держал крепко завязанный кожаный хурджин, в котором раньше была вода.
– Здесь курара, – коротко сказал он.
Глаза чужеземки радостно вспыхнули. Она протянула руку и не попросила, а приказала:
– Дай мне.
Юноша не знал, как ему поступить. Вдруг слезы потекли по его щекам, и, может быть, впервые в жизни, он узнал их соленый вкус.
– Нет, – сказал он.
И чужеземка, сразу сникнув, закрыло лицо хаиком и отвернулась от него. Она села возле догорающего костра. Юноша присел рядом с ней.
– Убей сначала меня, – просто сказал он. И протянул ей свой ханджар.
– Зачем мне твоя жизнь, – безразлично ответила она.
– Я знаю, что ты задумала, – сказал юноша. – Но ведь ты умрешь в неволе, рабыней.
Чужеземка не ответила, словно он перестал существовать для нее и его слова были лишь порывом ветра, развеивающего золу из потухшего костра по пустыне.
– Хочешь умереть свободной? – спросил он после долгого молчания. Ему потребовалось все его мужество, чтобы произнести эти слова.
Чужеземка вздрогнула, только тем и давая понять, что слушает его.
– Ночью мы сбежим, – сказал юноша, и его взгляд затуманился.
– Мы? – переспросила она удивленно.
– Да, – кивнул юноша. – Ты права, я тоже раб. Но я не хочу им быть.
Рассвело, и караван начал оживать. Закричали погонщики, поднялись на ноги верблюды, засвистела плеть, поднимая пленников.
– Когда? – оглянувшись, чтобы убедиться, что их не подслушивают, шепотом спросила чужеземка.
И он еще тише ответил:
– Сегодня.
И увидел ее благодарную улыбку.
Они ушли, когда предутренний, самый крепкий сон сморил даже часовых. Юноша, тихо ступая, вел верблюда, придерживая его за отвислые губы, чтобы тот не вздумал закричать, недовольный тем, что его подняли так рано. Чужеземка сидела между горбов, и в ее глазах отражался свет затухающих костров.
За ночь им предстояло уйти как можно дальше. Они могли скрыться от преследователей, затерявшись в бескрайних песках. Но в любом случае участь их была предопределена. Юный погонщик знал, что пустыня убивает вернее ятагана.
Верблюд, не прибавляя и не убавляя шага, шел до полудня. Уже много часов солнце слепило им глаза и иссушало тело. Но чужеземка за все это время не издала ни звука, ни стона. Когда ему самому стало невмоготу, юноша отвязал со спины верблюда бурдюк с водой и протянул его чужеземке.
– Пей сам, если ты ослаб, – очнувшись от своих раздумий, с презрением сказала она. – Но не предлагай мне.
Он выхватил свой ханджар и вонзил его в бурдюк. Вода пролилась в песок.
– Теперь ты свободна? – спросил он.
– Еще нет, – ответила она. – Но уже скоро.
– Неужели в твоем понимании свобода – это смерть? – настаивал он.
– Нет, – прошептала она. – Свобода – это жизнь, в которой ты волен поступать, как считаешь нужным, не спрашивая ни у кого позволения.
– Значит, мы свободны сейчас, – подумав над ее ответом, сказал юноша. – Мы сами выбрали свою смерть.
– Нет, – улыбнулась она печально. – Это смерть выбрала нас.
– Зачем же тогда..?
Юноша не договорил, но она поняла его и ответила:
– Позор горше смерти.
Закрыв лицо хаиком, она повелительным жестом приказала ему продолжить путь. Он пошел впереди верблюда, ведя его в поводу, и каждый новый бархан казался ему выше предыдущего.
Когда солнце, обессилев светить, упало за горизонт, верблюд отказался идти дальше, требуя отдыха. Он лег на песок, и сколько его ни пытался поднять юноша, только протестующе и жалобно кричал в отчет. Без верблюда в пустыне далеко не уйдешь, это понимала даже чужеземка, им поневоле пришлось дожидаться утра. Костра они не развели, огонь далеко виден в пустыне. Они легли, согреваясь о теплые бока верблюда. Каждый думал о сокровенном. Чужеземка – о своей далекой земле, юноша – о ней.
Едва взошло солнце, ночной холод сменила жара, которую усиливала нестерпимая жажда. Сухие губы потрескались и кровоточили, боль вызывало малейшее прикосновение к ним. Распухший шершавый язык, непроизвольно пытаясь смочить губы несуществующей влагой, приносил только новые страдания. За глоток воды для чужеземки юноша сейчас мог бы отдать все сокровища мира. И даже свой ханджар. Но он знал, что женщина с презрением отвергла бы его дар. Ее мужество придавало сил и ему.
Верблюд медленно взошел на вершину очередного бархана, когда чужеземка вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.
– Сады! Сады! – закричала она хрипло. – Мы дошли!
Погонщик замер, верблюд остановился, и женщина, не удержавшись на его горбах, соскользнула на песок. Глаза ее опустели.
Юноша оглянулся кругом, но не увидел ничего, кроме пустыни. Мерцающий в знойной дымке песок сливался вдали с бесцветным небом, таким же пустым и безжизненным.
Он опустился рядом с чужеземкой и положил ее голову на свои колени. С тоской смотрел в ее незрячие глаза и знал, что если женщину сейчас не напоить, она умрет. И он останется один.
Юноша бережно опустил ее голову на песок, встал, подошел к верблюду. Тот всегда понимал хозяина без слов и сейчас, казалось, сам подставлял свою шею, в последний раз целуя его в плечо отвислыми губами.
Ханджар беззвучно вошел в его горло. Алый фонтан крови брызнул в небо и оросил пустыню. Юноша подставил под рану ладони. Его слезы смешивались с кровью и редкими крупными каплями падали на песок.
Горячая густая жидкость потекла в приоткрытые губы чужеземки, растеклась по ее лицу, шее. Женщина сделала непроизвольный глоток, ее глаза открылись, в них затеплилась жизнь. Миг – и она все поняла. Оттолкнула его руки и с ненавистью крикнула:
– Зачем? – И уже тише, почти шепотом: – Ты предал меня!
Юноша вскрикнул и закрыл свое лицо окровавленными руками, чтобы не видеть ее ненавидящий взгляд. Чужеземка встала и пошла, не оглядываясь. Он смотрел ей вслед, ждал призыва. Но она уходила все дальше, и не звала его за собой.
Мертвый верблюд неподвижно лежал на песке. Все более скупыми и редкими толчками кровь выплескивалась из его раны, но никак не могла утолить жажду пустыни. Юноша вынул свой ханджар из горла верблюда и приставил к собственной шее. Ощутил прикосновение стали к коже и вдруг испытал облегчение. Одним ударом он мог разрешить все противоречия своей жизни и снова обрести покой. В последний раз он взглянул вслед чужеземке. Она лежала неподвижно на песке шагах в десяти.
Юноша, забыв о своем намерении, вскочил на ноги и подбежал к ней. Нагнулся над женщиной – и отпрянул. Из ее широко раскрытых невидящих глаз бежали слезы, оставляя след на покрытых пылью щеках, губы шептали какие-то слова на незнакомом ему языке. Он присел рядом и смотрел в ее глаза, словно пытаясь прочесть в них нечто, важное для себя. Но они были устремлены в небо, и все, что было в них земного, уже исчезло из них.
А пустыня, до этого безжизненно простиравшаяся вокруг, вдруг ожила, и где-то у самого ее края замерцали черные точки. Это были всадники. Они приближались.
Когда юноша заметил их, чужеземка еще дышала. Он поднял было ханджар, но тут же отбросил его. Снял с пояса кожаный мешок и начал развязывать узел негнущимися пальцами. Изнутри послышалось злобное шипение голодной змеи.
Крохотная блестящая змейка выползла из развязанной горловины хурджина на песок. Она коснулась неподвижной, но еще теплой руки и мгновенно обвилась вокруг нее красивым цветным браслетом.
А юноша шел навстречу лошадиному храпу и гортанным крикам. И когда его окружили брызжущие пеной кони, а в небо взвились сверкающие лезвия ятаганов, он встал на колени, закрыл глаза и начал выкрикивать слова, смысла которых не понимал, но запомнил – те, что шептала в предсмертном бреду чужеземка.
– Ныне и присно и во веки ве…
Когда черные всадники нашли чужеземку, им показалось, что она спит, так безмятежны были черты ее лица. Они не увидели, как маленькая курара соскользнула с белоснежной руки и скрылась в сыпучем песке.
ТРАГЕДИЯ В ПУСТЫНЕ
В пустыне случаются песчаные бури, гибельные для всех живых существ. Они начинаются внезапно и так же неожиданно заканчиваются, словно насытившись или удовлетворив жажду мести, свою ли, того ли неведомого, кто их наслал. Жертвами их становятся не только одинокие путники, но целые караваны и даже оснащенные самой современной техникой экспедиции. Воздвигнутые над безжизненными телами громадные могильные курганы из песка надежно скрывают останки. И обнаружить их порой удается только спустя много времени, чаще всего тогда, когда новая буря извлечет из-под песка кости и черепа и раскидает их по пустыне, в назидание тем, кто еще жив. Но обычно люди остаются слепы и глухи к подобному предостережению. Такова природная сущность человека. Его пугает не смерть вообще, и даже не всеобщая смерть, а только своя собственная.
Весь день четыре человека, трое мужчин и одна женщина, на вездеходе продвигались вглубь пустыни, иногда делая короткие остановки, чтобы взять необходимые пробы, произвести нужные замеры или перекусить, заодно дав остыть раскаленному двигателю машины. Под вечер они изнемогли, и незадолго до заката солнца разбили походный лагерь, собираясь с утра продолжить свой путь. Установили две двухместные палатки, развели костер, поужинали и разошлись, от усталости не замечая ни тревожного мерцания звезд в темно-синем небе, ни первых, кажущихся безобидными, порывов ветра.
Вскоре сон сморил даже того, кто должен был до полуночи, пока его не заменят, поддерживать огонь в костре.
Незадолго до полуночи внезапный мощный порыв ветра подхватил остатки почти затухшего костра и швырнул их в спящего человека. Тот закричал спросонья громко и жалобно. Горящие уголья прожгли одежду, обожгли кожу, опалили волосы. Запахло горелым мясом. Новый шквал принес с собой смерть. Мириады песчинок забили раскрытый в крике рот, нос, глаза. Несколько мгновений человека сотрясали конвульсии удушья, и все было кончено.
А ветер набирал силу. Звезды на небе скрыла песчаная пелена. Пустыня дышала полной грудью. От каждого ее вздоха осыпались барханы и рождались новые, ежеминутно меняя облик пустыни. Палатки сорвало и унесло.
Пробуждение начальника экспедиции Ивана Прозорова было мгновенным. За свою долгую кочевую жизнь он пережил множество песчаных бурь и знал, как можно спастись, оказавшись в эпицентре любой из них. Но в эту ночь рядом с ним находилась женщина, жизнь которой он ценил превыше своей. И поэтому впервые он испытал страх.
Женщина была без сознания, но дышала. Иван перевернулся, закрывая ее своим телом, обхватил руками. Невозможно было даже на миг приподнять голову, песок ослеплял, не давал дышать. Мужчина, отягощенный беспомощным женским телом, медленно, плавными змеиными движениями, полз по памяти в том направлении, где был оставлен на ночь вездеход. Под его рукой редко и глухо билось сердце женщины. Иногда он переставал ощущать ее дыхание на своей щеке, и неведомый прежде парализующий ужас пронзал его мозг, мускулы тела разом ослабевали. Но снова доносился тихий вздох, и он продолжал движение.
Внезапно встречный ветер ослабел. Сквозь пелену песчаной бури перед ними проступила громада вездехода. Иван смог подняться на ноги. Он открыл дверцу машины, приподнял и протолкнул внутрь женщину, затем свое, ставшее до странности непослушным, тело. И, едва успев закрыть дверцу, потерял сознание.
Когда Иван очнулся, буря уже давно стихла, и в лобовое, все в трещинах, стекло вездехода заглядывало солнце, утреннее, невинное, невиновное за то, что случилось ночью. Обновленная до неузнаваемости пустыня казалась вымершей.
Женщина все еще была в забытье. Даже в полумраке кабины он заметил кровь, запекшуюся на ее бледном лице. Ее красивые тонко очерченные губы покрыла грязная корка из крови, соли и песка, они потрескались от сжигавшей женщину изнутри жажды, и порой она в беспамятстве просила пить.
Неожиданно за спиной Ивана кто-то закашлялся. Он оглянулся и увидел, что кроме них в вездеходе был третий. Эдуард в их поисковом отряде исполнял обязанности водителя и обычно проводил ночь в машине, отдавая ей предпочтение и во многих других случаях. Ни с кем из членов экспедиции за несколько месяцев совместной работы он не сблизился, да и вообще сторонился людей, порождая тем самым в их отношении к себе ответное отторжение и недоверие. Но сегодня это, возможно, спасло ему жизнь. Бурю он пережил за крепкой броней вездехода и единственный из всех совсем не пострадал. Сейчас он, по всей видимости, просто спал, полулежа в неудобной позе на задних пассажирских креслах вездехода.
Эдуард снова закашлялся и проснулся. Он потянулся, разминая затекшее тело, перевел взгляд на свои руки и ноги, словно проверяя, здесь ли они, и непроизвольная судорожная улыбка раздвинула его землистые губы.
– В-в-вы-жил! – слегка заикаясь, радостно поразился он, как будто не смея поверить в столь удачное для него стечение обстоятельств. – А я думал, мне каюк. Проклятая пустыня!
Он погрозил через треснувшее лобовое стекло пустыне, казавшейся невиннее младенца, только что появившегося из утробы матери. Но такое впечатление она могла произвести лишь на того, кто не знал, что руки этого младенца уже запятнаны кровью единоутробных братьев и сестер, которых он жадно и ненасытно пожрал в материнском чреве.
– Ни в чем она не виновата, – с трудом разжал слипшиеся губы Иван. Голос его прозвучал глухо и безжизненно.
Он смолк, вдруг осознав всю абсурдность своих слов – оправдывать убийцу только за то, что тот не может не убивать, было глупо, да и не в его характере. Он сам не мог понять, почему так ответил. Возможно, единственно из чувства противоречия Эдуарду, которого, как и все, не любил, а в глубине души отвергал, за его мелочность, суетливость, постоянную готовность услужить тому, кто сильнее и нескрываемое презрение, проявляемое по отношению ко всем остальным. Мысли Ивана путались, бессвязными обрывками возникали в воспаленном мозгу и исчезали, не дав ему возможности осознать их и довести до логического завершения. Но вот появилась одна и сразу же вытеснила все остальные, властно завладев всем его существом. Все стало неважно, кроме женщины, которая все еще не приходила в сознание и просила пить.
– Воды, – произнес Иван. Не услышав ответа, повторил, уже более требовательно: – Есть вода?
Эдуард что-то невнятно буркнул и неохотно протянул наполовину пустую фляжку с водой. Иван смочил женщине губы. Вода потекла тонкой струйкой в иссохшее горло. Она сделала глоток и открыла глаза, в которых все еще не было осознания реальности.
– Маша, – тихо окликнул Иван, склонившись над ней. – Слышишь меня?
Иван любил эту женщину, и он не замечал, насколько ее лицо обезображено, но чувствовал ее недавнюю боль, как свою собственную. Крепко сжал челюсти, опасаясь издать стон. Это была реакция на подсознательном уровне, и он едва справился с ней.
Женщина пришла в себя. Она увидела встревоженное лицо Ивана и откликнулась на него своей обычной, нежной и чуть застенчивой, улыбкой. И в ответ ей будто два солнца вспыхнули в глазах мужчины, осветив уставшее, заросшее щетиной лицо и вопреки очевидности сделав его красивым.
Эдуард открыл дверцу вездехода, с опаской высунул голову, словно ожидая подвоха от пустыни. Вокруг было тихо, и он, успокоенный, вышел. Обошел вездеход кругом, попинал колеса, заглянул в двигатель. Присвистнул сквозь зубы. Песок был везде: на машине, в двигателе, в горючем, он мягким пушистым ковром простирался до самого горизонта, безмятежно нежась под лучами начинавшего набирать знойную силу солнца, бесконечный и вечный.
Эдуард выругался, потом еще раз и еще, будто стремясь нарушить звенящую в ушах тишину пустыни. Сердито постучал по броне вездехода. Выглянул Иван.
– Приехали, – махнул рукой Эдуард. – И могилы копать не надо. Само засыплет.
Иван предостерегающе поднял руку, опасаясь, что услышит Маша. Вышел из вездехода.
– Придется пешком. Дорогу знаешь? – спросил он, закончив неутешительный осмотр вездехода.
– До ближайшего колодца дня три, – сморщив свое маленькое лисье личико, ответил Эдуард. – Не дойдем. Воды нет. Жратвы нет. Да и эта…
Он показал жестом на вездеход.
– Не беспокойся за нее,– хмуро отрезал Иван. Взглянул жестко в бегающие глаза Эдуарда. – Струсил?
Тот криво усмехнулся.
– Двум смертям не бывать…
– А одну уже пережили, – договорил Иван и дружески потрепал его по плечу. – Не тужи, браток, дойдем.
А что им еще оставалось?
Тронулись в путь, не мешкая, пока солнце не успело опалить пустыню своим жарким дыханием. В машине нашли две запасные фляжки с водой, три одеяла. Маша очнулась и пошла сама. Настроение у всех поднялось, и если бы не мысль о погибшем товарище, останки которого, скрытые песком, они так и не сумели найти, совсем легко было бы на душе. К опасности и трудностям им было не привыкать, а пока жив, верится в лучшее.
Первый привал пришлось сделать уже через пару часов. Мужчины еще шли бы и шли, но Маша, видел Иван, еле передвигала ноги. Он пожалел ее и остановился. Женщина тут же обессиленно опустилась на песок.
– Плохо тебе? – склонился над ней Иван.
– Ничего, только передохну немного. – Тень виноватой улыбки мелькнула на ее губах. – Попить бы.
Эдуард недовольно присвистнул, когда Иван открутил пробку у фляжки и поднес горлышко к губам Маши, но промолчал.
Чуть погодя отозвал Ивана в сторону и горячо зашептал на ухо:
– Зря ты, нельзя в пустыне много пить. Вода же внутри закипит.
– А может, воды пожалел? – тяжело ворочая распухшим от жары языком, спросил Иван. Сам он не выпил ни капли, экономя воду.
– А что, и пожалел, – с неожиданно прорвавшейся злобой ответил Эдуард. – Не одна она живая. Еще три дня топать, а ты тут реки разливаешь.
Иван резко схватил его за ворот и рывком притянул к себе.
– Мужик ты или нет? Она же женщина! Да и досталось ей больше нашего, сам видишь.
– Да мне не жалко, – испугавшись его ярости, пошел на попятный Эдуард. – Пусть пьет. Только не транжирь.
– Ладно, – внезапно остыл Иван. Ему стало стыдно за свою грубость. – Ты извини. Я еще не в себе после этой ночи.
Он отошел, опустив голову. Гул наполнял ее изнутри, рвал барабанные перепонки, выдавливал глаза из орбит. Ему и в самом деле крепко досталось ночью.
«Не мешало бы отлежаться дня два, – подумал Иван. – Или даже три. А то возьму отпуск, заберу Машу и махнем с ней на север, на самый полюс. К белым медведям в гости. Или лучше к пингвинам? А-а, – зевнул он, – пусть Маша реша…»
Сон едва не сморил его, оборвав мысль. Иван встряхнул головой и закинул тюк с поклажей на плечи. Невесомые прежде одеяла теперь казались неподъемными.
Пошли дальше, но остановки становились все чаще и длительней. Маша изнемогла, черные тени легли под ее глазами, а лицо становилось все бледнее, словно она надела маску страдающего Арлекино. Из глаз сами собой катились слезы, мгновенно высыхая под солнцем и оставляя тоненькие белесые полоски из соли на щеках.
После одного из очередных привалов Иван, передав одеяла Эдуарду, вынужден был взять женщину на руки. Пошли еще медленнее.
Тем временем солнце набрало свою полную злую силу, обесцветив небо. Ноги вязли в песке, едкий пот разъедал глаза. Усталость, словно раскаленная игла, вонзалась в мышцы плеч, вынуждая лечь в манящий мягкий песок и не вставать, пока не пройдет эта невыносимая боль.
Эдуард шел впереди, нагруженный одеялами. Он был обижен, потому что не понимал, зачем ему нести три одеяла, когда лично ему требуется всего одно. Почему он должен отдавать свою долю воды чужой любовнице? Ради чего его заставляют жертвовать своими интересами? Эти злые мысли роились в его голове, но пока еще полу-осознанные, вялые от жары и усталости.
На одном из привалов Маша очнулась и окликнула Ивана.
– Оставь меня здесь, милый, – улыбнулась ему виновато, будто прося прощения за свою просьбу. – Ты дойдешь, а потом вернешься за мной. Я буду тебя ждать. Я дождусь тебя, обеща…
Он не дал ей договорить, накрыл ее губы своими губами, почувствовал, какие они сухие, бескровные, но все с той же легкой горчинкой, такой желанной ему. И быстро отвернулся, чтобы Маша не заметила его заблестевших от подступивших слез глаз.
К вечеру зной спал, и Машу начал бить озноб, но зато она уже не теряла сознания и не просила пить. И это было хорошо, потому что за первый день пути они опустошили почти всю фляжку. Половину того запаса, который имели.
Эдуард сердито потряс фляжкой с остатками воды, засунул горлышко в свой рот, жадно начал глотать. Иван отвернулся, чтобы не видеть. Он уже сделал свой единственный глоток. Берег воду для Маши.
Ночевали на песке, завернувшись в одеяла. Костер не разожгли, не было дров, и холод ночной пустыни пронизывал до костей. Усталость и беспокойные мысли не давали заснуть.
– Мы умрем, Иван? – вдруг спросила женщина.
– Мы дойдем, – чуть помедлив, ответил тот.
– Черта с два, – раздался хриплый голос из темноты. Это Эдуард вмешался в разговор. – Мы все здесь, в этой чертовой пустыне, передохнем.
– Это ложь, – сказал Иван. – Это минутная человеческая слабость.
– Да будьте вы все прокляты! – Будто сама ночь дохнула на них ледяной ненавистью и скрипнула зубами.
Иван промолчал. Надо было спать, беречь силы для завтрашнего дня.
Пробуждение было странным. В голову словно залили расплавленного свинца, а свои руки и ноги Иван совсем не чувствовал, будто те парализовало. Он лежал, касаясь щекой прохладного песка, и видел только чьи-то ноги в грубых запыленных ботинках, в которых один из шнурков когда-то порвался и был связан узлом.
Иван попробовал перевернуться на спину, но не смог и застонал от боли, пронзившей его голову, как будто в темя с размаха вонзили гвоздь. Ему помогли и грубо, рывком перевернули. Он увидел перед собой Эдуарда.







