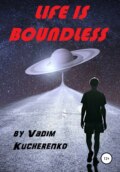Вадим Иванович Кучеренко
Цыганочка
Глаза в глаза. И короткие, хлесткие, словно выстрел в упор, фразы.
– Как зло, – прошептал Михаил. Слезы подступили к его глазам, но он сдержал их. – Я не думал, что ты можешь быть такой.
– Я могу быть любой.
– А счастливой?
– С любым, кто поймет меня.
Он застегнул пуговицы на пиджаке.
– Так, значит, все?
– Почему же? Если ты останешься…
В отчаянии он издал короткий глухой стон. И прижался лбом к холодному стеклу, чтобы охладить пожирающий его изнутри жар.
– Но ведь всего полгода!
– Я не могу ждать. Жизнь так коротка!
– Я люблю тебя!
– Мне мало этого. Я хочу быть единственной.
– Мы будем счастливы.
– Я хочу, чтобы меня понимали.
Сквозь прозрачное стекло Михаил видел, что ветру наскучила игра в гольф, и он начал играть людьми, словно пинг-понговыми шариками, толкая их то в спину, то в грудь. И те или прибавляли шаг, частя ногами и согнувшись почти вдвое, или замедляли, страшась не справиться с порывом ветра и взлететь над тротуаром и неизбежно упасть. Эта игра приносила удовольствие только ветру.
Альбина проводила его до самых дверей. Переступив порог, Михаил оглянулся и сказал:
– Я желаю тебе счастья.
– Ты не волнуйся, – ответила она, закрывая дверь. – Прощай.
Он быстро спустился вниз по узким лестничным пролетам и вышел из подъезда, с усилием открыв тяжелую металлическую дверь, которую с обратной стороны придерживал ветер. Она смотрела на него из окна сверху, Михаил это знал, и пересек двор почти строевым шагом, подняв голову. А за углом ноги его вдруг обмякли, и порыв ветра, взяв реванш, грубо кинул его на серую стену дома, едва не расцарапав лицо о шероховатую кирпичную поверхность. Михаил оттолкнулся от нее и пошел, почти побежал, с трудом переставляя налитые свинцом ноги…
Михаил почувствовал легкий толчок в плечо, повернул голову и увидел на соседней верхней полке молоденькую, на вид не старше семнадцати лет, цыганочку. Она протягивала ему коробку с шашками. Ее свежее смугловатое личико еще не успело огрубеть и покрыться мелкими морщинками, как у многих ее соплеменниц постарше, и на него было приятно смотреть. Впечатление от юности и невинности девушки портили только тяжелые золотые серьги без драгоценных камней, но с густым кружевным орнаментом, свисающие из ее ушей почти до плеч. Одевалась она почти так же, как старая цыганка Рубина, но на ее бедрах была повязана еще одна шаль, поменьше, а грудь украшали монисты из крошечных серебряных монеток в несколько рядов. Пухлые губки девушки приоткрывали в улыбке сверкающий белыми зубками маленький рот.
– Спасибо, – растеряно произнес Михаил, взяв коробку. Цыганочка все так же молча улыбалась, словно ждала чего-то. Но он ее не понимал и только повторил: – Спасибо.
– Хочешь, погадаю? – предложила вдруг юная цыганка. В ее голосе просквозила мимолетная досада на недогадливость Михаила. Ей самой пришлось искать путь для знакомства, и она выбрала самый для себя привычный и простой.
– Денег нет, – смущенно ответил Михаил. Деньги у него были, но он хорошо помнил, что случилось с толстой теткой с нижней полки.
– А я так, – цыганочка торопливо, пока Михаил не передумал, взяла его руку. У нее были прохладные и сухие ладошки, и очень маленькие, почти детские. Она внимательно рассмотрела ладонь Михаила и изменившимся голосом, бойко и сладко, зачастила: – Ой, касатик, ждет тебя дорога дальняя, и встретится тебе на ней много препятствий. Все ты их преодолеешь, яхонтовый мой, да только не радость поселится в твоем сердце, а кручина, потому что сердце свое ты оставил там, откуда начал свою путь-дороженьку…
– Хватит, – Михаил сжал пальцы в кулак и осторожно, чтобы не обидеть гадалку, отнял свою руку. – Не надо. Ведь избежать будущего все равно нельзя?
– Нет, – цыганочка вдруг опечалилась, будто и в самом деле заглянула в будущее Михаила и не увидела в нем ничего хорошего.
Михаил с удивлением подумал, что, кажется, девушка сама поверила в собственное предсказание. Он до этого считал, что гадалки занимаются своим ремеслом только ради денег и врут, почем зря, подобно Ходже Насреддину, когда тот взялся за десять лет научить говорить осла падишаха, будучи при этом убежден, что кто-нибудь из них троих – он сам, падишах или осел, – до назначенного срока обязательно умрет…
Они помолчали. Затем цыганочка прежним, невинным голоском, сказала:
– Ты не обижайся на дядю. Он не злой.
– Как же, того и гляди, зарежет, – усмехнулся Михаил.
Цыганочка возразила:
– Доброго, но бессильного человека всякий обидеть может. Когда дядя Василь был добрый, люди ему много горя причинили, – она вздохнула и печально закончила: – Он и в тюрьме сидел.
– Убил кого?
– Нет, коня пожалел.
– Вот уж не думал, что за такое в нашей стране судят, – Михаил не поверил цыганке. – Верно, выкрал коня?
Румянец пробился сквозь смуглоту щек девушки и окрасил их в пунцовый цвет. Она с гневом сказала:
– Говорю, пожалел, почему не веришь? Ты, наверное, никому не веришь? Сам ты злой!
– Не сердись, – Михаил дружелюбно улыбнулся. Его позабавила горячность цыганочки. Гнев сделал ее еще привлекательнее. – Ты расскажи, я же ничего не знаю.
– Не знаешь, не мели языком, – отрезала она, но уже мягче. – Слушай…
Дядя Василь был тогда молод и очень любил лошадей. А тех становилось все меньше, их заменяли машины. Человек, привыкнув к тому, что у его железных помощников «вместо сердца пламенный мотор», начал тяготиться тем, что лошадь – живое существо, ее надо кормить и поить, а более того – относиться к ней с лаской. И лошади, в которых перестали нуждаться, вымирали. Уже даже в цыганском таборе одни жалкие клячи тоскливо доживали свой век, негодные ни на что, кроме как понуро тащить скрипучие повозки со скарбом.
Василь же мечтал на красавце коне птицей пронестись по степи, чтобы сердце от счастья замирало в груди, и ветер пытался выбить его из седла, а он бы смеялся над ветром и был пьян без вина. Он с грустью смотрел на плешивых от возраста меринов. Он отдал бы все земные сокровища за скакуна, который вел бы свою родословную от знаменитого Тагора, потомка одного из трех жеребцов, к которым восходят все чистокровные лошади мира – рыжего Эклипса и гнедых Мэтчема и Хэрода. Но как отдать то, чем не владеешь? У него были лишь молодость да пара крепких, привычных к тяжелой работе рук. И тогда Василь, в недобрый час, решил уйти из табора.
– Подумай, Василь, – не удерживая, предостерег его Баро, старейшина рода и самый мудрый из всех цыган. – В таборе ты не каждый день сыт, зато волен, как сокол. Сможешь ли ты привыкнуть к иной жизни?
– Зачем привыкать? – беспечно отмахнулся Василь. Кровь кипела в нем, молодая и безрассудная. – Заработаю денег, куплю коня и вернусь. Знаешь, какого коня я себе достану!
– Вижу, не удержать тебя, Василь, пришло твое время, – грустно ответил Баро. – Видно, правду говорил мой дед, а ему еще его дед, что Бог цыган полюбил за их веселый нрав и талант и потому не стал привязывать к земле, как другие народы, а подарил им для жизни весь мир. Вот цыгане всю жизнь и кочуют – чтобы исполнить завет Господа. Где только не встретишь рома… Иди с Богом, но не забывай один из наших главных законов: «Ни один цыган не может быть над другим».
Горел в ночной степи костер, отбрасывая блики на смуглые лица цыган, зажигая их глаза и сердца, пробуждая в них цыганский дух, романипэ. И самые старые из них готовы были сейчас все бросить и уйти с Василем в поисках удачи, забыв о своих годах и болезнях…
Но на рассвете он ушел один. Табор спал. Сонно побрехивали собаки в селе, на окраине которого раскинули свои кибитки цыгане. Густой утренний туман окутал землю, и когда через несколько шагов Василь оглянулся, он уже не увидел родных кибиток. Колыхающаяся молочно-серая масса стеной оградила его от прошлой жизни.
Вскоре в одном из колхозов, где оставили с десяток лошадей для подсобных работ, Василь устроился на конюшню. Председатель, здоровенный толстомордый мужик, прежде долго и недоверчиво разглядывал его, чуть ли не ощупывал, и, возможно, с удовольствием попробовал бы на зуб, чтобы проверить, не фальшивую ли монету ему пытаются всучить. Тяжело сопя, спросил:
– А ты, чернявый, мне коней не покрадешь? Смотри, у меня с барышниками разговор короткий!
И поднес к лицу цыгана огромный кулак, поросший жесткими черными волосами. Василь с достоинством ответил:
– Мне чужого не надо.
– Ну, ладно, пошли на конюшню, покажу тебе твое хозяйство, – махнул рукой председатель. По дороге, гулко шлепая кирзовыми сапогами по лужам, допытывался: – К нам-то ты чего? Или прогнали за что свои? Ну, молчи, правда все равно наружу выйдет, ее от людей не скроешь…
В конюшне было сумрачно и прохладно, сильно пахло навозом. Под ногами лежали засохшие и еще свежие дымящиеся кучки, их никто не убирал. Тревожно ржали в стойлах голодные кони, заслышав человеческие голоса. Председатель едва докричался до конюха, который присматривал за лошадьми. Тот, словно домовой, выбрался откуда-то из темного угла, шумно зевая. Тупо уставился на председателя.
– Митька, бесов сын,– рассердился тот. – Опять спал? Ой, гляди, оштрафую я тебя на десять трудодней!
– И вовсе нет, – нехотя оправдывался Митька, пятерней почесывая в бороде, где застряла сухая трава, выдавая его с головой.
– А чего они тогда у тебя ясли грызут, точно у них зубы режутся? Ведь не кормил, ирод!
– Задавал с вечера, – Митька с ожесточением сплюнул. Солнце приближалось к зениту, и сам он явно недавно пообедал и прикорнул на часок для лучшего пищеварения. Но это его не смущало. – Я бы от такой кормежки уже в двери не пролез бы, а у них ребра скоро шкуру проткнут. Напасти на них нет!
Митька явно терпеть не мог коней. И они платили ему тем же. Стоило ему подойти поближе, кони начинали зло фыркать и стучать копытами о доски перегородок. Митька испуганно шарахался и норовил схватить вилы. Только присутствие посторонних удерживало его от скорой и привычной расправы.
– Ну, все, Аника-воин, отвоевался. Сдавай дела вот этому чернявому, – велел председатель. – И шагай в правление. Там разберемся, куда тебя определить.
– Или не оправдал, Матвей Иваныч? – забеспокоился Митька. Суетливо поддернул штаны. В голове у него уже струились седые волосы, но было ему, по-видимому, на роду написано до самой смерти зваться уменьшительно-пренебрежительным именем. Даже малые дети окликали его Митькой, и он не обижался, часто поминая народную мудрость насчет горшка и печи.
Председатель не ответил, повернулся к Василю и строго указал:
– Коней здесь дюжина, но все они одной Звездочки не стоят. За ней присмотр особый. Этот огузок чуть было их всех не уморил. Так что принимай у него конюшню, а через неделю приду, гляну, не ошибся ли в тебе.
Председатель ушел. Митька что-то обиженно бормотал себе под нос, выбирая из волос и бороды клочки сена. Василь обошел конюшню. Худые и грязные кони косились на него и тихо похрапывали, но не пытались лягнуть, словно чувствуя к нему доверие. Возле одного стойла Василь задержался. Здесь стояла пепельная кобылица с белым пятном на лбу. У нее были сухие бабки и тонкий круп, и среди окружающих ее низкорослых крестьянских лошадок она выглядела изнеженной принцессой.
– Это и есть Звездочка? – спросил Василь у Митьки.
– Она, паскуда, – кивнул тот. – Самая вредная из всех. То ей не так и это не этак…
Звездочка, будто поняв обидные слова Митьки, вдруг заржала и попыталась подняться на дыбы. Но в узком стойле для этого не хватило места, и она опять замерла, приподнимая верхнюю губу и обнажая зубы. А у Василя радостно блеснули глаза. Он с первого взгляда полюбил Звездочку, как не любил еще ни одну женщину…